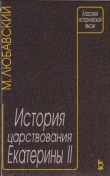Текст книги "Екатерина II, Германия и немцы"
Автор книги: Клаус Шарф
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
3. Об интерпретационных рамках данного исследования
Принимая во внимание специфику историографической традиции, автор хотел бы обезопасить себя от вполне возможных, но неверных предположений о том, что могло бы стать в дальнейшем предметом рассмотрения. Во-первых, целью автора не является ревизия национальных представлений в век абсолютизма и Просвещения на основании, скажем, «доказательств происхождения». Если, будучи императрицей, Екатерина проводила политику, отвечавшую, по ее представлениям, интересам ее – Российской – империи, то это еще не дает повода объявить ее «плохой» немкой. Автор, во-вторых, не собирается искать в ее немецком происхождении причины политических решений, даже если они и заслуживают критики в силу того, что могли не учитывать интересов России. В-третьих, он не претендует на то, чтобы выставлять Екатерину олицетворением той или иной национальной идеи – прусской или русской, обе из которых с момента изобретения в середине XIX века и вплоть до наших дней больше служат инструментами актуальной политики или ориентирами будущей, но никак не способствуют пониманию прошлого[111]111
С «крахом либеральной концепции формирования нации в 1848 году» связывает возникновение «прусской легенды» Ульрих Шойнер: Scheuner U. Der Staatsgedanke Preußens. Köln; Graz, 1965; здесь цит. по сокр. изд.: Büsch O., Neugebauer W. (Hrsg.) Moderne preußische Geschichte 1648–1947. Eine Anthologie. Bde. 1–3. Berlin; N.Y., 1981. Bd. 1. S. 26–73, особенно S. 62–63. Об идеологической функции «прусской идеи» в консервативной публицистике ФРГ см.: Blasius D. Einleitung: Preußen in der deutschen Geschichte // Idem. (Hrsg.) Preußen in der deutschen Geschichte. Königstein (T.), 1980. S. 9–46; здесь S. 13–19.
[Закрыть]. И, в-четвертых, автор не собирается навязывать обойденную вниманием немецкой историографии российскую императрицу в духовные дочери воссоединившейся Германии.
Оставаясь в рамках исторического контекста, то есть прежде всего отказываясь от стремления излечить Россию привитием ей немецких нравов, следует ограничиться более конкретными проблемами. Стержневой интерес исследователя, его главный ориентир в этой работе – биография Екатерины. В первую очередь усилия автора направлены на то, чтобы установить, какой именно опыт детских и юношеских лет, проведенных великой княгиней и российской императрицей в Германии, вошел составной частью в ее картину мира, повлиял на формирование у нее образа Германии и представления о немцах и о людях в целом. Влияние на формирование личности Екатерины, не обязательно ею самой осознанное, мог оказать и опыт раннего периода ее жизни, причем воздействие его могло быть таково, что сама императрица вовсе не всегда его ожидала. Интерпретируя биографию Екатерины, прежде всего необходимо отделить этот ранний жизненный опыт, накопившийся до 1744 года, от приобретенных ею впоследствии, уже в России, знаний и представлений о Германии и немцах, не говоря уже о целях и методах ее «германской» политики. Тем не менее прояснить возможную связь между немецким происхождением императрицы и ее политикой по отношению к миру немецких государств вплоть до эпохи Французской революции будет впоследствии необходимо. Насколько позволяют опубликованные источники, мы будем обращать внимание на происхождение имевшихся у Екатерины знаний, способ усвоения и форму их передачи, хотя, разумеется, коммуникация и рецепция как предмет исследования потребовали бы интенсивной архивной работы.
Конечно, в этой работе мы только подойдем к пониманию того, какой Екатерина видела Германию и кого она причисляла к немцам. Так или иначе, исходить придется из того факта, что со времен Тридцатилетней войны немецкая история неотделима от общеевропейской[112]112
См. об этом: Schilling H. Höfe und Allianzen. Deutschland 1648–1763. Berlin, 1989. S. 43–44. См. также: Aretin K.O., Freiherr von. Das Reich. Friedensgarantie und europäisches Gleichgewicht 1648–1806. Stuttgart, 1986.
[Закрыть]. Итак, пока что политическим пространством немецкой истории в XVIII веке будем считать Священную Римскую империю германской нации. Помимо этого, с точки зрения нашей проблематики большое значение имеет тот факт, что начиная со Средних веков империя была родиной не одних только немцев, как показывает пример екатерининских учителей-гугенотов; однако еще более важно то, что многие представители немецкой культуры проживали за границами империи, будучи подданными как германских, так и иных государств, и не в последнюю очередь – самой российской императрицы[113]113
Здесь мы следуем интерпретации Р. Фирхауса. См.: Vierhaus R. Deutschland im Zeitalter des Absolutismus. S. 9–10.
[Закрыть]. Особого внимания заслуживают герцогство Курляндское, находившееся под российским протекторатом, и остзейские провинции Российской империи, сохранившие сословную структуру, которая обеспечивала уникальные привилегии – прежде всего немецкому рыцарству и городской знати – даже в условиях самодержавного государства[114]114
См.: Sacke G. Livländische Politik Katharinas II. // Quellen und Forschungen zur baltischen Geschichte: H. 5. Riga; Posen, 1944. S. 26–72; Зутис Я. Остзейский вопрос; Neuschäffer H. Katharina II. und die baltischen Provinzen. Hannover, 1975; Elias O. – H. Reval in der Reformpolitik Katharinas II. (1783–1796). Bonn – Bad Godesberg, 1978; Madariaga I. de. Russia in the Age of Catherine the Great. P. 61–66 (см. в переводе на рус. яз.: Мадариага И. де. Россия в эпоху Екатерины Великой. С. 113–120 – Примеч. науч. ред.). О Курляндии см. прежде всего: Donnert E. Kurland im Ideenbereich der Französischen Revolution. Politische Bewegungen und gesellschaftliche Erneuerungsversuche 1789–1795. Frankfurt a.M. etc., 1992.
[Закрыть]. Однако эти провинции выполняли и важную посредническую функцию, связывая между собой, с одной стороны, западноевропейское и немецкое Просвещение, а с другой – российское[115]115
Обобщающего труда по этой теме пока нет, однако можно указать работы по отдельным вопросам, принадлежащие Э. Амбургеру, Р. Бартлетту, Э. Доннерту, Х. Ишрайту, И. Йюрио, Г. Мюльпфордту, Х. Нойшэфферу и Г. фон Рауху (см. в указателе литературы: Amburger E., Donnert E., Bartlett R., Ischreyt H., Jürjo I., Mühlpfordt G., Neuschäffer H., Rauch G. von).
[Закрыть]. Кроме того, в XVIII веке усилился приток в Россию немецких поселенцев, купцов, промышленников и ремесленников, ученых, учителей и художников[116]116
См.: Stumpp K. Die Auswanderung aus Deutschland nach Rußland in den Jahren 1763 bis 1862. Tübingen, [1972]; Bartlett R.P. Human Capital. The Settlement of Foreigners in Russia, 1762–1804. Cambridge, 1979; Brаndes D. Die Ansiedelung von Ausländern im Zarenreich unter Katharina II., Paul I. und Alexander I. // JGO. N.F. Bd. 34. 1986. S. 161–187; Кабузан В.М. Немецкое население в России в XVIII – начале XX века // ВИ. 1989. № 12. С. 18–29.
[Закрыть].
Политическая ситуация в Германской империи XVIII столетия определялась соперничеством двух абсолютистских держав – Австрии и Пруссии. В силу этого важным представляется вопрос о том, как Екатерина судила о каждой из них и прежде всего – о монархах лично и их политике, какие выводы она делала из своих оценок применительно к российской политике. Однако теперь, когда новейшие исследования признали непреходящее воздействие на историю Германии и Европы традиционного территориального членения, сословной структуры «старого рейха», его органов власти и учреждений с их клиентелой, его системы судопроизводства и практики институционализированного разрешения конфессиональных проблем[117]117
См. в указателе литературы работы Карла Отмара, барона фон Аретина (Aretin K.O., Freiherr von), Фолькера Пресса (Press V.) и Рудольфа Фирхауса (Vierhaus R.).
[Закрыть], приобрел особое значение и вопрос о том, замечала ли российская императрица за рамками австро-прусского дуализма существование других государств в составе Священной Римской империи, какую роль она отводила последней в системе европейских государств, с помощью какого понятийного аппарата выражала сделанные ею наблюдения и, наконец, существовала ли как таковая российская политика по отношению к империи. Кроме того, необходимо понять взгляды Екатерины на имперские штаты (Reichsstände), начав с ее детских воспоминаний и заканчивая годами Французской революции, установить и то, какими политическими целями руководствовалось екатерининское правительство в своих отношениях с суверенными немецкими княжествами и каковы были формы реализации этих целей и ответные реакции немецкой стороны, в конце концов – какие результаты имела эта политика.
Собственная история была предметом размышлений Екатерины в ее автобиографических записках, бесед с высокообразованными корреспондентами, повседневного общения, связанного с заботами правителя, начиная с самого детства и вплоть до ее смерти в революционное десятилетие. Следуя за рассуждениями Екатерины, книга отражает ее эпоху, помещая жизнь императрицы в контекст XVIII столетия – событий русской, немецкой, русско-немецкой и европейской истории «екатерининского века». Для «оживления» колорита эпохи и решительного опровержения некоторых сомнительных трактовок достаточно порой одной цитаты, указания на источники. Однако от простого пересказа источников историка удерживает, с одной стороны, временн́ая дистанция, преодолеть которую можно лишь с помощью интерпретации, а с другой – историографическая традиция, накладывающая свою систему понятий на каждый период прошлого, использующая специальную терминологию в научной коммуникации и четко определяющая свои познавательные интересы. Несмотря на то что некоторые употребительные в XVIII веке исторические концепты сами стали частью истории – например, «деспотизм», обозначавший в немецком языке форму государственного устройства, или причисление Московского государства и Российской империи к «державам»[118]118
О возникшем в XVIII веке обозначении для могущественных государств – слове «держава» (нем. Macht) – см. обзорный труд: Klueting H. Die Lehre von der Macht der Staaten. Das außenpolitische Machtproblem in der «politischen Wissenschaft» und in der praktischen Politik im 18. Jahrhundert. Berlin, 1986. S. 31–38.
[Закрыть] «Севера»[119]119
См.: Lemberg H. Zur Entstehung des Osteuropabegriffs im 19. Jahrhundert. Vom „Norden” zum „Osten” Europas // JGO. N.F. Bd. 35. 1985. S. 48–91; Bassin M. Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space // SR. Vol. 50. 1991. P. 1–17.
[Закрыть], – в нашем распоряжении есть целый арсенал терминов: «абсолютизм», «Просвещение» и «просвещенный абсолютизм», «феодальное общество», «сословное общество» и «придворное общество», «буржуазное общество», «публичная сфера» и «эмансипация», «секуляризация», «европеизация» и «вестернизация», «мировая капиталистическая система», «отсталость» и «модернизация», «Восток» и «Запад», «европейское равновесие» и «гегемония», «ancien régime» и «революция». Хотя автор не собирается подвергать критическому пересмотру сами эти понятия, ставшие устойчивыми терминами в современной исторической науке, или заниматься внешним исследованием обозначаемых ими исторических структур и процессов, он, тем не менее, считает их использование в качестве инструмента интерпретации необходимым ради соблюдения требований научного дискурса. В дальнейшем мы будем обращаться к этому дискурсу, если это представится целесообразным, пусть даже лишь для того, чтобы проверить, насколько устойчивые термины, возникшие из европейской истории Нового времени, применимы в современной историографии России XVIII века. Такого рода отрефлексированное использование универсально-исторических понятий содействует рассмотрению темы не в национальной, а в европейской перспективе.
Обзор интерпретационных рамок предлагаемого исследования был бы неполным без типологии понятийного аппарата. Это относится как к предварительным соображениям, исходя из которых автор анализирует российскую историю XVIII века, так и к намеченной здесь парадигме европейской системы просвещенного абсолютизма.
Идя в ногу с новейшими работами, за предпосылку своего исследования автор взял изменчивую, но нерасторжимую взаимосвязь между внутренними и внешними факторами российской политики XVIII столетия, которые в процессе научного поиска могут все же рассматриваться изолированно друг от друга[120]120
См.: Zernack K. Zum Epochencharakter der Peterzeit // Idem. Handbuch der Geschichte Rußlands. Bd. 2, Halbbd. 1. S. 214–224.
[Закрыть]. Сводя это утверждение к общей формуле, можно сказать, что доиндустриальная модернизация России, начавшаяся во времена Петра Великого, была направлена на утверждение государственного суверенитета и превращение империи в конкурентоспособное государство в системе европейских государств. Российская политика как целое в течение продолжительного времени – отчасти завуалированно, отчасти открыто – неизбежно ориентировалась на достижение этой цели, черпая из нее новые и новые импульсы. С одной стороны, она боролась за свои интересы сначала в Восточной Европе, позже, разрастаясь, – и в Центральной, прибегая время от времени к военной силе, а иногда и к дипломатическим средствам, ссылаясь на принцип равновесия между европейскими державами[121]121
См.: Wittram R. Peter I., Czar und Kaiser. Bd. 1. S. 327–328; Zernack K. Der große Nordische Krieg // Idem. Handbuch der Geschichte Rußlands. Bd. 2, Halbbd. 1. S. 327–328; Fenster A. Rußland im System der europäischen Mächte 1721–1725 // Ibid. S. 349–362; Müller M.G. Das „petrinische Erbe“: Russische Großmachtpolitik bis 1762 // Ibid. S. 402–444; Idem. Nordisches System – Teilungen Polens – Griechisches Projekt. Russische Außenpolitik 1762–1796 // Ibid. Bd. 2, Halbbd. 2. S. 567–623.
[Закрыть]. С другой стороны, как подчеркивалось в начале[122]122
См. выше, с. 10–12.
[Закрыть], процесс внутреннего реформирования еще при Петре обрел необратимую собственную динамику, получив всемирно-историческое значение.
Не отказываясь формально от своей традиционной легитимации, самодержавие постепенно стало все больше и больше походить на современные ему абсолютистские монархии Запада – как с точки зрения теоретического обоснования, так и с точки зрения образа государства. Еще Петр I, царь и император, возвел всеобщее благо в ранг ведущего принципа своей реформаторской деятельности, приравняв обязанности правителя к служению государству. А Екатерина II прямо рассчитывала на то, что ее правление войдет в историю как эпоха просвещения. Однако и в ее царствование самодержавие не сумело последовательно секуляризоваться, хотя императрица и передала церковное имущество в собственность государства, а в законодательной деятельности стремилась заново мотивировать, в духе своего времени, традиционную толерантность по отношению к неправославным подданным[123]123
К вопросу о cекуляризации церковных имений см.: Scharf С. Innere Politik und staatliche Reformen seit 1762. S. 687, 691; о периодизации политики по отношению к неправославным вероучениям см.: Idem. Konfessionelle Vielfalt und orthodoxe Autokratie im frühneuzeitlichen Rußland // Melville R., Scharf C., Vogt M., Wengenroth U. (Hrsg.) Deutschland und Europa. Bd. 1. S. 179–192.
[Закрыть]. Начиная с Петра I все правители пытались изменить устройство армии, административной и финансовой систем, ориентируясь на западный, более рациональный образец, а Екатерина еще и предприняла попытку выстроить традиционную верхушку дворянства и городских жителей как привилегированные корпорации, ожидая от них результатов, соответствующих их возросшему статусу в государстве[124]124
Geyer D. «Gesellschaft» als staatliche Veranstaltung. Sozialgeschichtliche Aspekte des Behördenstaates im 18. Jahrhundert // Idem. Wirtschaft und Gesellschaft im vorrevolutionären Rußland / Hrsg. D. Geyer. Köln, 1975. S. 20–52; Scharf C. Innere Politik und staatliche Reformen seit 1762. S. 709–751, 788–806.
[Закрыть]. И в целом, следует сказать, российский абсолютизм, подобно другим крупным европейским монархиям, в интересах поддержания и расширения своей власти активно мобилизовал собственные экономические и общественные ресурсы, а также осваивал дополнительные источники мощи, используя для этого внешнюю политику и ведя войны; при этом основная нагрузка постоянно возраставших издержек на содержание войска, флота и двора, совершенствование государственного аппарата и процессы культурной и цивилизационной вестернизации ложилась на категории населения, несшие налоговое бремя и обязанные рекрутской повинностью.
Инерционные силы, сопротивлявшиеся форсированной модернизации, можно разделить на внешние и внутренние – это важно указать в исследовательских целях; в действительности же в своих конкретных исторических проявлениях они образовывали чрезвычайно сложное переплетение. Они накладывались друг на друга, тормозили или – в иные моменты – взаимно усиливали друг друга настолько, что, казалось, угрожали подорвать государственные устои и общественное устройство[125]125
Это утверждение верно прежде всего по отношению к годам первой в царствование Екатерины войны с Османской империей (1771–1774). См.: Scharf C. Innere Politik und staatliche Reformen seit 1762. S. 751–788.
[Закрыть]. Соразмерно цели, которую преследовало государство, – цели самоутверждения – некоторые факторы воздействовали амбивалентно, причем самым устойчивым из них было принципиальное решение об открытии России по отношению к Западу, что, конечно, решало некоторые проблемы, но, с другой стороны, создавало новые. Так, укрепление гегемонистских позиций России в восточной части Европы не только увеличивало ее возможности для политического и военного вмешательства, но и в некоторых ситуациях прямо принуждало ее к интервенциям ради соблюдения авторитета великой державы. Вступление России в торговые отношения с Европой не только содействовало росту ее экономических ресурсов, но и на долгое время определило «полупериферическую» структуру ее производительных сил и производственных отношений[126]126
Среди историков, взвешенно относящихся к значению Восточной Европы в истории «международной системы», можно назвать Иммануэля Валлерштайна и Ханса-Хайнриха Нольте. См.: Nolte H. – H. Die eine Welt. Abriß der Geschichte des internationalen Systems. Hannover, 1982.
[Закрыть], приведя, кроме того, к накоплению значительных государственных долгов в царствование Екатерины. Вестернизация культуры в век Просвещения означала в первую очередь трансфер людей и идей, образования и науки, практических знаний и навыков, ускорявших политику реформ. С одной стороны, этот импорт, очень скоро переросший во взаимный обмен, был рассчитан на стабилизацию самодержавной власти за счет постоянного обеспечения государства ресурсами. С другой стороны, в нем крылся двойной риск: во-первых, через все категории подданных он проводил дополнительную линию социокультурного раздела между теми, кто участвовал в процессе вестернизации, кому образование помогало продвинуться по государственной службе, и теми, кто увязал в традиционной среде. Во-вторых, вопреки всем государственным целям, просвещенная мысль несла в себе разрушительное ядро: в конечном счете именно от этой мысли – а отнюдь не от сословных учреждений Екатерины – в последней четверти XVIII века начала исходить формирующая общество сила, пусть даже неотделимая вплоть до рубежа столетия от самого государства[127]127
См. оригинальное и очень увлекательное исследование, посвященное социальному, политическому и экономическому аспектам издательского и типографского дела в России XVIII века: Marker G. Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700–1800. Princeton (N.J.), 1985.
[Закрыть].
Поскольку горизонты этого исследования обозначены противоположными полюсами русско-немецких и русско-европейских отношений в Центральной и Западной Европе, оно ориентировано прежде всего на анализ дошедшего до нас письменного наследия самой Екатерины. В сохранившихся фрагментах, отражающих ее образ западного мира, можно обнаружить две большие области: с одной стороны – политика держав, действия их глав и государственные дела, осуществлявшиеся в рамках системы европейских держав, а также династические связи и внутренние тенденции в этих государствах, с другой – события и процессы, происходившие в век Просвещения в интеллектуальной, культурной, научной и художественной сферах. На обе эти области распространялся «интерес» императрицы – познавательный и государственный одновременно. При этом познавательный интерес, в значительной мере сформированный политикой, обострялся и направлялся интересами государственными.
Понятие «просвещенный абсолютизм» используется в работе в самом широком смысле. В современной исторической науке этот термин применяется для обозначения стиля правления и форсированной реформаторской политики, практиковавшихся с 1740 по 1789 год во многих княжествах Европы. Однако «европейской проблемой» просвещенный абсолютизм является не только потому, что многообразие его исторических форм, существовавших параллельно в эпоху, длившуюся всего несколько десятилетий, снова и снова заставляет прибегать к сравнительному анализу[128]128
Aretin K.O., Freiherr von. Einleitung: Der Aufgeklärte Absolutismus als europäisches Problem // Idem. (Hrsg.) Der Aufgeklärte Absolutismus. S. 11–51.
[Закрыть]. Этот аспект интерпретации необходимо дополнить с помощью давно известного наблюдения: просвещенный абсолютизм представлял собой также «широкий и сложный европейский феномен»[129]129
Gershoy L. From Despotism to Revolution. 1763–1789. N.Y.; Evanston; London, 1944 (reprint: 1963). P. 318.
[Закрыть], «нечто большее, чем сумму такого рода явлений в нескольких государствах»[130]130
Здесь цит.: Aretin K.O., Freiherr von. Der Aufgeklärte Absolutismus als europäisches Problem // Documentatieblad Werkgroep 18e-eeuw. 1981. № 49/50. S. 11–23, здесь S. 21.
[Закрыть]. С самого начала своего возникновения в разных государствах, в особенности в Пруссии при Фридрихе II, он развился в широкую транснациональную систему коммуникации просвещенных монархов, их образованных супруг, семейств и дворов, ведущих министров и дипломатов со всей их клиентелой. Эта европейская система просвещенного абсолютизма возникла в определенный момент как «смесь» двух других систем: с одной стороны, «солидарности престолов» – традиционной и постоянно обновлявшейся общности суверенных правителей и европейской аристократии[131]131
Gollwitzer H. Europabild und Europagedanke. Beiträge zur deutschen Geistesgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. München, 1951 (2. Aufl.: 1964). S. 50–52.
[Закрыть] и, с другой стороны, расширявшейся и уплотнявшейся сети коммуникации европейского Просвещения[132]132
Новые результаты изучения этой сети коммуникации можно найти в обобщающем исследовании, представляющем собой также и источник идей для дальнейших разысканий: Maurer M. Europäische Kulturbeziehungen im Zeitalter der Aufklärung. Französische und englische Wirkungen auf Deutschland // Das achtzehnte Jahrhundert. Bd. 15. 1991. S. 35–61.
[Закрыть].
По сравнению с обеими невероятно могущественными системами, давшими начало новой, третьей, последняя обладала лишь ограниченной автономией. С одной стороны, она продолжала зависеть от интересов политической власти, конкуренции и конфликтов правящих домов и государств. Зародившись около 1750 года, новая система значительно пострадала уже в результате Семилетней войны. Однако и впоследствии напряженность в отношениях между государствами, вызванная властными амбициями просвещенных монархов, в первую очередь Фридриха II и Иосифа II, отрицательно сказывалась на коммуникации. По мере расхождения политических интересов, как, например, в случае Фридриха II и Екатерины после 1780 года, «благородное состязание»[133]133
Aretin K.O., Freiherr von. Einleitung // Idem. (Hrsg.) Der Aufgeklärte Absolutismus. S. 41.
[Закрыть] быстро утратило свое благородство, соперничество явственно просвечивало сквозь стандартные любезности, а сугубо «доверительные» беседы и переписка с третьими лицами со временем наполнились оскорблениями в адрес бывшего единомышленника – то разъяренными, то циничными, в зависимости от темперамента и настроения.
С другой стороны, принадлежность к европейской системе просвещенного абсолютизма определялась соблюдением правил просвещенной коммуникации. Характерное для ее участников взаимодействие заключалось, главным образом, в общении друг с другом и с авторитетными просветителями в письмах и при личных встречах, в обмене идеями и опытом, а также в совместных действиях, шедших на пользу Просвещению. Принципиальным условием причастности этой коммуникации к просвещенческому дискурсу была ее публичность. Предметом постоянных публичных «политических» дискуссий являлся, в частности, вопрос о том, кого из монархов можно причислять к свободной от государственных и сословных границ république des lettres и «партии просветителей» и по каким критериям можно проводить такой отбор[134]134
Об этом см. прежде всего: Schlobach J. Französische Aufklärung und deutsche Fürsten // ZHF. Bd. 17. 1990. S. 327–349.
[Закрыть].
Для европейского сценария важно учитывать замечание Хорста Мёллера, высказанное применительно к Пруссии и Германии:
Адекватное XVIII столетию понятие политического должно учитывать как предпринимавшиеся просветителями попытки подойти к законодательству и действиям правительства на основе разумности, так и политическую инструментализацию «республики ученых» и публичных дискуссий, имевших место внутри нее[135]135
Möller H. Vernunft und Kritik. Deutsche Aufklärung im 17. und 18. Jahrhundert. Frankfurt a.M., 1986. S. 301–302. О более ранних и в целом более острых дискуссиях во Франции см. хорошо структурированную статью Ганса Ульриха Гумбрехта и Рольфа Райхардта: Gumbrecht H.U., Reichardt R. Philosophe, Philosophie // Reichardt R., Schmitt E. (Hrsg.) Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680–1820. Heft 3. München, 1985. S. 7–88.
[Закрыть].
Последнее связано с тем, что представить себе коммуникацию внутри транснациональной системы просвещенного абсолютизма как идеальный дискурс равноправных партнеров, свободный от напряженности и властных амбиций, не позволяют не только серьезные конфликты между крупными державами во второй половине XVIII века. Конфликты являлись результатом, во-первых, скрытых противоречий между абсолютистскими амбициями князей и просвещенческой мыслью, независимо от того, преследовала ли она рационалистские или эмансипаторские цели, – результатом «диалектики международных societas civilis как формы выражения просвещенческого космополитизма и межгосударственной политики, определявшейся принципом равновесия сил»[136]136
Такая интерпретация предложена в фундаментальном труде по истории идей эпохи просвещенного абсолютизма: Bazzoli M. Il pensiero politico dell’assolutismo illuminato. Firenze, 1986. P. 526 (курсив в оригинале).
[Закрыть]. Продолжилась борьба за публичную сферу, поскольку ее быстро научились использовать в политических целях и «антипросветители», и критики монархии[137]137
Западногерманская историческая наука долгое время находилась под влиянием двух работ по истории идей, не обошедших вниманием и социально-историческую проблематику: Koselleck R. Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. Freiburg; München, 1959 (переизд.: Frankfurt a.M., 1973). См. также: Habermas J. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Neuwied; Berlin, 1962. 5. Aufl. 1971. Поворотной в исследованиях социально-исторических аспектов немецкого Просвещения стала следующая работа: Kopitzsch F. Einleitung: Die Sozialgeschichte der deutschen Aufklärung als Forschungsaufgabe // Idem. (Hrsg.) Aufklärung, Absolutismus und Bürgertum in Deutschland. Zwölf Aufsätze. München, 1976. S. 11–169. Из трудов, обобщающих хотя бы в некоторой степени уже практически необозримое число работ, см., например: Im Hof U. Das gesellige Jahrhundert. Gesellschaft und Gesellschaften im Zeitalter der Aufklärung. München, 1982; Möller H. Vernunft und Kritik; Dülmen R. van. Die Gesellschaft der Aufklärer. Zur bürgerlichen Emanzipation und aufklärerischen Kultur in Deutschland. Frankfurt a.M., 1986. О развернувшихся во французской публицистике боях между «философами» и «антифилософами» см.: Gumbrecht H.U., Reichardt R. Philosophe, Philosophie. S. 24–40. К вопросу о немецком консерватизме, в основании которого лежали антипросвещенческие идеи эпохи, предшествовавшей Французской революции: Valjavec F. Die Entstehung der politischen Strömungen in Deutschland 1770–1815. München, 1951 (reprint: Kronberg i.T.; Düsseldorf, 1978); Epstein K. The Genesis of German Conservatism. Princeton (N.J.), 1966; в переводе на немецкий язык с искаженным подзаголовком: Idem. Die Ursprünge des Konservatismus in Deutschland. Der Ausgangspunkt: Die Herausforderung durch die Französische Revolution. 1770–1806. Frankfurt a.M.; Berlin; Wien, 1973.
[Закрыть]. Во-вторых, иерархия в семье европейских монархов не только сохранилась, но и восстанавливалась снова и снова после династических катастроф, дублируясь созданной самими философами-просветителями шкалой, отражавшей их предпочтения среди правителей. Надо признать, что безусловно просвещенными во второй половине XVIII века считались и некоторые далеко не самые могущественные князья, например Карл Фридрих Баденский, Карл Август Саксен-Веймарский или Леопольд Франц Ангальт-Дессауский. Однако и примеры из числа исторических деятелей (царь Соломон, Марк Аврелий или французский король Генрих IV), и сам просвещенный монарх Фридрих II – принадлежавший той же эпохе образцовый правитель этого типа – возникли вовсе не из среды правителей малых европейских государств. На фридриховскую Пруссию, пусть даже лишь в своих военных амбициях, ориентировались и значительно менее могущественные князья, часто вовсе не принадлежавшие к клиентеле самого короля[138]138
См.: Press V. Der Typ des absolutistischen Fürsten in Süddeutschland // Vogler G. (Hrsg.) Europäische Herrscher. S. 123–141, здесь S. 136–138. Указание на многообразие форм, в которых нашел свое проявление просвещенный абсолютизм в Германии, не противоречит тому факту, что именно Пруссия XVIII века служила его моделью. См.: Weis E. Der aufgeklärte Absolutismus in Deutschland in den mittleren und kleinen deutschen Staaten // Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. Bd. 42. 1979. S. 31–46 (reprint: Idem. Deutschland und Frankreich um 1800. Aufklärung – Revolution – Reform / Hrsg. W. Demel, B. Roeck. München, 1990. S. 28–45).
[Закрыть].
В-третьих, общественное мнение эпохи европейского ancien régime также было весьма иерархически выстроено, подразделяясь на сферы влияния, которые под воздействием конкуренции между несколькими державами могли не совпадать с политическим делением континента и системой клиентелы крупных держав. Для нашего исследования это означает «выявление асимметрии, описание культурных гегемоний без свойственного триумфаторам шовинизма и характерных для побежденных затаенных обид и равный учет многообразия и доминирования, постоянства и изменчивости»[139]139
Maurer M. Europäische Kulturbeziehungen im Zeitalter der Aufklärung. S. 36–37.
[Закрыть]. Несмотря на то что на протяжении XVIII века значительно вырос авторитет английской культуры, особенно заметный на фоне явного господства французской во времена Людовика XIV, во главе просвещенной иерархии, по крайней мере на Европейском континенте, стояли начиная с 1750-х годов Вольтер, Монтескьё и энциклопедисты, сыгравшие не последнюю роль в самой подготовке английского влияния[140]140
Rousseau A.M. L’ Angleterre et Voltaire. Vols. 1–3. Oxford, 1976. (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. Vols. 145–147); Maurer M. Aufklärung und Anglophilie in Deutschland. Göttingen; Zürich, 1987. S. 28–39.
[Закрыть]. Несмотря на решающую роль, которую эти фигуры сыграли для распространения идей Просвещения среди европейских правителей, в исторической науке далеко не всегда последовательно учитывался тот факт, что именно эти «философы» выносили решение о том, какие дворы их эпохи достойны считаться просвещенными[141]141
См.: Schlobach J. Französische Aufklärung und deutsche Fürsten.
[Закрыть]. Например, физиократы так и не смогли добиться собственного независимого влияния на европейское общественное мнение, оставшись скорее частью французского Просвещения. Правда, они создали понятие «просвещенного деспота», а отдельные сочинители, принадлежавшие к их школе, ожидали, что сильное государство осуществит их экономические программы. Однако если во Франции крах Тюрго обострил общественные конфликты и довел монархию до банкротства, то в Германии реформы физиократического толка с самого начала были ограничены как во времени и пространстве, так и по своим последствиям[142]142
К теории «законного деспотизма» (despotisme légal) физиократов см.: Bazzoli M. Il pensiero politico. P. 432–459. О политике и крахе Тюрго см.: Voss J. Geschichte Frankreichs. Bd. 2: Von der frühneuzeitlichen Monarchie zur Ersten Republik. 1500–1800. München, 1980. S. 123–127. О попытках преодолеть экономический кризис, в котором оказалась Германия после Семилетней войны, оздоровить финансовую политику государства и оживить экономику с помощью всевозможных теорий см. в работе: Liebel H. Der aufgeklärte Absolutismus und die Gesellschaftskrise in Deutschland im 18. Jahrhundert (1970) // Hubatsch W. (Hrsg.) Absolutismus. Darmstadt, 1973. S. 488–544. О баденских реформах, проводившихся по рецептам физиократов, см.: Eadem. Enlightened Despotism in Baden, 1750–1792. Philadelphia, 1965; Gerteis K. Bürgerliche Absolutismuspolitik im Südwesten des Alten Reiches vor der Französischen Revolution. Trier, 1983, особенно S. 100–109.
[Закрыть].
Кроме того, общественное значение «философов» покоилось на присвоенном ими праве решать за потомков, кто из правителей – крупных мыслителей того времени – мог рассчитывать на посмертное признание своего исторического величия и «бессмертие». Несмотря на все заботы о критическом подходе к источникам и взвешенном отношении к истории, даже гуманистически настроенные писатели продолжали жить мерками античных, в первую очередь древнеримских авторов[143]143
См.: Griffiths D.M. To Live Forever (cм. рус. пер.: Гриффитс Д.М. Жить вечно: Екатерина II, Вольтер и поиски бессмертия // Он же. Екатерина II и ее мир. С. 38–59. – Примеч. науч. ред.). О статьях Энциклопедии, посвященных правителям и государствам, см.: Weis E. Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der französischen Enzyklopädie. Wiesbaden, 1956.
[Закрыть]. C учетом их секуляризированного миропонимания, они в своей самонадеянности позволяли себе даже языковые игры сакрального свойства, называя себя «верховными жрецами», которым позволено решать вопрос о принадлежности к «универсальной церкви Просвещения» и «посвящать» в свою «религию» новых членов. Не кто иной, как писатель Фридрих Мельхиор Гримм, недооцененный историографией в силу, с одной стороны, немецкого происхождения, с другой – франкоязычности своего творчества, занимался «миссионерством» среди немецких князей – и прежде всего княгинь, – а также правящих особ немецкого происхождения, занимавших престолы от флорентийского до петербургского. Благодаря великолепному дару коммуникации ему удавалось устанавливать и поддерживать контакты между просветителями и дворами, внушая обеим сторонам этого предприятия мысль о собственной незаменимости[144]144
См.: Schlobach J. Die frühen Abonnenten und die erste Druckfassung der Correspondance littéraire // Romanische Forschungen. Bd. 82. 1970. S. 1–36; Idem. Les correspondances littéraires et le rayonnement européen de la France au XVIII siècle // Idem. Correspondances littéraires inédites. Etudes et extraits. Suivies de Voltairiana. Paris; Genève, 1987. P. 31–45; Idem. Französische Aufklärung; Idem. Grimm in Paris. Ein Kulturvermittler zwischen Deutschland und Frankreich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts // Mondot J., Valentin J. – M., Voss J. (Hrsg.) Deutsche in Frankreich – Franzosen in Deutschland 1715–1789. Institutionelle Verbindungen, soziale Gruppen, Stätten des Austausches. Sigmaringen, 1992. S. 179–189.
[Закрыть].
Разумеется, Гримм был заинтересован и в рекламе своей Литературной корреспонденции (Correspondance littéraire, philosophique et critique) среди коронованных особ – потенциальных подписчиков; конечно, признание творческих заслуг и обширная публицистика приносили «философам» немалую материальную выгоду; и, несомненно, монархам льстило, что писатели, задающие тон веку, вносят свой вклад в повышение их престижа. Уже в то время «жажда славы» и «тщеславие» были расхожими упреками в «благородном состязании» просвещенных монархов, участники которого в целях манипулирования общественным мнением пускали в ход даже подкуп, в то же время обвиняя своих соперников в уплате мзды публицистам – «производителям» общественного мнения. Однако было бы значительным упрощением ограничиваться лишь моральной критикой отношений между абсолютными правителями и просвещенными философами, усматривая в них с бóльшим или меньшим основанием лишь взаимные «преходящие» интересы. Скорее, следует принять во внимание структуру и стратегию просвещенного образа мысли и правила упомянутых языковых игр. Вершиной монаршего престижа являлось «историческое величие» и «бессмертие», то есть не просто кратковременный успех, аплодисменты на один день, услужливая похвала, а признание потомками заслуг монарха перед мировой историей[145]145
См.: Griffiths D.M. To Live Forever. P. 453 (cм. рус. пер.: Гриффитс Д.М. Жить вечно: Екатерина II, Вольтер и поиски бессмертия // Он же. Екатерина II и ее мир. С. 44. – Примеч. науч. ред.). Аналогичное истолкование, предложенное Фридрихом Андрее, опиравшимся на работу Я. Буркхардта о культуре Возрождения (Burckhardt J. Die Kultur der Renaissance in Italien. Basel, 1860. Zweiter Abschnitt. III: Der moderne Ruhm), указывает направление для интерпретации отношений между Екатериной и принцем де Линем: здесь имело место принятое в традиции классицизма представление о поэте, который сознавал, что «раздача “славы”, бессмертия – как, впрочем, и забвения – в его руках» (здесь цит. по: Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения: Опыт / Под ред. К.А. Чекалова; Пер. с нем. и послесл. А.Е. Махова. М., 1996. С. 138. – Примеч. науч. ред.). См.: Andreae F. Bemerkungen zu den Briefen der Kaiserin Katharina II. von Rußland an Charles Joseph Prince de Ligne // Hötzsch (Hoetzsch) O. (Hrsg.) Beiträge zur russischen Geschichte, Theodor Schiemann zum 60. Geburtstage von Freunden und Schülern dargebracht. Berlin, 1907. S. 142–175, здесь S. 153–161, особенно S. 158–159.
[Закрыть]. Подверженной такому же неизбежному суду потомков считала себя и «самозваная элита» из числа исторически подкованных современников – критически настроенные писатели, поставлявшие аргументы, необходимые, чтобы выносить суждения о правителях уже после их смерти[146]146
К вопросу о представлении писателей-просветителей о самих себе, их социально-политической функции и экономическом положении см., например: Schalk F. Die Entstehung des schriftstellerischen Selbstbewußtseins in Frankreich // Idem. Studien zur französischen Aufklärung. 2. Aufl. Frankfurt a.M., 1977. S. 13–61; Gumbrecht H.U., Reichardt R. Philosophe, Philosophie; особенно S. 41–55; Vierhaus R. Die aufgeklärten Schriftsteller. Zur sozialen Charakteristik einer selbsternannten Elite // Bödeker H.E., Herrmann U. (Hrsg.) Über den Prozeß der Aufklärung in Deutschland im 18. Jahrhundert. Personen, Institutionen und Medien. Göttingen, 1987. S. 53–65; Jüttner S. The Status of the Writer // Seventh International Congress on the Enlightenment: Introductory papers. Budapest, 26 July – 2 August 1987. Oxford, 1987. P. 173–201.
[Закрыть].
Подробного разговора обо всем этом в дальнейшем не будет. Однако, интерпретируя источники, имеющие на первый взгляд мало общего с тем, о чем говорилось в этом кратком обзоре, автор ориентируется именно на изложенное здесь понимание российского просвещенного абсолютизма как политической и общественной системы, лишь с небольшим опозданием интегрировавшейся в европейскую систему просвещенного абсолютизма. В основе самого исследования лежит предварительная гипотеза, согласно которой актуальность и продуктивность социально-исторической картины в целом, а также той или иной парадигмы для изучения основных черт европейского ancien régime можно обнаружить и доказать лишь путем интерпретации отдельных свидетельств той эпохи.