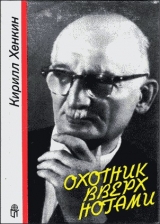
Текст книги "Охотник вверх ногами"
Автор книги: Кирилл Хенкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
13. Шпион спешит вернуться в холод
Он приехал в Москву. По делам и на отдых. Мы виделись с ним несколько раз, но по душам разговор не получался. Рядом все время была Елена Степановна, не отходила от отца и Эвелина.
А главное, я уже давно жил в состоянии внутреннего полуоцепенения, внешне приспособившись к окружающему меня советскому быту, внутренне отвергая его все сильней.
Уже много лет я систематически ограничивал себя технической работой переводчика. Сведение к минимуму всякого общения с людьми давно вошло в привычку.
Об этом я не мог говорить с Вилли.
А он не мог еще говорить со мной о глубоких психологических переменах, которые произошли с ним в Америке. И пройдет много лет, прежде чем он заговорит. Да и то осторожно. А тогда был 1955 год.
* * *
«Когда ты уходишь, – сказала мне мама, – Аннетт роется у тебя в столе».
Я раздраженно буркнул, что нельзя давать волю ненависти и походя обвинять человека черт знает в чем. Аннет роется!
(Многие годы эта женщина была моей женой.)
Разумеется, мать права. И я это знаю...
В моей московской квартире сразу звонили два параллельных телефона, и ни один не отключался, когда снимали трубку в другой комнате.
Аппарат зазвонил у меня на письменном столе. Я снял трубку на какую-то долю секунды после Аннетт, ответившей из спальни.
– ...Но я вас не знаю...
– Вы знаете Ивана Степановича. Я его заменяю.
– Мне сейчас не совсем удобно говорить.
Она подозревала, что я могу слушать. Ее молодому, неопытному собеседнику это, однако, не пришло в голову. Он не только повторил свои имя и отчество, но еще дал свой новый номер телефона. Три первые цифры принадлежали подстанции КГБ.
Зачем я записал имя и номер телефона? Разве я собирался что-то предпринять?
Когда, окончив свой короткий разговор, Аннетт под каким-то предлогом вошла ко мне в комнату, я спокойно работал за столом, телефонная трубка лежала на месте и ничто, казалось мне, не указывало на то, что я слышал разговор. Я даже лениво-равнодушно спросил: «Кто это звонил?» И услышал спокойный ответ: «Звонили с работы, напоминали, что завтра запись в два тридцать».
Оставшись снова один, я достал из кармана записку, отыскал в ящике стола футляр от авторучки, вынул подкладку, положил под нее записку, вставил подкладку на место, засунул футляр поглубже в ящик, завалил его всякой всячиной и запер ящик стола на ключ.
На следующий день, вернувшись с работы, я отпер ящик, достал футляр от авторучки, вынул подкладку. Записки с именем и номером телефона не было.
Разговор наш был тяжелый, медленный и, разумеется, я оказался обороняющейся стороной. Аннетт была совершенно спокойна и не думала что-либо отрицать. Обыски в моем столе? Мелочь, не стоящая упоминания!
– Не притворяйся и не играй в оскорбленную невинность. Ты знал. Ты все время знал!
Знал? Не знал? Не мог не знать? Мог ли не знать!
– Вспомни, ты мне сам сказал: «Посмотрим, кто будет дружить с Аннабеллой».
Это был, наверное, конец 1949 года. Переводчиков журнала «Новое время», где я подрабатывал, собрали на экстренное совещание. Поступило распоряжение сверху дать приложением к журналу на всех главных европейских языках – по-английски, по-французски, по-испански и по-немецки – только что вышедшую стотысячным тиражом в издании «Литературной газеты» книгу Аннабеллы Бюкар «Правда об американских дипломатах». На титульном листе значилось: «Перевод с английского».
Старший переводчик английского издания Левин (я с ним позже работал в Праге) сразу возликовал:
– Мы-то, надеюсь, дадим оригинал.
Начальство игнорировало его реплику. Проводивший совещание заместитель главного редактора отрезал сухо:
– К переводу приступайте сегодня же!
Чуть ли не день в день было выпущено тогда несколько аналогичных книг. Лейтмотив: «Не могу молчать!» Сотрудники различных иностранных посольств разоблачали в них свои правительства как заговорщиков против мира и просили, – правда, не всегда – политического убежища в СССР. Автора одной из таких книг, французского дипломата Жана Катала, написавшего книгу «Они предают мир», я немного знал, встречал его на радио.
В то же примерно время в доме напротив нашей тогдашней квартиры в Воротниковском переулке появилась новая, заметная жилица.
Высокая, с длинными светлыми волосами, в темных очках, элегантно, по московским понятиям, одетая, она выходила гулять, толкая детскую коляску. При ней всегда находились два телохранителя. Один шел в двух шагах справа от нее, другой – сзади. Оба держали правую руку в кармане. Иногда ее сопровождал мордастый мужчина в очках в тонкой золотой оправе. Это была Аннабелла Бюкар, а мордастый мужчина – отец ее ребенка, опереточный артист Лапшин.
Потом мы узнали, что Аннабелла Бюкар будет работать на радио в отделе вещания на США.
Когда в сопровождении телохранителей (на самом деле, конвойных) Аннабелла появилась на радио, ее самой близкой подругой стала Аннетт.
В этой дружбе не было, для западного глаза, ничего странного. Обе работали дикторами. Обе – американки по рождению, дочери эмигрантов. Только родители Аннабеллы приехали откуда-то из Сербии, а отец Аннетт – из деревни Старый Батокаюрт, в Осетии. Он уехал в Америку на заработки в 1913 году, а вернулся домой в 1936 году с дочерью и двумя сыновьями. Мать – ирландка – осталась в США.
Ничего назойливого, ничего странного. Но я-то должен был понимать, что в те годы простой советский гражданин с таким человеком, как Аннабелла, сходиться не стал бы. И даже, сразу не поняв, разве мог я не задуматься позже: почему, тесно сойдясь с новой подругой, Аннетт никогда, несмотря на известное свое хлебосольство, не звала ее к нам в дом и ни разу не предложила мне пойти с ней в гости к Лапшиным.
Почему, заранее понимая, что дружить с Аннабеллой будет непременно агент, я потом вдруг перестал понимать очевидное, видеть явное? Более того, разве не от Аннетт я позже узнал историю Аннабеллы Бюкар? Историю ее бегства из посольства, историю написания книги. Ведь только дополнительные подробности получил я из другого источника – от моего товарища, диктора французской редакции Владимира Мешкова. А главное-то – от нее.
Ничего я не перестал понимать и видеть. Просто мне было удобней и выгодней закрывать глаза, делать вид, что ничего не замечаю. Лишь бы меня оставили вне игры.
* * *
Унылая история, хрестоматийный пример!
Как любого работника американского посольства в Москве, Аннабеллу предупредили, что советские граждане не имеют права с ней встречаться по влечению сердца, что всякий, кто к ней приблизится, почти наверняка – осведомитель.
Ей, возможно, даже сказали, что за знакомство с иностранцем, если оно не входит в круг служебных обязанностей, советскому гражданину положен лагерный срок. И срок вдвое больший, если он раскроет иностранцу существование такого закона.
Но слушая все эти наставления, Аннабелла, разумеется, думала, что если к ее необаятельному пожилому начальству люди подходят с корыстными помыслами, то к ней, молодой и привлекательной, все тянутся из чистой симпатии.
Вскоре она убедилась в своей правоте. Советские вовсе не боялись встреч с иностранцами. На концерте в зале Чайковского знакомый переводчик представил ей очаровательную молодую блондинку, арфистку, которая тотчас позвала ее к себе в гости.
Заранее зная ответ, стыдясь за себя и за своего недалекого посла, Аннабелла спросила:
– А разве это для вас не опасно?
– Неужели вы верите этим бабушкиным сказкам? – прыснула ее советская сверстница.
Аннабелла покраснела. Разумеется, она не верила этим сказкам. А придя в гости к новой подруге, она убедилась в том, что ее посольские коллеги клевещут и на условия жизни советских людей. Никаких коммунальных квартир, никакой скученности...
В бывшем, теперь разделенном на квартиры, особняке в Староконюшенном переулке молодая музыкантша занимала вместе с матерью отдельную двухкомнатную квартирку, – очень уютную, обставленную старинной мебелью.
Мой сослуживец, диктор французской редакции радио, бывший какое-то время одним из многочисленных любовников голубоглазой арфистки, рассказывал мне, что для всей этой истории срочно выселили соседей, занимавших вторую комнату и сделали во всей квартире ремонт.
А для Аннабеллы с этим знакомством началась новая жизнь. Приятельница не только звала ее к себе, она водила ее к знакомым москвичам, простым советским людям, которые радушно, ничего не боясь, принимали Аннабеллу. Они подчас говорили при ней о некоторых житейских неполадках, признавали, например, что не все мужчины вернулись с войны; но словно забывая об ее присутствии, увлеченно говорили о том, как много им дала советская власть, как уверенно они смотрят в будущее, как любят они свое правительство и лично товарища Сталина.
Она познакомилась с интересными людьми. У подруги собирались друзья-артисты. Музицировали. Среди постоянных гостей бывал артист московского театра оперетты Лапшин, мужчина уже зрелый, в очках, придававших его несколько грубоватому лицу со следами глубоких переживаний и дум особое обаяние.
Он был обходителен, мил, предупредителен, и так отличался от молодых ребят, с которыми Аннабелла ходила по субботам на танцы в родном Питсбурге!
Для Лапшина же все это было рутиной. В московском театральном мире он был давно известен как безголосый певец и актер выдающейся бездарности. Зато природа одарила его иными качествами. И Второе управление не переставало прибегать к его услугам для «разработки» иностранок, дам из различных посольств, которые делались податливыми благодаря лапшинской неутомимости в постели – арене его патриотической деятельности. За глаза его звали Лукищев.
Вкрадчивое обхождение и профессионализм сделали свое дело. Бич московских любовников тех лет – отсутствие комнаты для свиданий – не существовал для наших героев. Вскоре Лапшин доложил по начальству: все в порядке – Аннабелла беременна.
Только с этого момента начинается, по сути говоря, серьезная игра.
Идут бесконечные разговоры: что делать? Признаться во всем послу и уехать в Америку? На этом настаивает Лапшин:
– Расстанемся навсегда, забудь меня! Ты избалована другой жизнью – уезжай!
– Никогда!
– Я не хочу жертв!
Говорят об аборте. Говорят долго, пока не выясняется, что срок упущен.
Аннабела очень тяжело переносит беременность. Ее мучают приступы рвоты и обмороки.
Однажды Лапшин пропускает свидание. К Аннабелле прибегает подружка-арфистка: любовник арестован!
Но в этом населенном добрейшими людьми мире все время происходят чудеса – арфисточка вместе со страшной вестью принесла записку от арестованного. Лапшин навсегда прощается со своей возлюбленной:
«Если кто-то должен платить за нашу любовь – пусть это буду я. Спасай нашего ребенка, уезжай. Пусть я погибну. Такова цена, которую мне суждено заплатить! Я был неосторожен, я говорил тебе вещи, которые ты рассказывала у себя в посольстве. У нас это называется измена Родине! Я знаю, что ты этого не хотела, но ошибку не поправишь, упущенного не вернешь! Прощай, я погибаю, а ты живи, радуйся жизни и воспитай нашего ребенка достойным человеком».
Почему-то ни до, ни после никому не удавалось из внутренней тюрьмы на Лубянке передать записку возлюбленной через приятельницу. Но откуда могла это знать Аннабелла?
Подруга-арфистка рыдает вместе с Аннабеллой. Обе в отчаянии. Но вот московская приятельница посветлела. Ей, кажется, пришла в голову какая—то мысль. Она, конечно, ничего не обещает, но у нее есть один друг, у которого есть приятель, который женат на сестре одного человека...
И тогда происходит конспиративная встреча Аннабеллы с начальником Второго управления (контрразведка) генерал-лейтенантом Райхманом.
Генерал не скрывает, кто он. Наоборот, он говорит как представитель власти. Лапшин нарушил закон и понесет заслуженное наказание.
Первые попытки Аннабеллы доказать, что она всему виной, оказываются тщетны. Генерал не хочет верить, что только ее преступное американское воспитание, ее болтовня всему причина... Но что она может сделать, чтобы спасти человека, который ни в чем не виноват и гибнет из-за нее, как спасти себя, как спасти будущего ребенка?
В умных и усталых глазах генерал-лейтенанта Райхмана появляется теплинка сочувствия: он подумает.
Между тем, физическое состояние Аннабеллы становится все тяжелее. Скорая помощь увозит ее в советскую больницу в бессознательном состоянии. Когда американцы спохватятся, посольству ответят сначала, что никто не знает, где она; а позже, что она попросила политического убежища и не хочет видеть американских представителей.
В больнице вооруженная охрана находится не только в коридоре, но и в самой палате. Наезжает Райхман или кто-нибудь из его помощников, дают подписывать гранки книги. Она подписывает, не читая. Да и текст все равно по-русски, и она с трудом понимает. Лапшин еще не освобожден (на самом деле он никогда и не был арестован), но его вот-вот освободят. Наконец, он прибегает к ней, он рядом с ней, он говорит ей, что все будет хорошо!
А когда Аннабелла приедет с ребенком на новую квартиру на углу Старо-Пименовского и Воротниковского переулков, книга с ее фамилией на обложке уже будет готова. «Правда об американских дипломатах» выйдет из печати.
В этой книге Аннабелла Бюкар не написала ни строчки.
Будем справедливы – гонорар за нее ей заплатили. Как и тем журналистам-международникам (шесть человек), которые ее сочинили.
Мой приятель, французский журналист, коммунист, проведший во время войны несколько лет в России, говорил мне, что когда они получили распоряжение напечатать книгу Аннабеллы Бюкар в газете «Се суар», то им пришлось попыхтеть. Ведь при переводе липа шибает в нос еще сильнее. Написана же книга по канонам самой плохой советской журналистики: грубые политические обобщения, обвинения США в разжигании военной истерии и подготовке нападения на СССР. Сплетни о сотрудниках американского посольства, собранные на уровне замочной скважины советской прислугой; слюнявые восторги «автора» перед советским образом жизни.
И отвратнее всего – куски мнимой автобиографии.
«Как мать, – говорится в этой книге, – я смотрю вперед, чтобы увидеть, в каком мире будет жить мой сын. Как мать, я сознаю, что будущее принадлежит Советскому Союзу и что мой сын будет жить более яркой, более полной жизнью, чем он мог бы жить где бы то ни было в другом месте мира».
Когда я уезжал из России, сын Аннабеллы Бюкар, Миша Лапшин, отбывал второй срок где-то на севере – по уголовному делу.
Прошли годы, Аннабелла давным-давно знала – такую вещь невозможно не знать, – что ее муж сблизился с ней когда-то по указанию Второго управления КГБ, что ее душераздирающий роман был от начала до конца, во всех деталях и подробностях подстроен, следовательно, фальшив, что все было ложью. Она, вероятно, давно поняла роль, которую сыграла в ее жизни подруга-арфистка. Но она продолжала с ней видеться. И с мужем не разошлась. Так и прожили жизнь. Семья, как семья!
* * *
Когда Надежда Яковлевна Мандельштам выгнала из дому молодого литератора, укравшего у нее уникальное издание стихов ее мужа, многие пожимали плечами: «Подумаешь! Все воруют книги».
Одичание, забвение элементарных правил общежития таковы, что, не прибегая к доводам разума («узнают – выгонят, а то и морду набьют»), вы чаще всего не сумеете объяснить советскому интеллигенту младшего или даже среднего возраста, почему нельзя вскрывать письма, адресованные другому, или рыться в чужих вещах. Почему?
Площадная брань в быту, хамство, общая разболтанность – все это имеет некоторые явные корни: постоянная близость лагерного быта, скученность и общая неустроенность, рождающие крохоборство и озлобление. Вежливость, предупредительность давно воспринимаются как слабость или угодливость.
Непомерно взвинтив цену на «искренность», на простоту и открытость отношений и нравов, доносительство, пусть косвенно, добавило к этому букету душистый цветок.
За то, что человек «не стучит», ему в Советском Союзе готовы простить грубость, безделье, нечестность в денежных делах, распущенность, неспособность держать слово или хранить доверенную тайну.
А не стучит-то он подчас лишь потому, что не предложили.
Сколько придумано формулировок, чтобы сделать приемлемым неприемлемое. «Он на своих не стучит», «он стучит только на иностранцев», «он стучит не по доброй воле!»
Скольких я знаю молодых людей, ставших осведомителями ради того, чтобы поступить в институт, или удержаться в нем, или получить хорошее направление при распределении. А «стук» ради того, чтобы ездить в капстраны – это и за «стук» не идет!
Сколько принимал я у себя в доме людей, о которых знал доподлинно, что они стучат!
В Союзе мы настолько привыкли к этому, что почти и не замечали.
(Прочитав еще в рукописи «Воспоминания» Надежды Яковлевны Мандельштам, я сказал ей, что о двух людях, которых она тепло вспоминает, я бы писал суше. Ведь я знаю, что оба были агентами. К ним меня посылал Маклярский.
– Ерунда, Кирилл, – махнула она рукой. – Они уже оба умерли. И не они убили Осю.
И не изменила в книге ни строчки. Подумав, я решил, что Н.Я. права. Большинство секретных сотрудников не виновато в смерти Осипа Эмильевича Мандельштама. Виновата система доносительства.)
Мы настолько к этому привыкли, что, уже выехав из СССР, продолжаем походя говорить о людях «агент», «стукач», подразумевая чаще всего внутреннего доносчика, а не разведчика. «Паранойя! – морщатся наши западные друзья. – Этим новым эмигрантам всюду мерещатся агенты». И потом добавляют сочувственно: «В этом страшный приговор режиму, породившему такой психоз!»
Если бы психоз! Просто увидев однажды, как на загадочной картинке среди ветвей и оленьих рогов появился невидимый на первый взгляд охотник, мы постоянно вперяем в него глаза.
* * *
В свой единственный приезд в отпуск в 1955 году Вилли говорил мне с некоторой горечью о переменах, происшедших в его отсутствие в Первом управлении, о непомерно разросшемся аппарате, о молодых, чуждых ему работниках.
Жаловался, что работу, которую они, в дни его молодости, делали впятером, теперь делают двести человек; что для включения в шифровку одного абзаца требуется подпись начальника отдела.
Я жалею, что не очень внимательно слушал его отрывочные рассказы. Мне хотелось расспросить его об Америке. Но я должен был делать вид, что не знаю, где он работает. А он притворялся, что не говорит мне этого, полагая не без основания, что я и так могу догадаться – по одежде, по сигаретам, по вилке на электрической бритве. И по рассказам, как будто к делу не относящимся: о курсе доллара в Мадриде, об отношении к американцам во Франции.
Было ясно, что живет он по американскому паспорту.
А самым его сильным впечатлением от проезда через Европу был фильм Тати «Каникулы господина Юло», который он смотрел в Париже и от которого был в восторге. Без конца о нем рассказывал. По-моему, он хотел походить на Тати.
Косвенно намекая на суть своей работы, он несколько раз говорил мне, что все американские научные секреты очень быстро просачиваются в специальную печать и что его работа не очень нужна.
Позже я узнал от него, что то же самое он говорил тогда своему начальству. Говорил, вопреки собственным интересам, ведь ему, я думаю, так хотелось вернуться в Бруклин.
Он подробно рассказал им о своих сомнениях относительно Хейханнена.
Много было причин не посылать Вилли обратно в Нью-Йорк.
Возраст: ему было уже пятьдесят пять лет, его полезность падала с каждым годом.
Обстановка: перспектива длительного мира и мирного проникновения делала такого типичного нелегала, как Вилли, не очень нужным. Никто уже не думал о близкой войне, менялись методы шпионажа. Открывались небывалые перспективы мирных и легальных способов проникновения и влияния.
Кроме того, Вилли возвращаться было и опасно. Из-за Хейханнена.
Он вернулся. А через два года его арестовали.
Неужели для этого его и отправили обратно?
14. Доктор Джекиль и мистер Хайд
Человек шел мимо строящегося дома. Сорвавшийся с лесов кирпич просвистел мимо его головы и шлепнулся на землю.
Ощутив дуновение близкой смерти, человек в мгновенном озарении понял тщету и бренность своего существования, остро ощутил нестерпимость своей осточертелой обыденности. Он понял, что нет у него сил вернуться к постылой работе банковского клерка, переступить порог убогого, купленного в рассрочку загородного домика, где его ждут орущие дети и глупая болтливая жена. Ему опротивела до тошноты его стандартная, такая, как у сотен тысяч других американцев, машина.
Никого не предупредив, не заходя домой, человек уехал из родного города, чтобы начать новую жизнь.
Через несколько лет посланный по его следам сыщик страховой компании нашел его в другом городе, в далеком штате.
Человек жил в пригородном домике. У него была глупая и болтливая жена, орущий ребенок, стандартная машина. Он работал в конторе по продаже недвижимости. Зарабатывал столько же, и работа почти не отличалась от прежней. Трудно убежать от самого себя.
Страстный поклонник Дэшьеля Хэммета, Вилли давал мне читать его роман, где рассказана эта история.
Под именем Эндрью Кайотиса Вилли въехал в США. Там он становился то Мильтоном, то Марком, то Мартином Коллинзом, то Эмилем Гольдфусом.
Пока не стал полковником Рудольфом Абелем.
Куда девался при этом Вилли Фишер?
В Соединенных Штатах о моем друге писали в свое время много. Огромное количество газетных сообщений, статей, две книги: «Незнакомцы на мосту» Джеймса Донована и «Абель» Луизы Берниковой. Эту книгу, написанную на основании воспоминаний соседей и друзей «Эмиля Гольдфуса», я читал и перечитывал сначала в Москве, где мне их давал Вилли, потом уже на Западе. Сравнение с оригиналом и между собой этих двух добросовестных и подчас проникновенных портретов учит нас многому.
* * *
Обедали. Вилли рассказывал о своей жизни заключенного № 80016-А в федеральной тюрьме города Атланта. Приводя какой-то забавный или поучительный эпизод, привычно обронил: «У нас в тюрьме...»
– Папка, – сказала Эвелина, – это же была не тюрьма, а санаторий!
Вилли что-то недовольно буркнул, переменил тему. А через несколько минут, не совсем кстати, начал поносить пенитенциарную систему США, разоблачать классовый характер американского правосудия, условность тамошней конституции, которая, мол, только для богатых.
Но вот, забыв сентенции, он оживился и снова начал рассказывать, как занимался в тюрьме шелкографией, как рисовал портрет президента Кеннеди. По ходу рассказа он охотно вспоминал корректность тюремной администрации, ровное поведение надзирателей, добротность еды и одежды, чистоту в камерах, и задним числом гордился тем, что даже среди заключенных многие называли его «полковник».
Но не надо было требовать от него признания, что американская тюрьма не уничтожает человека физически и морально.
О защитнике своем он всегда говорил очень тепло и признавал его полную профессиональную добросовестность. Вилли даже не отрицал, что осудивший его на тридцать лет судья Байерс действовал в рамках закона.
Было, однако, напрасно пытаться ему доказывать, что, произойди с ним такое же в Советском Союзе, навязанный ему местный адвокат утопил бы его, что приговор продиктовали бы суду «директивные органы». Вилли считал такое положение правильным.
Когда, выслушав в очередной раз рассказ о том, как его пришли арестовывать, я заметил Вилли, что в СССР вряд ли стали бы так церемониться, Вилли взвился:
– Они вообще не имели права врываться ко мне и делать обыск, да еще поручать это иммиграционным властям, когда за всем стояло ФБР! Вопиющее беззаконие!
В отношении скрупулезного соблюдения Конституции США мой друг Вилли был крайне щепетилен. Вообще же в этих вопросах умел проявить широту ума и формалистом не был. Когда подельнику Пеньковского дали восемь лет, он бушевал:
– Идиоты! Церемонятся! Пошли на поводу у прокуратуры. Мало ли, что не было доказательств. Надо было дать этому Уинну «вышку», держать его в камере смертников, нагнать на него страх Божий. Тогда англичане заговорили бы иначе.
Речь шла о вызволении из английской тюрьмы его друзей – Лоны и Мориса Коэн, и Вилли потирал руки, когда ему сказали, что месяца через три найдут кого-то другого для обмена.
Через четыре месяца в Москве арестовали англичанина Джеральда Брука, которому дали пять лет лагерей. Вилли считал такие методы нормальными. А через пять лет, когда Брук заканчивал срок, Вилли ликовал, что решили пригрозить: или обмен на Коэнов, или Брук получит дополнительных двадцать лет за шпионаж в лагере! Подозреваю, что Вилли сам этот ход и подсказал.
Как советский шпион и как коммунист, в вопросах политических Вилли не мог мыслить иначе. Ведь он с детства усвоил ленинскую мораль: нравственно то, что выгодно.
А долгая жизнь советского шпиона приучила его проводить четкую грань между наблюдением факта и передачей о нем информации, с одной стороны, и оценкой этого факта, отношением к нему, с другой.
По долгу службы он должен был объективно наблюдать окружающую его действительность, беспристрастно информировать Центр. Но как советский человек и коммунист, он должен был регулировать свое отношение к этой действительности соображениями «партийности». Он не должен был никогда забывать, что мир за пределами Советского Союза порочен по сути своей, исторически обречен и подлежит уничтожению. И что он, Вилли, призван это исторически необходимое уничтожение по возможности ускорить.
Боже упаси делать отсюда вывод, что Вилли был кровожадный, воинственный человек. Напротив, как все советские люди, он был «за мир». То есть за уничтожение окружающего СССР мира не военными средствами. И только в случае сопротивления...
Начальник федеральной тюрьмы в Атланте, Фред Уилкинсон, ставший позже заместителем начальника управления тюрем США и принимавший участие в обмене Вилли на Гарри Пауэрса, много беседовал с заключенным 80016-А. По его мнению, «полковник Абель» был неспособен оценить прогресс. Он, например, упорно обвинял американцев в грехах, давно ими осознанных и искупленных, клеймил давно изжитые порядки. Уилкинсон видел в этом интеллектуальную слабость «Абеля», которого в остальном считал человеком умным.
Ум или глупость тут ни при чем. Уилкинсон просто не знал и не мог знать емкого слова «партийность».
Этой «партийностью» «полковник Абель» был щедро наделен. И в книге Донована, который общался именно с «Абелем», примеров такого подхода сколько угодно. Именно эту черту своего характера Вилли намеренно подчеркивал и усиливал, исполняя роль сурового советского офицера.
Да, такая черта у Вилли была. Но, очевидно, не врожденная, а нажитая, под самый конец жизни она стала исчезать.
Почему эта черта отсутствует у другого, сыгранного Вилли в США персонажа: у пенсионера-фотографа Эмиля Гольдфуса? Неужели Вилли скрывал свои чувства в роли Эмиля и Гольдфус менее соответствовал его настоящей натуре, чем «Абель»?
По-моему, наоборот. Именно Эмиль Гольдфус, такой, каким мне удалось его увидеть глазами его друзей и соседей по Фультон-стрит в Бруклине, неотличим для меня от Вилли Фишера, в самых лучших и человечных его проявлениях. Было у Вилли одно качество – редкое и ценное, которое всю жизнь делало его «белой вороной» в шпионской среде, качество, единственно способное противостоять инерции его «партийного мышления» и позволившее ему избежать нравственного склероза, качество, которому он позволил расцвести в Бруклине, способность к дружбе, к теплоте и искренности, к человеческим отношениям, свободным от утилитарных и корыстных соображений. Это свойство уже само по себе делало его, по сути дела, непригодным для неосторожно избранной в юности профессии. Оно в последние годы и увело его на расстояние световых лет от того, чему он напрасно отдал свою жизнь.
И произошло это потому, что, прожив несколько лет жизнью Эмиля Гольдфуса, он, оставаясь Вилли Фишером, вынес свою «партийность» за скобки, и она ему самому стала постепенно чуждой.
Уже после его смерти я узнал от Елены Степановны, что, когда Вилли вернулся из США, начальство Первого управления в самой настоятельной форме предложило ему перестать со мной встречаться. К тому времени досье на меня в КГБ уже начинало, полагаю, принимать угрожающие размеры.
Вилли категорически отказался выполнить это требование, уступив лишь в одном: я не буду встречать у него в доме сотрудников его «конторы».
Это условие выполнилось само собой, ибо я сам избегал его сослуживцев. Так, я никогда не встречал у него «Бена», то есть Конона Молодого (Лонсдейля). А «Питера и Лону» Коэн случайно встретил всего один или два раза, пока не напоролся на них – и не только на них! – на поминках по Вилли, о которых речь впереди.
И точно так же, как не коснулась «партийность» нашей с ним многолетней дружбы, так не влияла она никак на искренность его отношений с его соседями-художниками в Бруклине, и в первую очередь с Бертом Сильверманом.
Конечно, Эмиль Гольдфус тоже в какой-то мере фиктивное лицо, легенда. Но сравним этот персонаж с действительностью.
Сын немецких эмигрантов Вильям Фишер родился в Ньюкастле-на-Тайне в Англии, 11 июля 1903 года. Сын немецких эмигрантов Эмиль Гольдфус родился в Нью-Йорке, в США 2 августа 1902 года.
Разница – в год. На всякий случай сохранено немецкое происхождение. «В нем было что-то европейское» – будут говорить его американские друзья.
– Лучше всего, – поучал меня Вилли (а его в свое время поучал Яков Серебрянский), – когда легенда – лишь чуть-чуть причесанная биография. Тогда она легко обрастает совпадениями и деталями. Можно, походя, вспомнить какой-нибудь не выдуманный эпизод и он укрепит легенду. Из деталей рождается достоверность.
Эмиль Гольдфус рассказывает своим нью-йоркским друзьям – случайно, к слову пришлось, без подробностей, полунамеками: в Бостоне он когда-то ухаживал за девушкой – она играла на арфе в небольшом оркестре. «Я тоже научился пощипывать! Она не хотела играть, если не я настраивал ей инструмент!»
Друзья, слушая несколько меланхолический рассказ, замолкают. У Эмиля в прошлом скрыта личная драма. Ведь раньше он никогда не говорил об этой женщине... Из деликатности его больше не расспрашивают. Зачем бередить старую рану? А Вилли Фишер может теперь спокойно показывать свое знакомство с арфой и миром профессиональных оркестрантов.
Его жена, Елена Степановна Лебедева, до выхода на пенсию служила арфисткой в оркестре Московского цирка. И когда труппа выходила на парад-алле, в оркестре каждые 16-ть тактов звучали ее аккорды. А Вилли – таков уж был у него характер – конечно, научился немного щипать арфу.








