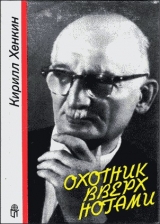
Текст книги "Охотник вверх ногами"
Автор книги: Кирилл Хенкин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Кирилл Хенкин
Охотник вверх ногами

Эффект системности
Самые глубокие тайны общественной жизни лежат на поверхности. Надо быть совершенно слепым или очень сильно хотеть быть таким, чтобы не видеть генеральную установку Советского Союза в отношении Запада: любыми путями проникать в страны Запада, использовать Запад в своих интересах, разобщать его, провоцировать нестабильность, деморализовать, обманывать, путать, запугивать, короче говоря – готовить его к будущему военному разгрому. Эту установку проводит в жизнь огромная армия людей, организованных в единую систему. Каждый член этой армии живет обычной жизнью и выполняет свою рутинную работу, установка же реализуется лишь как суммарный продукт их деятельности, предопределенный законами системы. В книге К. Хенкина описан лишь один эпизод в деятельности этой системы, но эпизод характерный с точки зрения принципов функционирования системы. Этот эпизод связан с именем Абеля, который в свое время был в западной прессе возведен в ранг «величайших шпионов века». Я не берусь судить о том, насколько точно и полно описаны в книге исторические факты и их причинно-следственные отношения. Но с точки зрения понимания общей социально-психологической обстановки, в которой действует упомянутая система, и самого эффекта, ее действия именно как единой системы, книга Хенкина заслуживает самого серьезного внимания.
Советская система по использованию и ослаблению Запада сложилась, само собой разумеется, с расчетом на то, что ей предстоит действовать именно в условиях Запада. Она не была сначала изобретена некими гениальными умами в недрах Москвы и лишь затем применена в странах Запада. Она складывалась в реальных общениях стран, в том числе – путем отыскания слабых мест в западном обществе. Она набирала силу в той мере, в какой Запад обнаруживал слабости. Ее сила потому оказалась адекватной слабости Запада, а ее качества оказались своеобразным отображением свойств западного общества. Она явилась продуктом самого Запада не в меньшей мере, чем Советского Союза. Может быть отчасти поэтому Запад до сих пор не хочет понять ее сути, ибо не хочет узреть в ней свое собственное лицо. Внутри же своего социального тела, т. е. советского общества, рассматриваемая система набрала такую силу, что теперь ее практически невозможно отделить не только от центрального руководства, но и от общества в целом. Она стала неотъемлемым атрибутом советского общества и психологии советского человека – вот другая причина ее непостижимости для западных людей, представляющих себе явления такого рода в виде деловой конторы западного образца. Советских эмигрантов на Западе часто спрашивают, например, каков процент агентов КГБ в нынешней эмиграции. Вопрос с точки зрения советского человека нелепый. Возможно, ноль процентов, а возможно и все сто. Какое это имеет значение?! Общими усилиями заинтересованных лиц Запада и из эмигрантов придумали некую величину процента (кажется, около десяти), которая столь же нелепа, как и любая другая произвольная величина. Положение человека в данном случае с точки зрения его причастности к КГБ зависит от намерений рассматриваемой здесь системы и от случая, а не от намерений и самомнения этого человека. Даже критики советского режима, высылаемые на Запад, так или иначе фигурируют в расчетах этой системы и как—то используются ею, часто вообще не подозревая об этом. То, что на Западе воспринимается как шпиономания советской эмиграции, на самом деле выражает лишь здоровую интуицию советских людей в отношении своего общества.
В сочинениях на шпионские темы ход мыслей обычно имеет такое направление: ставятся частные вопросы, связанные с темой, на них даются обоснованные (по идее) ответы, в итоге дается какое-то решение проблемы в целом. В книге Хенкина все сделано наоборот: даются ответы, на основе которых возникают вопросы, и в итоге созревает большая проблема, которая по идее должна была бы фигурировать в самом начале. Рассмотрены многочисленные факты, проделаны хитроумные сопоставления и рассуждения. А итог их – проблема: что все-таки делал Абель в США, в чем смысл его такого странного поведения перед «провалом», какова цель такого театрально-«героического» его поведения во время судебного процесса? Думаю, что такой итог вполне логичен. Книга эта – не о советском шпионаже на Западе как таковом, а о действии общей советской установки в отношении Запада на материале, связанном со шпионажем, но не сводящемся только к нему. Случай Абеля интересен не столько с приключенческо-детективной, сколько с социологической точки зрения. Приключенческо-детективный аспект этого случая по меньшей мере посредственен. Интерес же социологического аспекта достигает здесь силы увлекательного детектива. Пытаться понять случаи такого рода в привычных мыслительных штампах шпионских фильмов и романов невозможно в принципе. Что делал Абель в США? Что угодно, а возможно и ничего, что означает то же самое. Какова была роль Абеля? Возможно – ничтожна, возможно – огромна. И опять-таки нет существенной разницы в этих крайностях. Действия человека как элемента системы суть нечто качественно иное, чем действия человека самого по себе. К тому же Абель был не только элементом действующей системы, он был одновременно орудием и объектом действия системы, – вот что особенно важно в случаях системного эффекта. Тут в принципе любой человек может быть использован системой любым подходящим для нее способом, причем все связанное с ним может быть легко переинтерпретировано задним числом, а все будущее может быть заменено событиями, ничего общего не имеющими с первоначальными замыслами. Замыслов вообще может не быть, – они могут изобретаться постфактум. Здесь нет отходов и потерь, здесь все идет в пищу всепоглощающей системы. Истина здесь не затвердевает в форме, удобной для отчетов и детективных историй. Она просто испаряется, оставляя после себя лишь недоумение.
И еще несколько слов об одном важном эффекте системности. В деятельности людей как элементов системы нет никакой романтики, никакого героизма, никакого выдающегося интеллекта. Есть всепобеждающая серость и унылость системы, принимающая яркие персонифицированные краски лишь в склонном к сенсациям сознании Запада, да иногда в советских пропагандистских книжках и фильмах. Заурядность в каждом звене и шаге. И поразительный устрашающий эффект в целом. Тут имеет место нечто подобное татаро-монгольскому нашествию. Каждый член татаро-монгольских орд по отдельности был ничтожен, каждая операция этих орд по отдельности не была отмечена признаком военного таланта, а в совокупности татаро-монгольское нашествие нанесло такой удар по человечеству, который не забудется вовек. Речь ведь идет не о созидании, а об эксплуатации созданного другими и о разрушении.
Есть в истории Абеля один человеческий момент. Он был лично человек незаурядный, и потому он никогда не был полностью акцептирован своей системой и никогда не чувствовал себя в ней полностью своим. Может быть по этой причине он не был вознагражден адекватно своему «подвигу». Хотелось бы остановиться на этом, но тут же выползает ядовитый и беспощадный вопрос: а что, если награда была адеквативна его реальной роли?! Не стоит напрасно ломать голову в поисках ответов по принципу «да-нет», «так-не так». Их просто нет. Система рушит все четкие разграничительные линии и здравые критерии оценок. Она заинтересована в бесформенности, расплывчатости, многосмысленности. Она может возвеличить ничтожество и низвести до уровня ничтожества выдающуюся личность, может придать статус эпохальности мелкому событию и обойти молчанием действительно эпохальные события. Она легко придает вид добродетели тому злу, какое она источает сама, и вид зла всякой добродетели, стоящей на ее пути. Ибо она есть сила разрушающая. И мелькнувшее было сочувствие к несчастному в конце жизненного пути Абелю тут же гасится мыслью о его принадлежности к этой системе. Книга Хенкина является, насколько мне известно, первой серьезной попыткой изобразить феномены мирной советской экспансии на Запад именно как явления жизнедеятельности социальной системы такого рода.
А. Зиновьев
1. Я не забыл моего друга Абеля, но и мне его не забывают
Осип Мандельштам любил повторять фразу Велемира Хлебникова: «Участок – великая вещь. Это место встречи меня и государства».
В начале 1974 года в Вашингтоне у меня была встреча с сотрудниками русского отдела Государственного департамента. Беседа подходила к концу, когда чиновник, старший годами и положением, обронил, словно невзначай:
– Не расскажете ли вы нам о полковнике Абеле?
Перед тем, от имени недавно оставленных в Москве друзей, я около двух часов говорил о судьбе советских евреев. Вопрос не имел никакого отношения к нашей беседе.
– Человек, известный в вашей стране под именем полковника Абеля, – сказал я, – был моим другом в течение тридцати лет...
* * *
Я вспоминал, проверял факты, много прочел и исписал изрядное количество страниц. И понял, что не сумею рассказать о «полковнике Абеле», не говоря попутно о себе и о моем уходящем поколении. А получилась не биография моего друга и не автобиография, а записи по поводу его жизни. И моей.
– Вы были членом профсоюза?
– Разумеется. В Советском Союзе всякий работающий автоматически принадлежит к профсоюзу.
Беседа проходит в генеральном консульстве США во Франкфурте-на-Майне, куда меня вызвали («обязательно с женой») для собеседования по поводу иммиграционной визы.
Благословляю американские порядки и строй, не дающие вице-консулу возможности, при явном желании, применить ко мне «строжайше запрещенные партией методы следствия».
Допрос – иначе не назовешь – ведут двое: юный вице-консул и некто постарше.
– Вы воевали в Испании?
– Разумеется.
– Вы пытались это скрыть!
– Я этого никогда не скрывал.
(Что греха таить, я даже всегда втихомолку гордился моим испанским прошлым и скромно им хвастался.)
– В Москве вы жили по адресу...
Начинаются муки произношения. Я прихожу на помощь:
– Ко-тель-ническая набережная. Дом один-дробь-пятнадцать, корпус «В», шестой подъезд, второй этаж, квартира 78, телефон 227-47-89, пока его мне не отключили.
– Нам известно, что в этом доме жили также довольно известные люди.
(Да, в моем подъезде была квартира Паустовского, в пятом жил Вознесенский, в девятом – Твардовский, и Фаина Георгиевна Раневская, пока не переехала на Фрунзенскую набережную. Жили в этом доме Евтушенко, Зыкина, Уланова, Патоличев...)
– Нам известно, что в Советском Союзе квартиры распределяются соответственно степени преданности режиму. Следовательно...
(Разве расскажешь, как, бездомный, написал челобитную Маленкову в первые две недели его царствования. Добрые люди посоветовали: пишите скорее, первые просьбы дойдут и будут услышаны. Всего этого не объяснишь.)
– Почему вы скрыли в анкетах, что воевали в Испании? Если бы не сигнал из Вашингтона...
(Был уверен, что написал. Вернувшись домой, проверил фотокопии всех поданных анкет. И оказалось, что там нет ни одного вопроса, на который я должен был ответить, что сорок лет назад участвовал в гражданской войне против Франко.)
– Вы как-то говорили, что в молодости были коммунистом. Сегодня вы сказали, что сочувствовали коммунистам. Это – разные вещи.
– Скажем, я настолько сочувствовал, что поехал воевать.
(Вспоминаю, что в те годы твердо считал себя коммунистом. Начальство в этом сомневалось. И было, вероятно, право.)
– Значит, в Москве вы жили на...
Опять нечленораздельные звуки.
– Да, я уже говорил: Котельническая набережная, высотный дом.
Снова канитель о жильцах этого дома и что, следовательно...
(Рассказать ему, что ли, как мой пес Миня оттрепал во дворе черного пуделя Евтушенко по кличке Соломон? Начался скандал. Жена сказала, что Миня воспитан на Мандельштаме и что назвать собаку «Соломон» – антисемитизм.
Евтушенко капитулировал, начал извиняться, объяснять, что пса назвал в честь американского импрессарио Соломона Юрока.
Смешно – когда-то, в другой жизни, Юрок был импрессарио моего отца.)
– Нам известно, что когда вы работали в Праге, в журнале «Проблемы мира и социализма», у вас был дипломатический паспорт. Это большая привилегия...
– У меня был общегражданский паспорт!
– То есть паспорт, дающий особые привилегии?
– Да нет! Как раз наоборот!
– Как вы сказали? Обще...
Перевожу. По его просьбе пишу латинскими буквами «общегражданский».
(Неужели ему нужен образец моего почерка? Или он впрямь думает, что я разъезжал с дипломатическим паспортом? Впрочем, думай он так, то возился бы со мной, как с писаной торбой!)
Вице-консул идет с козырного туза:
– Когда вы ездили в 1974 году в Соединенные Штаты, вы подписывали вот такую бумагу?
Читаю: «Настоящим подтверждаю, что не намерен искать в США работу и зарабатывать там деньги, что я никогда не принадлежал к коммунистической партии или организации, ей подчиненной».
– Не помню, по-моему, я такой бумажки не подписывал.
– Тогда кто-то совершил серьезную ошибку. Факт, однако, остается фактом: вы принадлежали к профсоюзу. А профсоюз...
(Знаю, «профсоюз – школа коммунизма». Но объяснять милому юноше, что принадлежность к советскому профсоюзу не обязательно отражает политические убеждения?..)
Вступает старший «следователь»:
– Вы, однако, были членом Союза журналистов СССР. Что побудило вас туда вступить?
(Не что, а кто! Побудил меня Юра Козловский, наш сотрудник, уполномоченный создаваемого тогда Союза по Радиокомитету. В 1958 году сколачивали империю, набирали поскорее да побольше. Вступил, платил членские взносы. Иногда ходил в ресторан Дома журналистов. Что еще? А ничего!)
– А Союз журналистов, как известно, находится под контролем ЦК русской партии.
– А что не находится?
Все задаваемые мне вопросы имеют одну цель: подтвердить, что, пользуясь в Советском Союзе особыми привилегиями, будучи особенно верным и ценным слугой режима, я пытался это скрыть.
И тщетны мои попытки объяснить, что «не был, не состоял, не участвовал»!
Чуть заметная пауза. Старший рассеянно смотрит в окно. Юнец шуршит бумажками, говорит, не поднимая головы:
– Когда вы работали в Институте иностранных языков Красной Армии, там среди ваших сослуживцев был также полковник Абель!
Наконец-то вы задали вопрос, ради которого приглашали меня сюда!
(От Нюрнберга в нескольких местах чинили дорогу, надо было гнать, чтобы не опоздать. Я не люблю опаздывать. Приехали точно. Сообщили о приезде секретарше.
Дверь кабинета, куда нам предстояло пройти, часто приоткрывалась, оттуда выглядывал юный вице-консул. Мимо нас несколько раз прошмыгивал какой-то пожилой чиновник с папкой под мышкой. Подходил, наблюдал меня с короткой дистанции.
Мы ждали тридцать четыре минуты! Не тридцать пять, я следил по часам и загадал: ровно в тридцать пять минут – уезжаем. А перед этим я говорю секретарше, что господин вице-консул может мое необдуманно поданное заявление засунуть... да, именно туда!
Я уже встал, набрал воздух и двинулся к секретарше, когда раскрылась дверь кабинета и юнец предложил мне пройти. И я прошел. Но тон беседы долго еще держался на том, для ругани набранном, вдохе.)
При упоминании имени Вилли я немного размяк:
– Полковник Абель, как его называли в Штатах, никогда не работал в военном Институте иностранных языков. Но он был моим другом тридцать лет.
– Значит, можно сказать, что вас с ним связывало многолетнее сотрудничество?
– Нет, я этого не говорил.
– Тогда как же вы определите свои с ним отношения: как рабочие или как светские?
(При слове «светские» я вспоминаю Вилли, хлюпающего в резиновых сапогах по дачным лужам, приступы эпилепсии его спаниеля Бишки, охоту на крысу, хитроумные устройства в убогом его сортире...)
– Наши отношения были чисто дружеские.
– И соседские. Вы ведь жили с ним в одном доме.
Мелькает мысль: о том, что во время войны я жил у Вилли, я никогда никому не говорил. Да, но там, в деле на Лубянке, это наверно записано.
– Полковник Абель никогда не жил в моем доме!
После каких-то ничего не значащих вопросов:
– Вы приезжали в Штаты под чужим именем? У нас имеются сведения, что вы приезжали в Штаты под именем Бейт-Бродецкий.
Наживаю себе врагов: объясняю, что Бейт-Бродецкий – название ульпана в Тель-Авиве, где только что приехавшие из Советского Союза люди с высшим образованием изучают иврит, привыкая к жаре и кошерной пище. Врагов – потому, что поверить мне – значит признать, что над ними кто-то посмеялся.
Мне уже ясно, что в папках, куда оба чиновника время от времени заглядывают, – не просто справки обо мне, а систематически фальсифицированная история моей жизни.
Высотный дом на Котельнической увязан с Союзом журналистов, из работы в Праге извлечен дипломатический паспорт. Я превращен в многолетнего сотрудника и сослуживца Вилли. Мы вместе готовили шпионов. Отсюда вывод: я приезжал в Штаты под именем Бейт-Бродецкий!
Теперь, чтобы удостоиться иммиграционной визы, я должен доказать, что Союз журналистов – не КПСС, что у меня не было дипломатического паспорта, что мне не подавали служебную «Чайку».
Где я получу обо всем этом справки? Какой ЖЭК мне их заверит?
– Скажите, – говорит пожилой (он не так, как молодой, клокочет от разоблачительного рвения), – припомните: нет ли у вас врагов в США?
Он устало пожимает плечами, кивая на папку, которую держит в руке.
– Это мог сочинить и человек, которого я в глаза не видел. Или кто-нибудь, кого я считаю своим приятелем.
– Вам ничего не говорит фамилия...?
То, что он произносит, можно истолковать как угодно. Расчет прост: я начну гадать, назову какую-нибудь фамилию, и начнется: а кто, а откуда вы его знаете, а почему вы думаете?..
– Мне это имя ничего не говорит.
– Подумайте, кто ваш враг в США?
– Все мои враги в Москве или в Мюнхене!
– Кто, – вцепляется молодой, – назовите имена!
– У вас нет чувства юмора. У меня вообще нет и не может быть врагов. Меня все любят.
* * *
Примерно в то время, когда я был в Вашингтоне и беседовал с сотрудниками русского отдела Государственного департамента, мне с оказией пришло письмо из Москвы. Одно – от живущего ныне в Израиле Александра Гольдфарба, второе – от проживающего в США Владимира Козловского.
Алик Гольдфарб писал: «Нас считают более или менее вашими преемниками, но ваша поездка по Соединенным Штатам была настолько успешна, что по дошедшим до нас сведениям те, кто отвечает за выдачу вам разрешения на выезд, получили взыскание».
«Как пишет Алик, – добавлял Володя Козловский, – нам стало известно из надежных источников, что в КГБ очень недовольны тем, что вы делали в США, и чиновники, ответственные за выдачу вам злополучной выездной визы, получили за такой просчет сильную головомойку. Боюсь, что теперь они будут стараться быть сверхбдительными!»
Бдительность, как известно, не знает границ. Если прошляпили на выезде из СССР, пусть хотя бы не получу иммиграционную визу в США. Впрочем – правильно. Нечего мне там делать! Побывал – хватит.
* * *
– Отец, – сказал мне молодой коллега, в недавнем прошлом капитан государственной безопасности, – отец: не надо драматизировать! Для того, чтобы вас совсем ухлопать, надо подпись аж самого Главного. Да и тот будет согласовывать с ЦК. А нагадить, отец, это они могут вам где угодно! Это уж вы мне поверьте!
Я терпеть не могу встречаться с государством.
2. Абель проверял «Шведа»
Человека, которого арестовали и осудили в 1957 году в Соединенных Штатах под именем Рудольфа Ивановича Абеля, звали Вильям Генрихович Фишер.
Настоящий Рудольф Иванович Абель, тоже офицер КГБ, умер в 1957 году в Москве и похоронен на Немецком кладбище.
Друзья и близкие называли моего друга Вилли. Так буду называть его и я.
Мы подружились с ним в годы войны, потом долгое время не виделись, а затем снова дружили – до самой его смерти в 1971 году. Вилли мало говорил о своей работе, и выводы, к которым я пришел относительно его миссии в Соединенных Штатах – это результаты моих наблюдений, внимательного прочтения опубликованных материалов, умозаключений, подкрепленных отдельными его замечаниями. Или молчанием.
* * *
Вспоминая то утро в Нью-Йорке, когда агенты ФБР ворвались к нему в номер гостиницы со словами: «Полковник, мы знаем о вашей шпионской деятельности!», Вилли сказал своему защитнику Доновану, что к такой минуте разведчик готовится всю жизнь. Насколько Вилли был готов, Донован, однако, не знал. И я понял не сразу.
* * *
Это было вскоре после возвращения Вилли в Москву, в его крохотной, темной, и на редкость, даже по московским стандартам, противной квартирке на проспекте Мира. Когда жена, Елена Степановна, вышла на кухню, я спросил:
– Почему при аресте вы назвались именем Абеля?
– Во-первых, потому, что биографию Рудольфа я знал, как свою, во-вторых, потому, что я таким образом давал сигнал в Центр, и, наконец, потому, что я проверял Шведа.
«Швед», он же Никольский, он же Александр Орлов.
* * *
...Когда началась гражданская война в Испании, я жил в Париже, учился в университете и считал себя коммунистом. Как многие другие, я рванулся ехать воевать против фашизма. На вербовочном пункте, устроенном французской компартией в доме Профсоюза металлистов на улице Матюрен Моро, 7, со мной не стали даже разговаривать, как только узнали, что я советский гражданин. Выехав из СССР в 1923 году и давно живя на эмигрантском положении, наша семья не сменила советские паспорта. И вот теперь я из-за этого не мог попасть на фронт, мог оказаться «за бортом истории»!
Я заметался. Через знакомого русско-датского анархиста Бронстэда (о его сотрудничестве с советской разведкой я узнаю позднее, уже в Барселоне) я связался с Волиным. Тот меня принял радушно, обещал переправить в Испанию через своих французских друзей-анархистов, велел зайти через три дня.
Но уже на следующее утро к нам прибежал наш хороший друг – Сергей Эфрон, муж поэтессы Марины Цветаевой.
– Кирилл сошел с ума! – закричал он с порога. – Зачем он связался с анархистами? Если он непременно хочет ехать, я, так и быть, ему это устрою.
И устроил. Когда я вернулся на улицу Матюрен Моро, те же люди без лишних разговоров включили меня в первую группу на отправку. Кроме того, Сергей Яковлевич сказал мне, что воевать в окопах может всякий, мне же предстоит делать что-то «интересное». Только границу перейти следует со всеми.
Что это будет за «интересная» работа, он не сказал. Мое дело – доехать до Валенсии, явиться в гостиницу «Метрополь», спросить товарища Орлова. Остальное – не моя забота.
* * *
Прошло сорок лет. Даже помни я хорошо город, я не узнал бы сегодня силуэт Валенсии. Я задумал: как только выберу ночлег, проверю по телефонной книге, поброжу по городу, поищу гостиницу «Метрополь». Почему бы ей не сохраниться? Я помнил: где-то рядом – вокзал и арена боя быков.
Это было, как во сне. Делая очередной круг по улицам с односторонним движением, я выехал на площадь. Слева высилась громада арены, за ней – вокзал. Справа восьмиэтажное здание и, вертикально, огромными буквами: «Отель Метрополь».
* * *
Приехав тогда из Барселоны в тамбуре переполненного вагона с выбитыми стеклами, пропитанный сажей, голодный и усталый, я оставил своих товарищей, вышел на привокзальную площадь и сразу – вот он, «Метрополь».
В стоявших у подъезда открытых машинах сидели загорелые блондины в военной форме, в вестибюле дежурили вооруженные охранники-сербы. За стойкой портье были, кроме служащих гостиницы, еще какие-то люди в штатском с колючими, одинаковыми во всем мире, глазами. Я точно помню, что стойка была слева от входа. Сегодня она справа от лифта, в глубине холла...
– Давно ли построен отель? – спросил я портье, предъявляя свой израильский паспорт.
– В 35-м году, сеньор, – ответил дежурный. – Это был тогда самый шикарный отель в городе. Я работаю здесь со дня его открытия.
– А во время войны?
– Во время войны, сеньор, тут было советское посольство. Тогда всю гостиницу занимали русские.
– Вы никого не помните из тех, кто здесь жил?
– Одну минутку, сеньор!
У дежурного объявились срочные дела. Он исчез, и я больше его не видел.
* * *
...Грязный, небритый и голодный, я пересек тогда площадь, вошел в гостиницу и сказал дежурному, что мне нужно видеть товарища Орлова. После некоторого ожидания меня проводили. Если не ошибаюсь, на седьмой этаж...
* * *
А теперь я взял ключ у портье и в сопровождении помощника швейцара, тащившего мой чемодан, поднялся на пятый этаж в комнату 514. Гостиница, бывшая или казавшаяся мне сорок лет назад шикарной, стала, несмотря на свои три звезды, довольно убогой и обшарпанной.
Оставшись один, я поднялся двумя этажами выше.
Позже мне приходилось читать, что Орлов, главный представитель НКВД в Испании, контролировавший и разведку, и контрразведку, и партизанские отряды, в которых я позже служил, и влиявший на все политические решения, был высокого роста. Возможно. Мне, кроме нашей первой встречи в «Метрополе», пришлось видеть его всего один раз мельком в Барселоне. Но я запомнил лишь, как вскочили и вытянулись тогда все в комнате. Это было незадолго до его бегства в Канаду, а оттуда в США.
* * *
...Войдя в комнату, Орлов сел на довольно значительном от меня расстоянии. Меня поразила его ухоженность. Только что душ, только что бритье с одеколоном... Он был одет по-утреннему: в серых фланелевых брюках, в шелковой рубашке без галстука. На поясе – открытая замшевая кобура с пистолетом Вальтер калибр 7,65.
Мне повезло. Выслушав мои путаные объяснения: кто я, зачем, от кого, откуда приехал (его, разумеется, никто ни о чем не предупредил) и почему пришел именно к нему, он не приказал охране меня пристрелить. Для порядка. Такое бывало.
Мне повезло, что никто меня не ждал, и на «интересную работу» я попал позже; а до этого, пройдя через Альбасете – базу формирования интербригад и службу в одной из них, – я успел узнать, как воевали в Испании.
Но в то утро я обо всем этом не думал. Я был зачарован и парализован зрелищем завтрака, который у меня под носом вкушал Орлов.
Лакей в белой куртке вкатил столик, снял салфетку и удалился. Орлов намазал маслом горячий тост, откусил уголок, принялся за яичницу с ветчиной, иногда отхлебывая кофе. К сливкам он не прикоснулся. Он не был, видимо, особенно голоден. Слушал он рассеянно, иногда задавая вопросы, которые должны были меня запутать, сбить. Но в основном – почти не прерывал.
Я же старался не пялиться на еду, не показать, что я голоден, не потерять лицо. Я не ел больше суток.
Подтерев остаток желтка кусочком круасана и отпив последний глоток кофе, Орлов отодвинул столик, на котором оставались еще булочка, масло, кувшинчик со сливками и полкувшинчика кофе, достал пачку «Лакки Страйк» (я навсегда запомнил эту – в те годы зеленую – пачку с красно-белым кругом), вынул сигарету и закурил.
– Мы вам сообщим.
* * *
Уже во время второй мировой войны в Москве я более подробно узнал об обстоятельствах бегства Орлова.
Из Испании его вызвали во Францию для встречи с высоким начальством на борту парохода «Свирь» в порту Гавр. Орлов понял, что его вызывают не для встречи с наркомом Ежовым, а для ареста. Орлов, который, приезжая в Москву, докладывал лично Сталину, пользовался редкой привилегией – он жил за границей с женой и дочерью. Они ждали его во Франции, в Перпиньяне. Он выехал на машине. После его отъезда обнаружили, что он по рассеянности взял с собой ключ от сейфа. В Париж, в советское посольство, была послана шифровка: как только приедет Орлов, пусть пришлет ключ с нарочным обратно! Орлов в посольстве не объявился и бесследно пропал. Сейф вскрыли. Там не хватало тридцати тысяч долларов, – суммы по тем временам вполне солидной.
Зато там было письмо. В нем Орлов писал, что не хочет возвращаться в СССР и обрекать себя на смерть, а семью на мучения. Но в Москве оставалась его мать, и он ставил условие: пока ее не тронут, он не выдаст ни одной из известных ему тайн советской разведки.
Когда мне рассказали эту историю, с момента бегства Орлова прошло лет пять. А мать его продолжала жить в Москве на старой своей квартире, и никто ее не тревожил.
Но в 1957 году – мать Орлова давно умерла, и не было у беглеца заложников в Москве. Умер Сталин, изменился весь мир. Однако, когда в комнату гостиницы «Лэтэм» в Нью-Йорке ворвались рано утром люди со словами: «Полковник, нам все известно о вашей шпионской деятельности», – то мой друг Вилли Фишер, прикрывая одной рукой срам, потому что он был гол, а другой шаря по ночному столику в поисках очков и вставной челюсти, уже знал, что через несколько дней заявит агентам ФБР:
– Я полковник советской разведки Рудольф Иванович Абель.
Он знал, что ему после арестапредстояло проверять Шведа...








