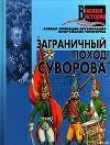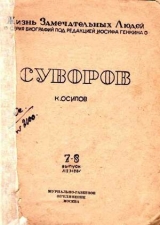
Текст книги "Суворов (1-е изд.)"
Автор книги: Кирилл Осипов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
В тот же день французы под начальством Сульта нанесли страшное поражение корпусу Готце. Австрийцы бежали в совершенной панике. Сам Готце был убит. Отряд Линкена самовольно удалился без боя из Глариса.
Таким образом, ко дню прихода Суворова в Муттенскую долину, в Швейцарии не осталось ни одного полка коалиции, который мог бы оказать ему военную или продовольственную помощь. А помощь эта была бы очень кстати, «В продовольствии, – рассказывает один участник похода, – чувствовался большой недостаток; сухари от ненастной погоды размокли и сгнили; местные селения были бедны и ограблены французами… Мы копали в долинах какие-то коренья и ели… Мяса было так бедно, что необходимость заставляла употреблять в пищу такие части, на которые бы в другое время и смотреть было отвратительно. Даже и самая кожа рогатой скотины не была из’ята из сего употребления: ее нарезывали небольшими кусками, опаливали на огне шерсть, обернувши на шомпол, и, таким образом, ели полусырую».
Несколько тысяч изнуренных людей, без хлеба, без патронов, стояли лицом к лицу с восьмидесятитысячной свежей могучей армией, союзником которой являлись непроходимые горы и холод. Борьба была безнадежна. Казалось, остается только капитулировать.
В том, что для русской армии нет выхода, что она должна будет сдаться, не сомневался сам Массена. Выезжая из Цюриха к Муттену, он с усмешкой заявил пленным русским офицерам, что через несколько дней привезет к ним фельдмаршала и великого князя.
Среди офицеров суворовской армии также начался шепоток о почетной сдаче. Быть может, только у одного человека ни разу не мелькнула эта мысль – у больного, пылавшего в жару семидесятилетнего старика, который, сидя в казацком седле, делил с солдатами все невзгоды.
Первой мыслью Суворова было устремиться на Швиц, где можно было раздобыть продовольствие. Но благоразумие взяло верх: рано или поздно его пятнадцатитысячная армия была бы уничтожена сытыми, обеспеченными боевыми припасами дивизиями Массены. Тогда он решил пробиваться на Гларис, где надеялся соединиться с Линкеном и, отдохнув, «обновить» кампанию. Войскам предстояли новые неимоверные затруднения. Надо было поднять их дух, перелить в них, от генерала до последнего солдата, неукротимую волю к борьбе. Суворов созвал на 29 сентября военный совет[64]64
Характерно, что состоявший в армии Суворова австрийский генерал Ауфенберг не был приглашен на совет.
[Закрыть].
Явившийся первым Багратион застал Суворова в необычайном волнении. Одетый в фельдмаршальский мундир, при всех орденах и регалиях, он ходил скорыми шагами по комнате и, не замечая Багратиона, бросал отрывистые слова:
– Парады… Разводы… Большое к себе уважение… Обернется – шапки долой… Помилуй господи… Да, и это нужно – да во-время… А нужнее-то – знать вести войну… Уметь бить… А битому быть не мудрено! Погубить столько тысяч… И каких… В один день… Помилуй господи…
Багратион тихо вышел, оставив фельдмаршала в тревожном раздумье. Повидимому, перед ним проносились жуткие призраки всех тех, кто были настоящими властителями армии и по чьей вине гибли теперь многие тысячи русских и подвергалась суровому испытанию его собственная слава.
Когда собрались все приглашенные, Суворов заговорил. Это не был более суматошный, чудаковатый старик. Голос его звенел от сдерживаемого волнения, энергичная речь электризовала слушателей. Он сделал краткий обзор итальянской кампании, перечислил все происки австрийцев, обрисовал старания удалить его из Италии. Он осудил преждевременное выступление из Швейцарии эрцгерцога Карла, приведшее к поражению Корсакова, и с горечью упомянул о роковой потере пяти дней в Таверно.
– Теперь мы среди гор, – подвел он итоги, – окружены неприятелем, превосходным в силах. Что предпринять нам? Итти назад – постыдно; никогда еще не отступал я. Итти вперед к Швицу невозможно: у Массены свыше шестидесяти тысяч, у нас же нет и двадцати. К тому же, мы без провианта, без патронов, без артиллерии… Помощи нам ждать не от кого… Мы на краю гибели… Одна остается надежда: на бога, да на храбрость и самоотвержение моих войск. Мы русские!..
Голос его пресекся, и он, не стыдясь, заплакал.
Генерал Дерфельден от имени всех присутствовавших заявил, что войско готово безропотно итти всюду, куда поведет его великий полководец.
Суворов оживился. Глаза его заблистали.
– Да, – сказал он с уверенностью, – мы – русские, мы все одолеем!
На следующий день Багратион выступил с авангардом в направлении на Гларис. За ним следовала дивизия Швейковского. Корпус Розенберга остался в Муттене удерживать приближавшегося от Швица неприятеля.
Массена, лично руководивший операциями, обладал крупным превосходством в силах. Но произведенный им натиск не увенчался успехом. Полки Милорадовича и Ребиндера совместно с казаками Грекова опрокинули французов и гнали их на расстоянии четырех верст. С зарею Массена опять повел атаку – и снова неудачно. Безостановочно преследуемые русской пехотой, французы в беспорядке отхлынули обратно. Поблизости от Муттена протекает речка Муота. Боковые стенки перекинутого через нее каменного моста были сломаны, так что осталась одна арка. Это обстоятельство оказалось роковым для французов. Мост был сразу загражден бежавшими французскими солдатами, всадниками, зарядными ящиками и увозимыми орудиями. Возникла ужасная давка, в результате которой люди десятками скатывались в реку. Казаки преследовали беглецов до самого Швица. Это была редкая в военной практике победа изможденных, окруженных, отступающих войск над гораздо более многочисленным, свежим, победоносным противником. Она показала, что суворовской армии было незнакомо уныние и что боевой дух ее оставался непоколебимым.
Задача арьергарда была, таким образом, блестяще выполнена, и он мог следовать за ушедшей к Гларису армией. Желая оторваться от противника, Розенберг прибег к хитрости: он послал магистрату Швица распоряжение приготовить на 2 октября продовольствие для 12 тысяч русских, которые якобы войдут в город. Массена, разумеется, тотчас узнал об этом, и весь день ожидал приближения русских, в то время как Розенберг тихо снялся с бивака и пошел к Гларису[65]65
В Муттене были оставлены больные и раненые: 600 русских и тысяча пленных французов.
[Закрыть]. Французский полководец никогда не мог простить себе, что попался на эту уловку. Убедившись, что догнать русских не удастся, он бросился кружным путем к Гларису.
После панического отступления Линкена Гларис был занят французской дивизией Молитора. Отряд Багратиона героически атаковал французов, но условия местности и здесь представляли огромные выгоды для обороны. Ночь застала русских у подножия укрепленной горы; они лежали на снегу, не имея даже хвороста, чтобы разжечь костры. В это время подошли главные силы. Прибывший с ними Суворов отыскал Багратиона и стал буквально умолять его сделать еще усилие. Багратион взял егерский полк и четыре батальона гренадеров и, пользуясь густым туманом, пошел в обход неприятельского расположения. Добравшись по скалам в кромешной тьме до противника, солдаты бросились в штыки. Многие в темноте срывались с кручи и гибли на дне ущелья. В это время дивизия Швейковского возобновила фронтальную атаку. Комбинированный удар принудил французов отступить; с помощью прибывших подкреплений они оттеснили русские войска, но те снова обратили их в бегство. Некоторые пункты по шести раз переходили из рук в руки.
В конце концов, Гларис остался за русскими. Там нашлись кое-какие запасы продовольствия, и войска впервые за много дней получили горячую пищу. Через три дня – 4 октября – подошел арьергард Розенберга. Измученная, но все еще грозная армия могла двигаться дальше. Но куда?
Первоначальный план – соединиться в Гларисе с Линкеном и пройти затем к Саргансу, где расположились остатки корпуса Готце, – оказывался несостоятельным: Линкена и след простыл, а на пути в Саргане стояла армия Массены. В иных условиях Суворов не задумался бы напасть на Массену, но у русских совершенно иссякли патроны, войска в полном смысле слова голодали и так оборвались, что походили на сборище нищих. Генерал Ребиндер ходил в ботфортах без сапог, обернув ступни ног кусками сукна, чтобы хоть немного предохранить себя от снега и острых камней; солдаты не имели и этого.
Вновь созванный военный совет постановил уклониться от дальнейшего боя и, стремясь лишь к сохранению армии, повернуть на юг, в долину Рейна, на Иланц. Там, соединившись с Корсаковым и притянув артиллерию, можно было возобновить кампанию.
Оставив в Гларисе на великодушие французов тяжело больных, армия Суворова в ночь на 5 октября начала свой последний швейцарский переход.
Путь, предстоявший русским войскам, был еще труднее, чем все прежние переходы. Надо было перебраться через снеговой хребет Ринненкопф (Паникс). Узкая тропинка, кружившая по краям отвесной кручи, сделалась совсем непроходимой, из-за неожиданно выпавшего в горах снега. Этот внезапный снегопад явился тяжелым завершением тех неудач, которые преследовали армию во все время швейцарского похода.
Пока Багратион прикрывал под Гларисом движение главных сил, выдерживая без патронов и без снарядов ожесточенные атаки французов, авангард Милорадовича начал страшный под’ем на Паникс. Теперь нечего было и думать перетащить артиллерию; оставшиеся 25 орудий были сброшены в пропасть, либо зарыты в землю. Около 300 вьюков с продовольствием погибли из-за невозможности удержать скользивших по обледенелому снегу мулов и лошадей.
Солдаты с завистью вспоминали переход через Росшток. Чем выше, тем труднее было итти; местами приходилось ползти на четвереньках по обледенелой, гладкой коре. Все проводники разбежались, и войска лезли наобум, проваливаясь часто в снежные сугробы. Вьюга сметала все следы, так что каждому человеку приходилось искать самому точку опоры. Срываемые бурей камни с грохотом неслись в бездну, увлекая нередко людей. Каждый неверный шаг стоил жизни. Споткнуться значило умереть.
Суворов с горевшими от лихорадки глазами ехал среди солдат, дрожа от порывов ветра под своим легким плащом.
– Ничего, ничего, – повторял он, – русак не трусак… Пройдем.
Два казака вели под уздцы его лошадь. По словам очевидца, фельдмаршал порывался пойти пешком, но его телохранители молча придерживали его в седле, иногда с хладнокровием говоря:
– Сиди! – и Суворов покорно подчинялся им.
Гак взобрались на вершину Паникса.
Ни одна тропинка не вела вниз – только крутые, обледенелые обрывы. Передовые, попробовавшие спуститься, почти все погибли. Не было ничего, за что можно было бы удержаться при падении – ни деревца, ни кустика, ни даже выступающего утеса.
Сделалась такая стужа, что руки и ноги не повиновались; много солдат замерзло.
Тогда кому-то пришла в голову мысль сесть на край пропасти и покатиться в мрачную бездну. Тысячи людей последовали этому примеру. Прижимая к телу ружья, солдаты и офицеры неслись в бездонную пропасть. Уцелевших лошадей таким же манером сталкивали вниз. «Сие обстоятельство, – говорит участник похода Грязев, – действительно зависело от случая: иные оставались безвредны, но многие ломали себе шеи и ноги и оставались тут без внимания со всем багажом своим».
К полудню 7 октября армия, перебравшись таким путем через хребет, собралась в деревне Паникс, а вечером прибыла в Иланц[66]66
Из 20 тысяч человек, выступивших в Швейцарию, в Иланц пришли 15 тысяч. Они привели с собою около 1500 пленных французов, которые вынуждены были разделять с суворовской армией все лишения.
[Закрыть].
Швейцарский поход был закончен.
– Орлы русские облетели орлов римских, – с гордостью произнес Суворов, оглядывая оборванных, исхудалых, но попрежнему бодрых солдат.
Беспримерные дни этого похода были грозным испытанием и для полковолна и для русской армии. Испытание это было выдержано столь блестяще, что четырехнедельная кампания явилась венцом славы Суворова и окружила ореолом величия русский народ. Эта кампания показала, что сила духа русского солдата, его энергия и упорство могут быть доведены до таких размеров, что способны одолеть самые невероятные препятствия: физические лишения, природу и врагов.
Возвращение в Россию
В ЧАСЫ, когда Суворов, ежась от стужи, пробирался над провалами Паникса, его мысль неустанно работала над планом новой кампании. Прямо с Паникса он отправил эстафету эрцгерцогу Карлу о том, что готов снова предпринять наступление, если австрийцы поддержат его войсками, продовольствием и боевым снаряжением. Несколько дней спустя он послал эрцгерцогу конкретный план наступления, но, не дождавшись ответа, резко изменил свои намерения. До него дошли сведения о чрезвычайном обострении отношений между Веной и Петербургом: крепкий «задним умом», Павел сообразил, наконец, к чему привела русскую армию двуличная политика ее союзников; были запрещены молебны об австрийских победах, курьерам к Суворову приказано ездить, не заезжая в Вену, и т. п. Суворову император прямо писал: «Главное – возвращение ваше в Россию и сохранение ее границ».
Быть может, острое чувство горечи от безрезультатности швейцарского похода побудило бы фельдмаршала все-таки «обновить» войну. Но его переговоры с австрийцами приняли весьма неблагоприятный оборот. Эрцгерцог не желал в точности сообщить, какое количество солдат он выставит в помощь Суворову, и вообще так повел дело, что созванный фельдмаршалом военный совет единогласно решил: «Кроме предательства, ни на какую помощь от цесарцев нет надежды; чего ради наступательную операцию не производить».
30 октября суворовская армия соединилась с корпусом Римского-Корсакова и с эмигрантским корпусом принца Конде; войска расположились на отдых близ Боденского озера. Австрийцы прилагали все усилия, чтобы договориться о новой кампании. Однако Суворов отклонил предложение о свидании с эрцгерцогом, пояснив графу Толстому, что «юный эрцгерцог Карл хочет меня обволшебить своим демосфенством»; переписка же обоих главнокомандующих от раза к разу приобретала все более раздраженные тона. Суворов услыхал, будто австрийский император намерен лишить его мундира австрийского фельдмаршала, и этот слух подбавил горечи к существовавшим неудовольствиям.
По поводу одного замечания эрцгерцога о военном искусстве он отозвался: «Суворов разрушил современную военную теорию, потому правила искусства принадлежат ему». Иногда он допускал в письмах к эрцгерцогу явно обидные, даже оскорбительные выражения. Была, например, такая фраза: «Такой старый солдат, как я, может быть проведен раз, но было бы с его стороны слишком глупо поддаться вторично». Поведение Суворова диктовалось накопившейся в нем ненавистью к австрийскому командованию. Теперь, когда его всегдашняя несдержанность возросла, он и не старался особенно скрывать своих чувств. Но к этим суб’ективным причинам прибавились другие, еще более веские.
Антагонизм между русским и австрийским генералитетом достиг высшей точки. Дошло до того, что на балу у Аркадия Суворова великий князь Константин выгнал явившуюся группу австрийских офицеров. Поведение фельдмаршала отражало в этом смысле господствовавшие в армии настроения.
Эти настроения находили себе отзвук и в дипломатических нотах русского правительства.
Когда начался швейцарский поход, Павел I еще был полон решимости раздавить французскую революцию. Его письма Суворову проникнуты ненавистью к революционному режиму.
«… Главная цель сей войны – восстановление королевства во Франции» (письмо Павла I от 7/IX 1799 г.).
«…Старайтесь достигнуть главной цели, без чего чудовище, во Франции существующее, неистребимо пребудет: разогнать правителей сей земли из Парижа и сделать из сего десятилетнего убежища всех преступлений единые развалины» (письмо Павла I oт 18/IX 1799 г.).
Предвидя, что для Суворова с имевшимися у него силами окажется невозможным уничтожить французские армии, Павел измыслил разжечь во Франции новое восстание. «…Советую испытать все средства, – писал он Суворову, – прежде, нежели решиться отступить домой: старайтесь произвести инзурекций во Франции и пойдите, если можно, за ней, но не рискуйте армией» (письмо Павла I от 18/1Х 1799 г.)[67]67
Рукописный Суворовский сборник, т. XIV.
[Закрыть].
Однако последующие события кое-чему научили даже Павла. Бесцеремонное хозяйничанье австрийцев в Италии, приведшее даже к восстанию в Турине, начатые Веной тайные переговоры с Францией о заключении сепаратного мира, преждевременное выступление эрцгерцога из Швейцарии – все это, в конце концов, пересилило желание Павла прослыть спасителем Европы. В октябре месяце он в решительных выражениях известил императора Франца о разрыве союза между Россией и Австрией.
Суворову было предписано начать приготовления к обратному походу в Россию. Чтобы не зависеть при этом от Австрии, ему предписывалось занять деньги у баварского курфюрста и оплачивать отныне все услуги австрийцев.
26 ноября русские войска выступили в обратный путь. Император Франц прислал Суворову отчаянный рескрипт, убеждая повременить с походом и обещая неограниченную поддержку в случае возобновления войны. «Единожды солгавши, кто тебе поверит?» – подумал Суворов. Он ответил, что не может остановить войска без нового повеления, и в заключение дал австрийцам совет:
– Если хотите воевать с Францией, воюйте хорошо, ибо плохая война – смертельный яд. Всякий, изучавший дух революций, был бы преступник, умалчивая о том. Первая великая война с Францией должна быть также и последняя.
Под влиянием Англии Павел решил задержать армию в Европе; 16 декабря войска были остановлены и размещены в Богемии в верхней Австрии. Но все старания англичан оказались тщетными. Австрийцы продолжали вести вызывающую политику. Они требовали, чтобы русские войска избрали для зимовки неавстрийские области, отказывались при обмене вывезенных Суворовым пленных французов выменивать русских солдат, наконец, сорвали силой русский флаг при совместных действиях против крепости Анконы. О том, каковы стали отношения недавних союзников, можно судить из письма графа Растопчина Суворову: «Приятно мне и радостно, что вы презрением платите этой гнусной цесарской каналии. Австрийцев надобно дать бить и заставить на коленях просить милости… Славу и честь вам, смерть и презрение цесарцам»[68]68
Рукописный Суворовский сборник, Т. XIV.
[Закрыть]. С другой стороны, в столь возмущавшем Павла революционном режиме Франции произошли серьезные изменения. В начале ноября вернувшийся из Египта Бонапарт совершил переворот (18 брюмера), означавший такие кардинальные сдвиги в государственном строе, что в Европе воскресли было надежды на восстановление во Франции монархии.
Рупор господствовавших в Петербурге настроений, Растопчин, писал 8 ноября 1799 года Суворову: «Бонапарт опять в столице злодейств. Но я думаю, что два раза добровольно жертвою он не будет начальников сего правления в падучей болезни. Он захочет или быть римским императором или взвести на престол бурбонский бог знает кого».
Решающее влияние на перемену курса внешней политики России оказало обострение отношений с Англией.
Завоевание французами Голландии и организация там Батавской республики явились тяжким ударом для Англии и потому, что этим создавался военный плацдарм для французского десанта, и потому, что Франция приобретала контроль над огромными богатствами голландских банкиров.
К защите своих интересов англичане опять сумели привлечь Павла I. Император отправил в Англию семнадцатитысячный русский корпус под командованием генерала Германа; там к нему должны были присоединиться 30 тысяч англичан, чтобы совместно высадиться в Голландии.
Русские войска попали в Англии в очень неблагоприятные условия. Их изолировали от населения, содержали почти как заключенных, скверно кормили и т. д. Когда начались боевые действия, англичане не выполняли своих обязательств по снабжению русского корпуса амуницией и военным снаряжением. Словом, повторялось на иной манер то же, что случилось в Италии и Швейцарии. Но в Голландии не было Суворова. Французы разгромили русский экспедиционный корпус и взяли в плен генерала Германа.
Павел I окончательно разочаровался в коварном Альбионе и с обычной экспансивностью изменил свои политические взгляды.
В начале января 1800 года Суворов получил собственноручное письмо императора: «Обстоятельства требуют возвращения армии в свои границы, ибо виды венские те же, а во Франции перемена, которой оборота терпеливо и не изнуряя себя мне ожидать должно… идите домой немедленно».
26 января армия двумя колоннами выступила в Россию[69]69
Кроме корпуса принца Конде, перешедшего на английскую службу.
[Закрыть].
Сохранились известия, что, вернувшись из Швейцарии, Суворов очень тревожился о том, как будет воспринято безрезультатное окончание похода, не умалит ли оно его полувековой военной славы. Но опасения его были напрасными. Было ясно до очевидности, в чем крылась действительная причина его неудачи, а проявленные им самим и всей армией необыкновенные стойкость и мужество только укрепили за Суворовым и его войсками мировую славу. Павел присвоил Суворову чин генералиссимуса всех российских военных сил[70]70
Кроме Суворова, звание генералиссимуса имели в России: Меншиков (при Петре I) и принц Антон Брауншвейгский, отец не царствовавшего императора Иоанна VI.
[Закрыть] и слал ему необычайно дружеские письма: «Извините меня, что я взял на себя преподать вам совет…», «Приятно мне будет, если вы, введя в пределы российские войска, не медля ни мало приедете ко мне на совет и на любовь», «Сохраните российских воинов, из коих одни везде побеждали, оттого что были с вами, а других победили, оттого что не были с вами» – такими фразами пересыпаны письма императора Суворову в этот период. Армия получила щедрые награды; почти всем офицерам были присуждены ордена и крупные денежные премии; все унтер-офицеры были произведены в офицеры; и даже нижним чинам, героям Нови и Паникса, была выдана награда – каждый из них получил… по 2 рубля!
Европейские государи соперничали в выражении внимания и восхищения Суворовым. Австрийский император – не без больших, правда, дебатов в гофкригсрате – прислал ему большой крест Марии-Терезии, баварский курфюрст, сардинский король, саксонский курфюрст осыпали его наградами. Курляндская принцесса была помолвлена с Аркадием Суворовым. Лорд Нельсон в письмах снова уверял Суворова, что «в Европе нет человека, который бы любил вас так, как я».
В этом звонком хоре слышались, правда, и другие голоса. Массена напечатал самовлюбленную реляцию, в которой силился изобразить русскую армию уничтоженной им; во Франции выпускались пасквили и памфлеты против старого полководца. Суворов опубликовал веское опровержение массеновских преувеличений, а пасквили читал с удовольствием и справлялся, нельзя ли переиздать эти «бранные бумажки».
Хотя большинство склонялось к мнению, что стратегические дарования Суворова менее велики, чем его несравненный гений тактика, но все признавали его великим полководцем, отмечая, что он не был побежден ни в одном крупном сражении, что под Рымником он с 25 тысячами человек победил 100 тысяч, под Козлуджи с 8 тысячами разбил 40 тысяч, а под Треббией с 22 тысячами победил 33 тысячи.
В юношеских мечтах своих видел Суворов такую славу. Но она пришла слишком поздно; он чувствовал уже холодное дыхание смерти, воспоминания его хранили тяжкий груз обид и несправедливостей, которым он не раз подвергался в своей жизни. Лучи этой славы казались ему теплыми, но не обжигали его.
Все же он был в это время очень весел и подвижен. В последний раз ему удалось превозмочь болезнь, и он часами играл в жмурки, в фанты, в жгуты, строго соблюдая правила игры и внося в нее мальчишеский задор. Он заставлял немцев выговаривать трудные русские слова, либо подолгу повествовал об одной замечательной плясунье в Боровичах. Но под личиной веселья он таил тяжелые предчувствия. Однажды он заставил отвезти себя на гробницу Лаудона, долго стоял там и, глядя на длинную латинскую эпитафию, в задумчивости промолвил:
– Зачем это? Когда меня похоронят, пусть напишут просто: «Здесь лежит Суворов».
Ко дню выступления русских войск из Богемии в Россию он почувствовал себя нездоровым. В Кракове он сдал командование Розенбергу и поехал вперед. Прощание с войсками было тяжелым. Полководец не мог произнести ни одного слова из-за подступивших к горлу рыданий. Солдаты безмолвствовали, понимая, что в последний раз видят Суворова.
Он еще был жив, но имя его уже стало достоянием легенды. Идя в поход, солдаты пели:
Число мало, но в устройстве.
И великий генерал.
Как равняться вам в геройстве,
Коль Суворов приказал?
Казаки, карабинеры,
Гренадеры и стрелки
Всякий на свои манеры
Вьют Суворову венки.
Новобранцы, приходя в полк, жадно слушали бесконечные рассказы ветеранов о любимом вожде.
Здравствуй, здравствуй, граф Суворов,
Что ты правдою живешь.
Справедливо нас солдат ведешь…
Справедливость была в то время очень нужна солдатам, и потому такой искренностью дышали слова их песни:
С предводителем таким
Воевать всегда хотим.
Двенадцать лет спустя, когда русскому народу пришлось отстаивать свою национальную независимость в борьбе против Наполеона, русская армия, возглавляемая Кутузовым, вдохновлялась памятью о великом учителе своего вождя Суворове, о его заветах и боевых традициях.
…А сам полководец, слабея с каждым днем, медленно подвигался к Петербургу. Ему было известно, что для встречи его выработан торжественный церемониал: придворные кареты будут высланы в Нарву, в’езд в столицу будет ознаменован пушечной пальбой и колокольным звоном, в Зимнем дворце приготовляются апартаменты для него. Все это тешило старика, поддерживало его дух, который, как всегда, был главной опорой его против болезни.
Тем не менее, пришлось отсрочить приезд в Петербург. Суворову стало хуже, и его, совсем больного, привезли в Кобрино. Император немедленно отправил к нему лейб-медика Вейкарта. Суворов лечился по-обычному неохотно.
– Мне надобны деревенская изба, молитва, баня, кашица да квас, – говорил он полушутя, полусерьезно, – ведь я солдат.
– Вы генералиссимус, – возражал Вейкарт.
– Так, да солдат с меня пример берет…
В глубине души он не верил уже в свое выздоровление. Однажды, когда его поздравляли со званием генералиссимуса, он тихо говорил:
– Велик чин! Он меня придавит! Не долго мне жить…
В феврале он написал Растопчину: «Князь Багратион расскажет вам о моем грешном теле. Начну с кашля, в конец умножившегося; впрочем, естественно, я столько еще крепок, что когда час-другой ветра нет, то и его нет. Видя огневицу, крепко наступившую, не ел почти ничего 6 дней; а наконец осилевшую, не ел во все 12 дней. Чувствую, что я ее чуть не осилил. Но что проку? Чистейшее мое тело во гноище лежит. Сыпи, вереда, пузыри переходят с места на место. И я отнюдь не предвижу скорого конца».
Немного погодя, когда в состоянии его здоровья наступило некоторое улучшение, он сообщил Фуксу: «Тихими шагами возвращаюсь я опять с другого света, куда увлекала меня неумолимая фликтена с величайшими мучениями».
Болезнь Суворова, которую он называл фликтеной, развилась на почве перенапряжения и полного истощения всех сил организма. Словно все раны и лишения трудной семидесятилетней жизни давали себя знать. Сказывалось и то, что полководец никогда не имел компетентного медицинского ухода. Отчасти он сам был виноват в этом, но еще больше те, кто стремились лишь использовать его в своих целях, не проявляя к нему никакой заботы. Теперь, на склоне своих дней, он отдал себе отчет, в числе многих других горьких истин, и в этом. В марте он писал Хвостову: «Надлежит мне высочайшая милость, чтоб для соблюдения моей жизни и крепости присвоены мне были навсегда штаб-лекарь хороший с помощником, к ним фельдшарл и аптечка. И ныне бы я не умирал, есть ли бы прежде и всегда из них кто при мне находился: но все были при их должностях».
Дошедшая до предела нервность и раздражительность делали Суворова нелегким пациентом. Вейкарт с трудом переносил его вспышки и резкие замечания. Единственно, что поддерживало больного, – это беспрестанные известия о всеобщем преклонении перед ним и о приготовлении к триумфальной встрече его. И вот тут дворянская Россия нанесла прославившему ее полководцу последний безжалостный удар.
20 марта[71]71
Начиная отсюда, даты указаны вновь по старому стилю.
[Закрыть] император Павел отдал, при пароле, повеление: «Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел при корпусе своем, по старому обычаю, непременного дежурного генерала, что и дается на замечание всей армии». В тот же день Суворову был отправлен рескрипт: «Господин генералиссимус, князь Италийский, граф Суворов Рымникский!.. Дошло до сведения моего, что во время командования вами войсками моими за границею, имели вы при себе генерала, коего называли дежурным, вопреки всех моих установлений и высочайшего устава; то и удивляясь оному, повелеваю вам уведомить меня, что вас понудило сие сделать».
Суворов получил этот рескрипт по дороге в Петербург: незадолго перед этим Венкарт разрешил ему выехать, хотя и с соблюдением предосторожностей; лошади медленно влекли дормез, где на перине лежал больной старик. Новая нежданная опала потрясла его. У него не было уже сил бороться с судьбою. В нем сразу ослабел импульс к жизни, болезнь начала заметно прогрессировать.
В то время, как первая опала подготовлялась императором исподволь и многими предугадывалась, теперешняя была совершенно неожиданна. До последнего момента Павел ничем не проявлял своих намерений. Его письма больному генералиссимусу полны заботливости и внимания. Последнее из этих писем датировано 29 февраля; в нем император выражает надежду, что посланный им лейб-медик сумеет поставить на ноги Суворова. Затем наступил трехнедельный перерыв и 20 марта внезапный рескрипт. Больше того: столь проницательный и ловкий придворный, как Растопчин, все время оставался в неведении о назревавшей перемене в отношении Павла к тому, про кого он еще недавно сказал:
– Я произвел его в генералиссимусы; это много для другого, а ему мало: ему быть ангелом.
16 марта Растопчин отправил Суворову очередное письмо: «Желал бы я весьма, чтобы ваше сиятельство были сами очевидным свидетелем радости нашей при получении известия о выздоровлении вашем»[72]72
Рукописный Суворовский сборник, т. XIV.
[Закрыть]. Даже этот верный подголосок Павла не подозревал того, что произойдет через три дня.
Повод к новой немилости был так же ничтожен, как и в 1797 году; но, как и тогда, причина лежала глубже. Осыпая наградами и комплиментами прославлявшего его полководца, Павел втайне питал к нему прежние недоверие и неприязнь. Один характерный факт ярко иллюстрирует это: даровав Суворову княжеский титул, император не разрешил именовать его «светлостью». Суворов остался «сиятельством», хотя при возведении в княжеское достоинство Безбородко и Лопухина было добавлено: «с титулом светлости». С окончанием войны упорное недоброжелательство к Суворову, не сдерживаемое более обстоятельствами момента, вспыхнуло с прежней силой. Павел ни одной минуты не думал, что генералиссимус сделается теперь покорным проводником его взглядов и его системы. Командуя войсками, Суворов, конечно, расстроил бы всю с таким трудом созданную Павлом военную организацию. Этого император не мог допустить. Он предпочитал вызвать изумление Европы и скрытое возмущение всего русского населения, чем поступиться прусской муштровкой.