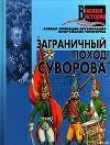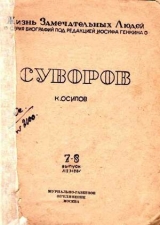
Текст книги "Суворов (1-е изд.)"
Автор книги: Кирилл Осипов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 21 страниц)
Но это было лишь предвестием ожидавших Суворова невзгод.
Захват Варшавы произошел так внезапно для Петербурга, что оттуда не успели снабдить победителя инструкциями о дальнейшем образе действий. Не посвященный в махинации екатерининской политики, Суворов «не нашелся в нужных по обстоятельствам мерах». Он никак не предполагал, что европейские державы предрешили окончательный раздел Польши. Ему даже не мерещились такие последствия его побед. Напротив, он принял все меры к укреплению авторитета польского короля и к установлению дружелюбных отношений с польским населением.
При вступлении в Варшаву Суворов отдал приказ, чтобы ружья солдат не были заряжены и, если бы даже раздались выстрелы из домов, – чтобы на них не отвечали. Однако все прошло гладко; вооруженных выступлений не было. Приняв от магистрата городские ключи, Суворов выразил радость, что приобрел их не такой дорогой ценой, как ключи Праги.
На следующий день состоялось свидание со Станиславом Августом. Суворов одел, против обыкновения, полную парадную форму со всеми орденами и в сопровождении кавалерийского эскорта отправился во дворец. Встреча носила очень дружелюбный характер. Суворов продолжал свою тактику уступок и снисхождений. Когда король попросил его освободить пленного офицера, служившего прежде в его свите, Суворов с готовностью ответил:
– Если угодно, я освобожу вам их сотню, – подумавши, – две сотни, триста, четыреста, так и быть, пятьсот.
Тотчас был отправлен курьер, отобравший из числа пленных 300 офицеров и 200 унтер-офицеров. Этот жест произвел сильное впечатление на поляков в расположил многих из них к Суворову.
Дальнейшее поведение фельдмаршала было подстать этому. Он старался не задевать национальные чувства поляков, вообще держал себя так, словно он вовсе не был полновластным победителем. Он посещал балы панов и магнатов, которые быстро утешились при мысли, что сохранили свои поместья. Встречали его очень помпезно, а он, как обычно в таких случаях, выражал свое презрение к напыщенности шутовскими выходками и всевозможными коленцами. Увидав беременную даму, он подбежал к ней и перекрестил ее будущего ребенка; в другой раз, заметив красивую паненку, он прикинулся остолбеневшим, потом бросился к ней и начал ее целовать; он сморкался на пол посреди гостиной; воротил нос от надушенных мужчин и т. п. Но все эти чудачества не нарушали его дружелюбных отношений с поляками. Он провел целый ряд весьма благожелательных для Польши мероприятий. Чтобы поднять курс польских денег, он велел уничтожить захваченные в добычу кредитные билеты на сумму 768 тысяч злотых; он запретил сбор продовольствия для нужд армии под квитанции, а приказал расплачиваться наличными; строгими мерами поддерживал в войсках дисциплину, пресекал мародерство, охранял памятники культуры.
Все это совершенно не походило на систему ведения войны того времени. В этой области Суворов был головой выше своего века.
– Благомудрое великодушие, – говорил он, – часто полезнее, нежели стремглавный военный меч.
В этих словах выражалась его программа действий в побежденной стране. Но совсем иначе представляли себе эту программу Петербург, Берлин и Вена. Там приняли твердое решение о прекращении политического существования Польши, и образ действий Суворова шел в разрез с этим решением. В ноябре из Петербурга были присланы два распоряжения, осветившие, наконец, Суворову истинные намерения русского правительства: предписывались контрибуции, конфискации, аресты, применение оружия при малейшем протесте, упразднение варшавского магистрата и многое другое.
Для Суворова наступили тяжелые дни. Он никогда не был годен для пассивного исполнения чужих приказаний, в особенности, если не считал их правильными. Но открытое неповиновение было невозможно и бесцельно. Идя на сделки со своей совестью, он избрал промежуточную линию частных уступок петербургским требованиям, сохраняя незыблемыми общие контуры своей политики. Магистрат он не распустил; о контрибуциях донес, что они неосуществимы вследствие оскудения страны; оказывал жителям разные мелкие поблажки, неоднократно хлопоча в этих целях перед Екатериной. Те строгости, которые ему приходилось все же употреблять, он открыто объяснял вмешательством Петербурга.
Когда ему пришлось сообщить одной депутации о невозможности удовлетворить ее ходатайство, он вместо объяснения причин стал посреди приемной и, прыгнув как можно выше, сказал:
– Императрица вот какая большая!
Затем он присел на корточки:
– А Суворов вот какой маленький!
Депутаты поняли и удалились.
В Петербурге с досадой смотрели на деятельность слишком самостоятельного фельдмаршала. Румянцев подсчитывал, сколько офицеров было освобождено Суворовым из плена: 18 генералов, 829 штаб– и обер-офицеров и, кроме того, все взятые на штурме Праги. Один из государственных людей, Трощинский, писал: «Все чувствуют ошибку Суворова, что он с Варшавы не взял большой контрибуции; но не хотят его в этом исправить, из смеха достойного уважения к тем обещаниям, какие он дал самым злейшим полякам о забвении всего прошедшего».
Конечно, Суворова давно бы отозвали, если бы уверились в совершенном успокоении края. Но русское правительство получало сведения о брожении в Польше, о том, что пример Франции, отстоявшей свои границы, разжигает сердца польских патриотов. С другой стороны, возникли разногласия с Пруссией относительно нового раздела; дело дошло до того, что Россия и Австрия готовились об’явить Пруссии войну. В этих условиях присутствие Суворова при армии представлялось совершенно необходимым. Однако фактическое значение его делалось все меньшим и меньшим; его постепенно оттирали на задний план, отстраняли от участия в разрешении серьезных вопросов, отменяли отданные им распоряжения.
Суворов не видел, да и не мог увидеть выхода из этого заколдованного круга. Он тяжело переживал обиду, «жалкую сухость в своем апофеозе».
События шли своим чередом. С Пруссией, в конце концов, удалось договориться, и в 1795 году состоялся третий раздел Польши: Австрия получила 100 квадратных миль с населением в 1300 тысяч человек; Пруссия – 680 квадратных миль (в том числе Варшаву) и 1000 тысяч человек населения; Россия – 2730 квадратных миль с населением в 1900 тысяч человек. Вассал Польши, герцог Курляндский, отрекся от герцогства в пользу России. Польша как самостоятельное государство надолго исчезла с политической карты Европы.
Разделы Польши носили ярко выраженный захватнический характер. Однако Россия, на которую была возложена моральная ответственность за эти разделы и которая осуществила их силою своего оружия, имела то оправдание, что – как указал Энгельс – она подчиняла себе братские народности Украины и Белоруссии. Помимо того, Россия выиграла меньше, чем Пруссия и Австрия. Основная цель русского правительства – об’единение всего русского населения – все-таки не была достигнута. (Екатерина говорила по этому поводу: «Со временем надо будет выменять у австрийцев Галицию, она им некстати».) В то же время в стратегическом отношении Россия получила очень невыгодную границу, так как приобрела только один берег Западного Буга и Немана, без обеспеченных переправ на них. Пруссия же и Австрия получили много коренных польских и даже русских земель с самыми крупными городами (Варшава) и с наиболее ценными районами (соляные копи в Величке).
Раздел прошел спокойно. Согласно договору, польская столица передавалась пруссакам. В октябре 1795 года Суворов получил милостивый рескрипт, отзывавший его в Петербург.
Он был встречен с небывалым почетом. В Стрельну была выслана для него дворцовая карета. Ему отвели для жительства Таврический дворец с целым штатом придворных. Зная его нелюбовь к зеркалам, императрица распорядилась всюду их завесить.
Но все эти любезности не могли скрыть глубокой трещины, столь резко проявившейся в течение последнего года. Тридцать три года сидит на престоле Екатерина. Впервые за все это время созрела почва для прочного примирения ее со строптивым фельдмаршалом: она не может не оценить его услуг, как не может не считаться с популярностью его в армии и в Западной Европе. Она дает ему высокий чин, вопреки шипению придворных (характерно, что свое решение о присвоении Суворову фельдмаршальского звания Екатерина держала до последнего момента в секрете, «во избежание интриг, искательств, клеветы и всяких иных докук»). Самый влиятельный недруг полководца сошел в могилу. Ничто не мешает, повидимому, упрочению отношений императрицы с ее лучшим военачальником. Но тут-то и обнаруживается органическая невозможность этого: Суворов по-иному мыслит, он не может понять хитрой механики Екатерины. Главное, он не хочет понять ее. Это не Потемкин и не Репнин. Когда проходит нужда в его поразительном таланте, в его страшном мече, лучше всего упрятать его куда-нибудь подальше. Так было всегда, так случилось и на этот раз.
Суворов отлично уяснял себе и ненадежность благосклонности государыни и притаившуюся неприязнь царедворцев и генералов. Но он вернулся из Польши в сознании своего значения. Теперь он решительнее, чем когда бы то ни было, выражал свой протест против придворных порядков. По старому обычаю, протест этот облекался им в причудливую форму. Перед Екатериной старик бросался на колени, целовал ее платье, а потом с невинным видом критиковал и осуждал петербургские порядки, вкладывая персты в скрывавшиеся язвы. Императрица подарила ему соболью шубу, не хуже, чем у самого богатого из придворных; он заявил, что она чересчур хороша для него, ездил в старом плаще, а слуга Прошка бережно возил за ним шубу. Недаром Растопчин писал, что не знают, как отделаться от Суворова, от «плоских шуток» которого государыня поминутно краснеет.
Отношение свое к вельможам Суворов высказывал еще откровеннее: принимал их в нижнем белье; иногда вовсе не принимал, выскакивая на улицу, когда они под'езжали, и садясь на несколько минут в их кареты; издевался над их чинопочитанием, напыщенностью и необразованностью. Как-то Суворову сообщили, что один офицер сошел с ума. Он принялся горячо возражать и спорил до тех пор, пока выяснилось, что он имеет в виду другого офицера.
– Хорошо, что так, – промолвил он с облегчением, – а не то я спорил бы до утра, потому что офицер, о котором я говорю, не имеет того, что сей потерял.
Екатерина хотела сплавить злоязычного фельдмаршала на персидскую границу, где предполагалась война, но Суворова не прельщала персидская экспедиция, тем более, что шли толки о войне с Францией. Его послали в Финляндию осмотреть построенные в 1792 году укрепления. Он выполнил поручение в две недели. Тогда его назначили командующим одной из южных армий (две другие армии были под начальством Румянцева и Репнина). В состав этой армии входили войска, собранные в Харьковской, Екатеринославской, Таврической и Вознесенской областях.
Весною 1796 года Суворов выехал в город Тульчин на Днестре, где он решил устроить свою штаб-квартиру. Прощание с императрицей было преисполнено взаимных любезностей; но когда оно закончилось, оба вздохнули с облегчением.
Часть третья

Ссылка
Первые месяцы в Тульчине протекли безмятежно. Суворов гордился тем, что носит фельдмаршальское звание, что командует крупнейшей в России армией; в перспективе он видел войну с революционной Францией, разгромившей всех европейских полководцев. В донесении об осмотре войск он писал: «Карманьольцы по знатным их успехам могут простирать свой шаг на Вислу… Всемилостивейшая государыня, я готов с победоносными войсками их предварить».
В России в самом деле начались приготовления к войне с Францией. Назначено было, какие войска пойдут в поход[30]30
Намечалась армия численностью в 51 тысячу человек.
[Закрыть], приказано было их укомплектовать. Командующего не назначали, но все называли Суворова. К нему посыпались просьбы от желавших участвовать в кампании. Он и сам считал этот вопрос решенным и деятельно вел приготовления к новой войне. Вызвав провиантмейстера, полковника Дьякова, он приказал привести в исправное состояниевсе магазины и склады, пригрозив в противном случае повесить его.
– Ты знаешь, друг мой, – пояснил он, – что я тебя люблю и слово свое сдержу.
Сам Суворов считал неизбежной войну с республиканской Францией, в которой ои видел вдохновительницу всех враждебных поползновений. Больше того, по его мнению, следовало поскорее начать эту войну, так как с каждым годом французы укрепляют свое положение. В письме Хвостову от 29 августа 1796 года Суворов писал: «Турецкая ваша война… Нет! А приняться надо за корень, бить французов. От них она родитца. Когда они будут в Польше, тогда они будут тысяч 200–300; Варшавою дали хлыст в руки прусскому королю – у него тысяч 100. Сочтите турков (благодать божия с Швециею). России выходит иметь до полумиллиона. Ныне же, когда французов искать в немецкой земле, надобно не все сии войны только половину сего».
Через два дня он возвращается к той же теме: «Благоразумно нельзя ждать прекращения французских успехов и ежели с нашей стороны влажность продолжится, то с нового года ваши 50 тысяч будет надлежать уже почти удвоить и так далее»[31]31
Рукописный Суворовский сборник, т. X.
[Закрыть].
В ожидании похода Суворов занимался обучением войск, отдаваясь этому делу с былым увлечением. За несколько месяцев армия преобразилась. Смертность снизилась с двадцати пяти процентов до одного, «полунагие, изнуренные и отовсюду обиженные» солдаты преобразились в здоровых, бодрых «дерзновенных» суворовцев.
Снова, как некогда в Новой-Ладоге, Суворов, хотя теперь уже не полковник, а фельдмаршал, занимался чуть не с каждым солдатом.
– Всякий солдат к тому должен быть приведен, чтобы сказать ему можно было: теперь знать тебе больше ничего не остается, только бы выученного не забывал, – таков был лозунг Суворова в деле воспитания солдат.
Попрежнему он обращал главное внимание на то, чтобы выработать в войсках сноровку, инициативность и храбрость. Чтобы подчеркнуть роль этих качеств, он, как всегда, прибегал к крайностям. Отступления – «ретирады» – он не признавал ни при каких обстоятельствах. Если на смотре один человек выдавался из строя, вся рота должна была догонять его – осаживать обратно он не имел права. Случилось однажды, что фельдмаршал наехал вплотную на шеренги; офицер приказал передним сделать шаг назад.
– Под арест! – завопил Суворов. – Этот немогузнайка зачумит всю армию.
«Немогузнайство» преследовалось с неменьшей строгостью. И здесь за кажущейся странностью, даже нелепостью крылась глубокая идея: приучить солдат к самостоятельному размышлению, уничтожить привычное слепое повиновение. Любой ответ был хорош.
– Как далеко до луны?
– Два солдатских перехода.
Фельдмаршал улыбается и треплет сообразительного гренадера.
– Сколько звезд на небе?
– Сейчас сочту, – солдат считает до тех пор, пока иззябший фельдмаршал убегает прочь.
Преследуя «немогузнайство», Суворов искоренял растерянность, ненаходчивость и страх перед лицом неожиданности. В русской армии, состоявшей из крепостных: приученных все делать только по команде, это была очень нелепая, но очень актуальная задача.
Но центром воспитательной работы были маневры.
Войска делились обычно на две части. Обе стороны строились развернутым фронтом, одновременно начинали движение вперед и, сблизившись на сотню шагов, бросались по команде в атаку – пехота бегом, кавалерия галопом. Пехота держала ружья на перевес и только в момент встречи с «противником» поднимала штыки вверх. Главным условием при этом было безостановочное, стремительное движение; если перед встречей происходила задержка, учение начиналось сызнова. Перед самым столкновением солдаты делали полуоборот направо, что позволяло участникам обеих сторон протискиваться сквозь ряды. Нередко, особенно если в маневрах участвовала конница, возникала настоящая свалка, кончавшаяся увечьем нескольких человек. В этих случаях Суворов всегда проявлял беспокойство, но не изменял своего метода, который он считал исключительно полезным. Маневры происходили при непрестанной ружейной и артиллерийской стрельбе (холостыми зарядами), так что атакующие бывали густо окутаны облаками порохового дыма.
Сам Суворов во время учений вертелся вьюном, отдавал распоряжения, передвигал части, хвалил и бранил (но никогда не арестовывал). Заметив однажды офицера, скакавшего позади своей атакующей роты, фельдмаршал рассвирепел и отдал приказ немедленно «убить» его; офицер опрометью понесся вперед.
Присутствие Суворова на маневрах воодушевляло солдат. Все были охвачены лихорадкой быстроты и энергии.
Артиллеристы выбивались из сил, чтобы не отставать от пехоты, пехота торопилась за кавалерией. И над всем этим царил образ худого старика в холщевой рубашке, носившегося по равнине и выкрикивавшего:
– Стреляй метко, штыком коли крепко!
После учения Суворов часто собирал отряд и производил краткий разбор действий. Говорил он негромко, но был в полной уверенности, что слышащие его солдаты передадут вечером его слова всей армии. Внешняя манера поведения оставалась у него такой же простой, как в бытность мушкатером, и это очень нравилось солдатам. Появляясь перед фронтом в фельдмаршальском мундире, он преспокойно сморкался двумя пальцами, любил ввернуть соленое словцо, иногда даже не стеснялся отправлять малую нужду.
Суворов приходился по сердцу солдатам и тем, что не вмешивался в мелочи и не позволял офицерам придираться к пустякам. Но если проступки относились к основным требованиям службы или если проявлялось неповиновение, он строго взыскивал, и взыскивал с высших чинов больше, чем с нижних.
В Тульчине окончательно оформилась и была записана знаменитая суворовская инструкция войскам – «Наука побеждать». Еще в Херсоне и затем на походе в Польшу Суворов приказывал обучать войска составленному им военному катехизису, и большинство солдат знали это наставление наизусть. Теперь оно получило окончательную редакцию.
«Наука побеждать» внутренне тождественна с «Суздальским учреждением». Она построена на тех же принципах. В ней также выдержана мысль о единой связи между механическими приемами обучения и нравственным, моральным воспитанием. Войскам прививаются те же идеи о необходимости порыва, энергии. Даже слог «Науки» соответствует этому: «рви, лети, ломи, скачи», тяжелые ранцы именуются «ветрами» и т. д. Прерывистый, лаконичный слог «Науки» был понятен солдатам, привыкшим к языку своего полководца. Первую часть «Науки побеждать» составлял «Вахт-парад» – наставление о производстве учения. Вторую и главную – «Словесное поучение»: система суворовских афоризмов о поведении в бою и о внутреннем быте солдат.
Этот замечательный документ заслуживает того, чтобы привести его[32]32
Приводим в выдержках, в редакции 1796 года.
[Закрыть].
НАУКА ПОБЕЖДАТЬ
(Деятельное военное искусство)
Раздел 2-й. Словесное поучение солдатам.
Военный шаг – аршин, в захождении – полтора аршина; береги интервалы.
Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять. Стреляй редко, да метко; штыком коли крепко; пуля обмишулится, штык не обмишулится; пуля дура, штык молодец.
Коли один раз – бросай басурмана со штыка; мертв на штыке, царапает саблею шею. Сабля на шею – отскок на шаг, ударь опять, коли другого, коли третьего; богатырь заколет полдюжины, а я видал и больше. Береги пулю в дуле; трое наскочат – первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун.
В атаке не задерживай.
Обывателя не обижай; он нас поит и кормит. Солдат не разбойник. Святая добычь: возьми лагерь – все ваше; возьми крепость – все ваше. Без приказа отнюдь не ходи на добычь.
Баталия полевая – три атаки. В крыло, которое слабее, крепкое крыло закрыто лесом – это не мудрено, солдат проберется. Атака в средину не выгодна, разве конница хорошо рубить будет, инако сами сожмут. Атака в тыл очень хороша, только для небольшого корпуса, а армией заходить тяжело.
Штурм. Ломи через засек, бросай плетни через волчьи ямы, быстро беги, прыгай через палисады, бросай фашины, спускайся в ров, ставь лестницы. Стрелки, очищай колонны, стреляй по головам. Колонны, лети через стены, на вал, скалывай, на валу вытягивай линию, ставь караул к пороговым погребам, отворяй ворота коннице. Неприятель бежит в город, его пушки обороти по нем, стреляй сильно в улицы, бомбардируй живо, недосуг за ним ходить. Неприятель сдался – пошали: стена занята – на добычь.
Три воинские искусства. Первое – глазомер: как в лагере стать, как итти, где атаковать, гнать и бить; также для занятия местоположения, примерного суждения о силах неприятельских, для узнания его предприятий.
Второе – быстрота. Поход: полевой артиллерии от полверсты до версты впереди, чтоб спускам и под’емам не мешала… Не останавливайся, гуляй, играй, пой песни, бей в барабан, музыка греми. Десяток отломал – первый взвод снимай ветры, ложись; за ним второй взвод; и так взвод за взводом; первые задние не жди. На первом десятке отдыху час. Первый взвод вспрыгнул, надел ветры, бежит вперед 10–15 шагов. И так взвод за взводом, чтобы задние между тем отдыхали. Второй десяток – отбой: отдых час и больше.
Кашеварные повозки впереди с палаточными ящиками; братцы пришли, к каше поспели; артельный староста – к кашам! На завтраке отдых 4 часа, тож самое к ночлегу, отдых 6 часов и до 8, какова дорога.
По сей быстроте и люди не устали. Неприятель нас не чает, считает за 100 верст, – вдруг мы на него, как снег на голову – закружится у него голова.
Третье – натиск. Нога ногу подкрепляет, рука руку усиляет; в пальбе много людей гибнет; у неприятеля те же руки, да русского штыка не знает. Вытяни линию – тотчас атакуй холодным ружьем; недосуг вытягивать линию – подвиг из закрытого, из тесного места. Обыкновенно конница врубается прежде, пехота за ней бежит, – только везде строй. Конница должна действовать всюду, как пехота, исключая зыби; там кони на поводах. В двух шеренгах сила, в трех – полторы силы; передняя рвет, вторая валит, третья довершает.
Бойся богадельни; немецкие лекарственницы издалека тухлые, сплошь бессильны и вредны; русский солдат к ним не привык. У вас есть в артелях корешки, травушки, муравушки. Солдат дорог; береги здоровье, чисти желудок, коли засорился, голод – лучшее лекарство. Кто не бережет людей – офицеру арест, унтер-офицеру и ефрейтору – палочки, да и самому палочки, кто себя не бережет.
Богатыри, неприятель от вас дрожит, да есть неприятель больше и богадельни: проклятая немогузнайка, намека, загадка, лживка, краснословка, краткомолвка, двуличка, вежливка, бестолковка. Or немогузнайки много, много беды. За немогузнайку офицеру арест, а штаб-офицеру от старшего штаб-офицера арест квартирный.
Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву.
Ученье свет, неученье тьма; за ученого трех неученых дают; нам мало трех, давай нам шесть, давай нам десять на одного, – всех побьем, повалим, в полон возьмем. Вот, братцы, воинское обучение; господа офицеры, какой восторг!
По окончании сего командовалось: «К паролю, с обоих флангов часовые вперед, ступай на краул!» По отдаче пароля, лозунга и сигнала, следовала похвала или в чем-либо хула вахт-параду. Потом громогласно: «Субординация, экзерциция, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, бодрость, смелость, храбрость, победа, слава, слава, слава».
«Наука побеждать» не обременяла солдат ничем, что не вызывалось боевой надобностью, и в то же время давала им указания относительно всего, что могло встретиться в бою и на походе.
…Так текли дни в Тульчине. Судьба снова, теперь в последний раз, послала старому полководцу краткий период покоя. «Наш почтенный старик здоров, – писал один из находившихся при Суворове, – он очень доволен своим образом жизни; вы знаете, что наступил сезон его любимых удовольствий – поля, ученья, лагери, беспрестанное движение; ему ничего больше не нужно, чтобы быть счастливым».
Но это счастье было недолговечно.
Императрица Екатерина обладала крепкой натурой. Ни болезни, ни государственные обязанности, ни калейдоскопическая смена любовников не могли подорвать ее железного здоровья. Но мало-помалу годы брали свое. Когда перевалило за половину седьмого десятка, ее придворному врачу, доктору Рожерсону, все чаще приходилось выслушивать жалобы августейшей пациентки. В начале ноября 1796 года у императрицы был удар. Говорили, что причиной его явился отказ гостившего в Петербурге шведского короля принять условия женитьбы на великой княжне Александре Павловне. Через три дня, 7 ноября, Екатерина пошла в уборную и через полчаса была найдена там лежащей на полу. Ее перенесли в спальную, вручили попечению Рожерсона и тотчас послали в Гатчину известить Павла.
Если верить Растопчину, и Павел и жена его видели в ту ночь во сне, что некая невидимая сила возносила их к небу, причем сон этот повторился несколько раз подряд. Когда Николай Зубов привез весть, наследник тотчас помчался в столицу. По дороге встретились еще двадцать курьеров: все торопились выслужиться перед завтрашним императором. Один курьер был даже от придворного повара. Курьеры становились в кортеж; так приехали во дворец.
Там царило оцепенение. Бледный, с трясущейся челюстью Безбородко обратился к Павлу с просьбой уволить его без срама, но тот отвечал, что старое забыто. Растопчин немедленно опечатал кабинет государыни. В углу зала рыдал Платон Зубов; его сторонились, никто не решался подать ему стакан воды.
Утром Екатерина II скончалась. Тотчас состоялась присяга новому самодержцу. К Алексею Орлову, который не был на присяге в церкви, Павел послал Архарова; Орлов присягнул дома.
«Все, любя перемену, думали найти в ней выгоды в всякой, закрыв глаза и зажав уши, пускался без души разыгрывать снова безумную лотерею слепого счастья».
Так описывает Растопчин первый день нового царствования.
Когда Екатерина свергла своего полубезумного супруга, она могла рассчитывать на популярность в стране. Следуя своему плану – поступать так, чтобы «башмак меньше жал ногу», она выплатила из своих комнатных денег жалованье армии, ограничила пытки и конфискации, приняла меры против монополии и взяточничества, издала указы о свободе торговли и удешевлении соли, допустила «свободоязычие» в литературе.
Но прошло немного времени – и обнаружилось, что империя Екатерины – это, по выражению одного историка, картина, рассчитанная на дальнего зрителя: издали – величественна, вблизи – беспорядочные мазки.
Свободолюбивые проекты были сданы в архив. Жестокая реакция пришла им на смену. Никогда еще крестьянству и работному люду не жилось так тяжко и горько, как в это блестящее царствование. Горожане были придавлены налоговым прессом, вследствие непрестанных войн. У кормила правления утвердились беспринципные, бесчестные люди, помышлявшие только о собственной наживе, о которых Александр I в 1796 году сказал, что ие хотел бы иметь их у себя и лакеями. «В наших делах господствует неимоверный беспорядок, – писал он тогда же, – грабят со всех сторон, все части управляются дурно, порядок изгнан отовсюду… Кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых на каждом шагу для получения внешних отличий».
Все это пытались заслонить внешнеполитическими успехами: Екатерина отвоевала у Турции и Польши земли с населением в 7 миллионов душ, число жителей в России возросло с 19 миллионов (1762) до 36 миллионов (1796), армия с 162 тысяч до 312 тысяч, флот с 27 фрегатов и линейных кораблей до 107. Но по этому поводу вице-канцлер Остерман тотчас после воцарения Павла из’яснил русскому послу в Лондоне Воронцову: «Россия, будучи в беспрерывной войне с 1756 года, есть потому единственная в свете держава, которая находилась сорок лет в несчастном положении истощать свое народонаселение». Далее он констатирует, что жители «желают отдохновения после столь долго продолжавшихся изнурений».
Правда, имелись более значащие плюсы екатерининского царствования: увеличение числа фабрик, возрастание суммы государственных доходов с 16 до 69 миллионов. Но казна была все-таки пуста: в 1796 году государственный долг составлял 200 миллионов рублей, что равнялось трехгодичному доходу казны. При этом питейный доход увеличился во время царствования Екатерины в шесть раз и составлял третью часть всех поступлений.
Один из лучших дореволюционных историков, Ключевский, писал: «По мнению некоторых, вся героическая эпопея Екатерины II – не что иное, как театральная феерия, которую из-за кулис двигали славолюбие, тщеславие и самовластие; великолепные учреждения заводились для того только, чтобы прослыть их основательницей, а затем оставлялись р пренебрежении; вся политика Екатерины – нарядный фасад с неопрятными задворками, следствие чего: порча нравов в высших классах, угнетение и разорение низших, общее ограбление России»[33]33
Ключевский. Очерки и речи, II сборник статей.
[Закрыть].
Что касается нового императора, то в широких кругах он был мало известен. Знали, что у него всегда были неприязненные отношения с матерью, что достаточно было заслужить его благосклонность, чтобы впасть в немилость у Екатерины; что уже в детские годы он был занят «маханием» за фрейлинами; что он был раздражителен, гневен, презирал всех окружающих, по каковой причине его воспитатель Порошин предсказал, что «при самых наилучших намерениях он возбудит ненависть к себе», а его любимец Растопчин заявил: «Великий князь делает невероятные вещи; он сам готовит себе погибель и становится все более ненавистным». Известно было, что он, подобно отцу, пристрастен ко всему прусскому. Наконец, рассказывали об его парадомании и наклонности к поддержанию дисциплины путем жестоких наказаний.
Все это было мало утешительно, но на первых порах заждавшийся власти Павел проявил себя рядом поступков, подсказанных добрыми намерениями. Освобождены были заключенные по делам тайной экспедиции, среди них томившийся в Шлиссельбурге Новиков; из Сибири вернули Радищева; многие пленные поляки, в том числе Косцюшко, получили свободу; была прекращена война с Персией; отменен рекрутский набор и об’явлено дворам о мирных намерениях России.
Однако прошло несколько месяцев, и царь стал заводить порядки, которых не ведали и при Петре III. Весь уклад жизни подвергся строгой регламентации; запрещены были круглые шляпы, фраки и жилеты; надлежало надевать немецкое платье со стоячим воротником установленной ширины; женщинам воспрещалось носить синие женские сюртуки; регламентированы были упряжь, экипаж, прическа, форма приветствия государю. Даже отдельные слова подверглись гонению: вместо «стража» следовало говорить «караул», вместо «граждане» – «жители», вместо «отечество» – «государство»; слово «общество» было вовсе запрещено. Воспрещен был ввоз из-за границы книг и музыкальных произведений. Вся переписка тщательно перлюстрировалась. За неосторожные речи о государе пытали. По самым ничтожным поводам людей хватали, сажали в тюрьмы, ссылали в Сибирь, били кнутом. По всей России скакали фельд’егери, развозившие неожиданные и непонятные повеления императора: ссылки, наказания, перемещения, награды. Некоего Лопухина наградили по недоразумению, так как Павел счел его родственником своей любовницы. По свидетельству современника, «генералы возрастали так же быстро, как спаржа растет в огороде», но так же быстро они увядали. В царствование Павла I было уволено 333 генерала и 2261 офицер. «Награда утратила свою прелесть, – писал Карамзин, – наказание – сопряженный с ним стыд».