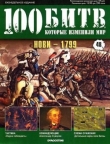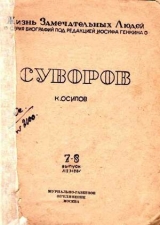
Текст книги "Суворов (1-е изд.)"
Автор книги: Кирилл Осипов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц)
Часть вторая

В степях Приволжья и Кубани
В июле 1774 года был заключен мир с турками, а через несколько дней после этого к Суворову пришло предписание спешно выехать в Россию. На этот раз он понадобился не против внешнего врага, а против другого, более страшного для дворянства и Екатерины. Его звали на борьбу с человеком, которого императрица с напускной небрежностью называла в письме к Вольтеру «маркизом Пугачевым», но который на самом деле заставлял ее трепетать от ужаса. Один момент она делала вид, будто хочет сама ехать на Волгу, чтобы лично руководить борьбой против народных масс, об’единившихся вокруг Пугачева. Канцлер Никита Панин отговорил ее и убедил послать взамен его брата, Петра Панина; этот последний из-за размолвок с Румянцевым и Орловым жил в своей деревне, втайне мечтая, что его снова призовут. Он с радостью встретил новое назначение, но потребовал себе помощника, указав в качестве такового на Суворова. Этот выбор определялся боевой репутацией, которую успел уже приобрести Суворов, а отчасти тем, что именно на него указывал бывший главнокомандующий антипугачевскими силами Бибиков. Еще в марте Бибиков настаивал на откомандировании к нему Суворова, но Румянцев возражал, аргументируя тем, что это создало бы в народе и за границей впечатление опасности Пугачевского движения (которое правительство упорно пыталось представить в виде мало серьезной смуты). Доводы Румянцева показались уважительными. Но когда со смертью Бибикова новый командующий возобновил просьбы о посылке Суворова, положение было несколько иным: война кончилась, Суворов был не у дел, главное же, императрица была до того напугана разраставшимся восстанием, что готова была послать туда всех генералов, лишь бы покончить, наконец, с Пугачевым. В тот день, когда прибыло известие о переходе Пугачева на правый берег Волги и о движении его на Москву, к Суворову поскакал курьер с эстафетой. Получив приказ, Суворов тотчас выехал в Москву, повидался там с женою и отцом и немедленно, без багажа, поскакал к Панину.
В XVIII веке положение помещичьих крестьян и приписанных к заводам государственных крестьян стало особенно тяжелым. Широкие связи с Европой, роскошь придворной жизни – все это увеличило потребности дворян. Единственным источником дохода были крепостные крестьяне, и на их многострадальные плечи падало бремя беспощадной помещичьей эксплоатации. Барщина составляла от трех до пяти дней в неделю, кроме того, крестьяне обязаны были исполнять целый ряд повинностей: дорожную, подводную, караульную и другие. Оброчным крестьянам жилось несколько легче, но и они часто оказывались не в силах выплатить требуемую сумму.
К удручающему экономическому положению присоединилось нестерпимое обращение «господ». Не осталось и следа от встречавшейся ранее своеобразной патриархальности, когда помещик проявлял хоть тень заботливости о своих крестьянах. Всюду воцарилась холодная жестокость; везде укрепилась рабовладельческая психология. За каждую провинность крепостных истязали. Граф Румянцев велел давать 5 тысяч розог тому, кто не являлся к причастию. Владельцы усадеб в безлесных районах специально выписывали розги целыми возами. В крупных имениях существовали особые «пытошные» сараи, с колодками, рогатками и целым ассортиментом плетей и кнутов. Помещик мог отправить крепостного на любой срок на каторгу, сослать в Сибирь, сдать вне очереди в солдаты. Даже жаловаться на произвол помещиков было запрещено. Указ 1767 года грозил кнутом и каторгой всем, кто принесет жалобу на своего господина.
Не лучше было положение заводских крестьян. Работавшие на Уральских заводах жили в таких жутких условиях, что нередко шли на преступления, только бы избавиться от ненавистного завода.
Неудивительно поэтому, что доведенные до отчаяния люди хватали какое-нибудь нехитрое оружие и восставали против угнетателей. В первые пять лет царствования Екатерины II в крестьянских бунтах участвовало, по ее собственному счету, свыше 200 тысяч крестьян. Она же отметила, что 1767 год «примечателен убиением многого числа господ от их подданных».
Изнывавшие под гнетом своих мучителен, массы ждали вождя, который сумел бы организовать их стихийные выступления. Такой вождь нашелся в лице Пугачева. Крепостные крестьяне, казаки, приписные крестьяне с заводов, вольнонаемные рабочие, башкиры, калмыки – все поднялись на его зов, на зов к борьбе за лучшую жизнь.
Против этих восставших масс и были двинуты царские полки под начальством Петра Панина.
Назначение графа Панина в качестве преемника умершего Бибикова последовало не без влияния дворцовых интриг. С одной стороны, настаивал Никита Панин, с другой – Потемкин, который начинал в этот момент свою ослепительную карьеру и хотел задобрить панинскую партию. Вместе с тем императрица понимала, что в лице Петра Панина она найдет твердую руку, которая как раз и была нужна ей для расправы с народным движением. В распоряжение нового главнокомандующего были переданы значительные по тому времени силы:
7 полков и 3 роты пехоты,
9 легких полевых команд,
18 гарнизонных батальонов,
7 полков и 11 эскадронов кавалерии,
4 донских полка,
1000 малороссийских казаков,
Казанский и Пензенский дворянские корпуса – всего около 20 тысяч человек. Помимо перечисленных сил, в районе восстания – у Оренбурга, Пензы, Казани – были сформированы многочисленные вооруженные отряды.
В то время, как правительство мобилизовало целую армию, ресурсы Пугачева начали таять. Зажиточное донское казачество не поддержало его. Из состава его армии вышли башкиры, не пожелавшие итти в Поволжье. Лишился он также уральских рабочих, непрерывно поставлявших ему кадры преданных бойцов, пока он сражался в их местности. Вновь присоединившиеся к нему калмыки не представляли собою серьезной военной силы. Вдобавок, армия Пугачева была очень скверно вооружена.
В конце августа правительственные войска под начальством Михельсона нанесли повстанцам страшное поражение у Сальникова завода. Пугачев потерял здесь 24 орудия, 6 тысяч пленными и 2 тысячи убитыми, в числе их своего верного сподвижника атамана Овсянникова. Это было в тот самый день, когда Суворов представлялся Панину.
Любопытно, что простого факта быстрого приезда к Панину было достаточно, чтобы Суворов получил приветливое письмо императрицы и денежную субсидию: «Видя из письма графа Панина, – писала Екатерина, – что вы приехали к нему так скоро и налегке, что кроме испытанного усердия вашего к службе иного экипажа при себе не имеете, и что тотчас отправились вы на поражение врагов, за такую хвалы достойную проворную езду вас благодарю… Но дабы вы скорее путным экипажем снабдиться могли, посылаю вам 4000 червонцев». Когда Суворов скакал по болотам, под градом неприятельских пуль, терпя всевозможные лишения, по неделям не раздеваясь, никто не благодарил его за это. Теперь же быстрая езда в карете вменялась ему чуть ли не в подвиг. Выводы напрашивались сами собою: для того, чтобы получить признание, недостаточно было хорошо воевать – надо было воевать с теми, кто казались особенно опасными, там, где это было на виду, и так, чтобы это понравилось екатерининскому двору.
Получив от Панина неограниченные полномочия, Суворов в сопровождении конвоя из пятидесяти человек отправился через Пензу к Саратову.
Ему приходилось проезжать по местностям, где только что шли бои с Пугачевым. Везде виднелись разрушенные, иногда еще дымившиеся строения: на дорогах валялись неприбранные тела крестьян. То и дело попадались отдельные группы повстанцев; однако они не нападали на отряд Суворова, а он, в свою очередь, не трогал их, не желая задерживаться. Только в тех случаях, когда это не грозило вооруженным столкновением, он принимал на себя функции судьи и усмирителя. Будучи всегда нерасположен к смертной казни, он ограничивался телесными наказаниями, приговаривая «мятежников» к плетям и розгам; широко применял он и методы пропаганды, распространяя слухи о пощаде и милосердии к тем, кто добровольно сдастся.
Случалось, что отряд Суворова окружали повстанцы, тогда он выдавал себя за сторонника Пугачева, едущего по его поручению. Делал он это, конечно, не из трусости, а желая избежать ненужной стычки.
«Сумасбродные толпы везде шатались, – говорит он в автобиографии, – на дороге множество от них тирански умерщвленных. И не стыдно мне сказать, что я на себя принимал иногда злодейское имя. Сам не чинил нигде, ниже чинить повелевал, ни малейшей казни, разве гражданскую, и то одним бесправным зачинщикам, но усмирял человеколюбивою ласковостью…»
Эти слова, находящие себе подтверждение в фактах, свидетельствуют, что Суворов был далек от той звериной ненависти к восставшим, которой отличалось большинство дворян и которая нашла себе вскоре выражение в тысячах виселиц, колесований и десятках тысяч бесчеловечных экзекуций. Но для него пугачевцы были возмутителями, и он добросовестно выполнял приказ об их замирении.
В Саратове Суворов узнал о поражении Пугачева у Сальникова завода и о том, что Михельсон неутомимо продолжает преследование. «Если бы все местные начальники были таковы, как Михельсон, – заметил Суворов, – то Пугачевский мятеж давно бы рассыпался, как метеор». Но, воздавая должное Михельсону, он не желал выпускать из своих рук лавров пленителя Пугачева. Он сформировал в Царицыне в один день отряд из нескольких сотен кавалеристов и трехсот пехотинцев, посаженных на коней, и двинулся в степь на поиски разбитого вождя крестьянской войны. Схваченный Михельсоном, один из сподвижников Пугачева, яицкий казак Тарпов, показал, что Пугачев с несколькими десятками человек переплыл Волгу и, «отскакав на несколько верст с своими сообщниками, весьма плакал и молился богу, потом вообще, посоветовав, положили бежать степью безводным местом 70 верст к каким-то камышам», где надеялись найти воду и отсидеться, добывая пропитание охотою на диких зверей.
Легкий отряд Суворова устремился в степи.
«Иду за реченным Емелькою, поспешно прорезывая степь», – написал Суворов Державину.
Хлеба в отряде было мало, взамен его употребляли ломти засушенного на огне мяса. Днем шли по солнцу, ночью по звездам; двигались во всякую погоду, теряя отставших, бросая на дороге загнанных коней. Вскоре напали на след Пугачева: крестьяне рассказали, что накануне он был здесь, но что приверженцы его взбунтовались, связали его и повезли в Яицк.
Суворов не оставлял мысли о собственноручном захвате Пугачева. Доводя быстроту марша до предела, он направился к Яицку. В пути, однако, произошла непредвиденная задержка: ночью наткнулись на степных кочевников, которые открыли стрельбу, убив при этом давнишнего суворовского ад’ютанта Максимовича, ехавшего рядом со своим начальником. Рассеяв нападавших, Суворов отобрал нескольких, наиболее «доброконных» кавалеристов и поскакал с ними вперед.
Все его старания оказались напрасными – Пугачев был уже выдан яицкому коменданту Симонову.
Через два дня, забрав пленника, отряд выступил из Яицка.
Суворов относился к Пугачеву как к военнопленному (он бы органически не мог ударить беззащитного человека, как то сделал Панин, когда к нему доставили пленного вождя); он расспрашивал Пугачева о его действиях и планах, интересовался организацией его войск. Но, как всегда, в исполнении службы он был чужд всякой сентиментальности. Опасаясь попыток отбить пленника и неуверенный в достаточной боеспособности конвоя (3 роты пехоты и 200 казаков), Суворов велел сколотить подобие большой клетки, в которую поместил Пугачева, скованного, вдобавок, кандалами. Этот варварский прием плохо вяжется с благородной натурой Суворова; были высказаны даже сомнения в правильности такого факта[16]16
Академик Грот, например, полагал, что «тут все дело в словах: естественно, что такое помещение можно было назвать клеткою, хотя, конечно, и не была употреблена особая клетка, построенная с обыкновенным назначением».
[Закрыть]. Однако указания о клетке встречаются в целом ряде источников, в частности в летописи Рычкова, в записках Державина, в Пушкинской истории Пугачевского бунта, наконец, в редактированной самим Суворовым книге Актинга, так что самый факт вряд ли подлежит сомнению. Но к чести полководца нужно сказать, что Пугачева, всячески выражавшего протест против помещения в клетку, вскоре перевели в обыкновенную телегу, привязав к ней веревками; так же поступили с его двенадцатилетним сыном.
Немедленно после поимки крестьянского вождя начались споры, кому из генералов следует приписать эту заслугу. То обстоятельство, что Пугачев не был пленен в бою, а был выдан своими приверженцами, крайне затрудняло решение этого вопроса.
В сущности, наибольшую энергию в борьбе с восстанием проявил Михельсон, но Панин предпочел выставить в качестве виновника успеха Суворова, то есть избранного им, Паниным, кандидата. «Неутомимость отряда Суворова выше сил человеческих, – патетически доносил он Екатерине. – По степи, с худейшей пищею рядовых солдат, в погоду ненастнейшую, без дров, без зимнего платья, с командами майорскими, а не генеральскими, гонялся до последней крайности».
Насмешница-судьба вновь сыграла шутку с полководцем: никогда, ни до того времени, ни после, он не получал такой блестящей аттестации от своего начальства, как за доставку поверженного, закованного, всеми покинутого пленника.
По существу дела, роль Суворова была более чем скромной. Появившись в момент, когда восстание уже изнемогло, он, самое большее, ускорил на несколько дней неизбежную трагическую развязку.
Впрочем, Екатерина отлично понимала это; хотя она и наградила Суворова золотой шпагой, усыпанной бриллиантами, – наградила именно за Пугачева, а не за турецкую кампанию, – но при случае она без обиняков заявила, что «Суворов тут участия не имел… и приехал по окончании драк и поимки злодея». В другой раз она выразилась еще непочтительнее, сказав, что Пугачев обязан своей поимкой Суворову столько же, сколько ее комнатной собачке Томасу.
Летом 1775 года дворянская Россия пышно отпраздновала подавление Пугачевского восстания и успешное окончание внешних (польской и турецкой) войн. Суворов не присутствовал на празднествах; он в это время жил в Поволжье, ликвидируя последние очаги восстания. К этому периоду относится, между прочим, начало его переписки с Потемкиным. Последний был теперь не прежним генералом румянцевской армии, а всесильным фаворитом, оттеснившим на задний план и Орловых, и Румянцева, и Панина:
Наученный горьким опытом, сколь трудно обходиться без покровителя, Суворов решил обрести его в новом фаворите. Его письма Потемкину пестрят комплиментами и просьбами о поддержке; впрочем, это была не его область – комплименты выходили обычно топорными, а просьбы неловкими и неубедительными.
В августе 1775 года скончался Василий Иванович Суворов. В связи с этим полководец получил разрешение явиться в Москву, представлялся там государыне и был назначен командующим Петербургской дивизией. Для большинства генералов такое назначение показалось бы чрезвычайно лестным и выгодным. Однако Суворову оно претило. Его не привлекала перспектива получать награды за парадную службу; в мечтах своих он стремился к подлинной славе, неразрывно связанной со славою своей родины, и не хотел менять тяготы и опасность борьбы на теплое местечко в столице. В этом характерное отличие Суворова: он мог обращаться к покровительству могущественных царедворцев, но стать одним из них никогда бы не согласился.
Оставшись в Москве по домашним делам, он провел там и в своих деревнях свыше года, ни разу не появившись в Петербурге для командования дивизией.
В ноябре 1776 года он получил от Потемкина предписание срочно выехать в Крым.
Еще Петр I высказал мысль о необходимости присоединения Крыма к России. С тех пор политика царских правительств неизменно была направлена к захвату заманчивого полуострова. Заключенный в 1777 году в Кучук-Кайнарджи мирный договор в значительной степени разрешал эту задачу – турки очистили полуостров. Крым получил эфемерную независимость; на самом же деле решающее влияние на крымские дела приобрела Россия, благодаря обладанию крепостями – Керчью, Еникале и Кинбурном. Однако крымские татары знали цену навязанной им «независимости» и неохотно ее принимали. Среди них начались внутренние смуты, которыми тотчас вознамерилось воспользоваться русское правительство. В Петербурге уже в течение нескольких лет воспитывался брат низложенного мурзами крымского хана, по имени Шагин-Гирей. Он вполне обрусел, часто посещал танцы в Смольном институте для «благородных» девиц, состоял даже в списках Преображенского полка. Его-то и наметили кандидатом в крымские правители; решено было сперва навязать его ногайским ордам, а затем провести в крымские ханы. Татары волновались; Турция продвигала к Крыму свои войска. Россия, со своей стороны, ввела на полуостров двадцатипятитысячный корпус под начальством Прозоровского. Заместителем последнего был назначен Суворов.
В марте 1777 года прибыл в Крым Шагин-Гирей и немедленно был избран мурзами в ханы. Преисполненный новых веяний, он тотчас приступил к широким реформам: организовал перепись, начал чеканить монету, заложил фрегат, велел обучать детей европейским языкам и т. д. Эти «европейские» мероприятия, проводившиеся Шагин-Гиреем с азиатской жестокостью и самовластностью, возбудили против него недовольство мусульман. Волнения перекинулись из Крыма на Кубань, где кочевали ногайцы.
В это время начальство над Кубанским корпусом было вверено Суворову.
Приехав на Кубань, Суворов развил кипучую деятельность. Он пробыл там всего три с половиной месяца, но провел за это время огромную работу. Он упорядочил кордонную службу, построил несколько десятков новых укреплений, приступил к более правильной дислокации войск, приказал выжечь приречные камыши, в которых обыкновенно прятались перед набегами горцы. В разгаре этой работы Суворов получил извещение о назначении его на место князя Прозоровского командующим крымскими силами.
Положение в Крыму в этот момент было очень острое. Турецкий флот плавал у берегов с явным намерением высадить десант. Надо было воспрепятствовать этому и одновременно избежать конфликта, который мог бы привести к нежелательной новой войне. Зная горячий нрав Суворова, Румянцев сомневался, сможет ли он справиться с такой задачей. Однако Суворов оказался на высоте положения. Умело расставленные им посты наблюдали за всем побережьем; когда же турки захотели высадиться под предлогом недостатка в питьевой воде, им было в этом вежливо, но твердо отказано. Начальники постов, разводя руками, ссылались на не существовавший карантин, при этом недвусмысленно клали руки на эфесы шпаг. Поняв, что без боя высадить десант не удастся, турецкий флот удалился в Константинополь.
Вслед за тем Суворову было дано другое, не менее деликатное поручение. Русское правительство надумало выселить из Крыма в приазовские области все христианское население. Тем самым хан Шагин-Гирей лишался подавляющей части налогоплательщиков и попадал в полную финансовую кабалу к России. При выполнении этого поручения Суворову приходилось считаться с резкой оппозицией хана, с жалобами и протестами самих выселяемых и, наконец, с неприязненным отношением Румянцева, не сочувствовавшего этой операции и предвидевшего множество вредных последствий от ее осуществления. Об обстановке, в которой протекало переселение, свидетельствует, например, тот факт, что «к двум ханским министрам, которые наиболее сему препятствовали, немедленно поставили перед домом крепкий караул с одною пушкою, до тех пор, пока они успокоились»[18]18
Ф. Актинг. «Жизнь Суворова-Рымникского», 1799, т. I, стр. 175.
[Закрыть]. Тем не менее, переселенческая операция была быстро и успешно проведена.
Следя за флотом Блистательной Порты, переселяя православных купцов, укрепляя степную границу, Суворов никогда не упускал из виду вопросов реорганизации войск. В мае 1778 года он об’явил в приказе по Крымскому и Кубанскому корпусам подробное «Наставление о порядке службы пехоты, кавалерии и казаков». Это «Наставление» содержит в себе детальное руководство для ведения операций в тяжелых условиях местности и обстановки. Этот интереснейший документ и сейчас сохранил свое значение.
Таким образом, Суворов напряженно работал, если не на боевом, то, во всяком случае, на близком к нему военно-административном поприще. Но душевное состояние его было очень тяжелое. Давно уже не взлюбивший его Румянцев, раздраженный, к тому же, переселением христиан, был щедр на резкие выговоры. Впечатлительность и самолюбие Суворова не позволяли ему хладнокровно принимать их. Он страдал от необходимости безмолвно сносить грубые выходки властительного вельможи. Подчиненный в то время Румянцеву, Суворов не имел права непосредственно сноситься с Потемкиным, но, видя в нем опору против румянцевских козней, постоянно обращался к нему. Положение его было тем труднее, что между Потемкиным и Румянцевым возгорелась яростная вражда. Вынужденный выполнять предложения Потемкина и находясь в то же время в подчинении у Румянцева, Суворов оказался как бы между молотом и наковальней. Когда Румянцев прислал категорическое запрещение насильственного переселения христиан, Суворов писал: «Строгость сия постигла меня уже по выводе почти всех христиан; ну, а если б прежде – сгиб бы Суворов за неуспех… От фельдмаршала глотаю что дальше, то больше купоросные пилюли».
Получая – обычно преувеличенные – известия об интригах Румянцева против него, Суворов страшно нервничал. «Фельдмаршала я непрестанно боюсь, – писал он. – Мне пишет он, будто из облака. Хотя бы уже он, купоросность отлагая, равнодушно смотрел лучше в конец или терпеливо ждал бы его… Преподания его обыкновенно брань, иногда облеченная розами».
В отчаянии Суворов принимался иногда оправдываться перед Потемкиным в преступлениях, которые – по дошедшим до него слухам – взвалил на него Румянцев.
«Говорят, будто я сказал, что иду завоевать Крым. – Нет, я хвастаю только тем, что сорок лет служу непорочно. Говорят, будто я требовал у хана, стыдно сказать, красавиц. – Но я, кроме брачного, ничего не разумею. Говорят, будто я требовал аргамаков, – а я езжу на под’емных; «индейских парчей» – а я даже не знал, есть ли они в Крыму».
Нет сомнения, что Суворов преувеличивал румянцевские интриги. Но бесспорно и то, что отношение к нему было недоброжелательным, и он тем болезненнее реагировал на это, что был уже немолод и имел в своем послужном списке не одну славную операцию. В довершение, он стал жестоко хворать. «Не описать вам всех припадков слабостей моего здоровья, – писал от Потемкину. – Перемените мне воздух, увидите еще во мне пользу… Найдите мне способ здоровье польготить… жизнь пресечется – она одна. Я еще мог бы по службе угодить, если бы пожил».
Потемкин никак не отзывался на эти письма. Оставалось одно – запастись терпением и ждать поворота судьбы.
Мало-помалу обстановка в Крыму разрядилась. Порта признала Шагин-Гирея крымским ханом, и бóльшая часть русских войск была выведена из Крыма. Суворов получил в командование Малороссийскую дивизию. Только он начал ее «экзерцировать», как пришел новый приказ – его вызывали в Петербург. С затаенными надеждами помчался он в столицу. Может быть, «матушка» оценила его верную службу? Императрица, в самом деле, приняла его очень приветливо: видимо, сказались успешное завершение крымского предприятия и заступничество всемогущего Потемкина. Обворожив Суворова комплиментами на ломаном русском языке, она командировала его в Астрахань для выполнения «секретного и важного поручения».
Суворов с энтузиазмом юноши помчался на «свеженькую работу», но скоро ему пришлось разочароваться. Русское правительство хотело, воспользовавшись ост-индской войной между Англией и Францией, оттянуть часть морской торговли с Индией на сухопутное направление через Персию. В связи с этим Суворову поручалось осмотреть дороги, принять меры к безопасности караванов и начать приготовления к замышлявшемуся походу в Персию. Однако очень скоро обнаружилась беспочвенность всего проекта. Дело положили под спуд; тем не менее, Суворова оставили в Астрахани.
Два долгих года провел он там, томясь небывалым бездельем… Даже жизнь в Крыму казалась ему теперь раем. Служебное положение его было самое неопределенное; иной раз он просто считал себя в ссылке. Вдобавок, его больно жалили всевозможные мелкие дрязги и сплетни, которыми была полна Астрахань. На губернаторском рауте приезд вице-губернатора был ознаменован тушем, а при появлении его, Суворова, туша не было; какой-то директор гимназии ядовито доказывал ему с помощью алгебры, что всякий прапорщик его умнее; губернаторша не явилась с ответным визитом к его жене, Варваре Ивановне, и т. д., и т. д. Вся эта тина мелочей засасывала самолюбивого полководца. Каждый булавочный укол ранил его. Он забрасывает Потемкина письмами, прося переместить его куда-нибудь. В целом потоке ходатайств он выдвигает множество вариантов его нового назначения. Наконец, в декабре 1781 года его слезницы увенчались «успехом»: его перевели в Казань – единственное назначение, которого он просил ему не давать.
Но, как-никак, Казань была лучше Астрахани. Он незамедлительно выехал туда, но не успел приехать, как пришло новое распоряжение – его переводили снова на Кубань.
Присоединение Крыма поставило перед правительством Екатерины ряд новых задач. Решено было окончательно присоединить к России все области, примыкавшие к северному побережью Черного моря, в первую очередь, степи, населенные кочевыми племенами ногайцев[19]19
Ногайцы, или ногаи – родственное татарам племя тюркской народности.
[Закрыть].
Нужно было найти предлог, но за этим дело, как всегда, не стало.
Среди крымских татар и закубанских ногайцев росла оппозиция против Шагин-Гирея. Дело кончилось восстанием, в результате которого неудачливый хан бежал под защиту русских пушек в Еникале. Лучшего повода для экспедиции нельзя было и придумать. В секретном рескрипте на имя Потемкина (в сентябре 1782 года) предписывалось: «Один корпус к Днепру, другой к Бугу, для обеспечения наших границ и Херсона, от которого отряд имеет действовать и внутри Крыма. Нужно наказать кубанцев, сие произвесть большим числом войска Донского с частью регулярных войск, их подкрепляющих». В развитие этого приказа и был вызван Суворов, которому поручили Кубанский корпус в составе 12 батальонов и 20 эскадронов при 16 орудиях. Кроме того, под рукою имелись 20 донских полков. С военной стороны, покорение почти не знавших огнестрельного оружия ногайцев было нетрудной задачей и для этого не надо было выписывать Суворова. Но Потемкин опасался вмешательства Турции и хотел кончить дело быстро и энергично.
Проведя ряд рекогносцировок, Суворов убедился, что некоторые племена ногайцев находятся «в разврате», то есть исполнены мятежным духом по отношению к посягавшим на их свободу русским. Однако он не терял надежды урегулировать вопрос без кровопролития. Первоначально он собрал несколько тысяч ногайцев на пир по случаю своего приезда. Во время пира он склонил часть ногайских главарей признать себя подданными России. Добиться общего согласия всего ногайского племени было чрезвычайно трудно вследствие бешеной агитации турок. Тем не менее, Суворов решился предпринять такую попытку.
В июне 1783 года был устроен второй пир, на котором предполагалось приведение к присяге всех главарей ногайских племен. Все прошло как нельзя лучше: было с’едено 100 быков и 800 баранов, выпито 600 ведер водки. Накормленные доотвала гости присягнули на верность хлебосольной императрице.
Однако эта присяга не могла служить достаточной гарантией. Потемкин исподволь подготовлял другую меру: чтобы парализовать турецкие происки, он решил переселить ногайцев в степи, расположенные подальше от границ, в районы Тамбова, Саратова и Урала. Для ногайцев это было равносильно разорению, но с этим никто не считался.
В следующем же месяце переселение было начато[20]20
Сочтя момент подходящим, Суворов начал переселение до получения приказа от Потемкина, что тот ставил ему впоследствии в вину.
[Закрыть]. На всем пути были расставлены пикеты, имевшие, однако, инструкцию действовать очень осторожно и не раздражать переселенцев. Сперва дело шло довольно гладко, но 1 августа племя джембойлуков восстало и устремилось обратно к Кубани. Прижатые подоспевшими войсками к реке, несчастные кочевники подверглись страшному истреблению.
В рапорте Суворова князю Потемкину говорится:
«Опроверженные и потоптанные бунтовщики бросались мимо брода прямо в глубокую реку с тиноватым грунтом, где были аркибузированы, а задние рублены и колоты. Своих жен, коих из арб забрать не могли, резали с детьми, а забранных детей бросали живых в реку… Множественные из оставшихся живыми вылезали из воды на противном берегу в рубашках и нагие и там нашими на той стороне поражаемы были… Прибывший от места сражения сказывал, что он без счету видел мертвых и не одну тысячу, також и довольно в полону, и г.г. полковники собрали много невинный младенцев, коих питают молоком».
Истребление джембойлуков взволновало все племена и взорвало непрочную постройку якобы дружественных отношений с ногайцами. Несколько мелких русских отрядов были изрублены; 10 тысяч кочевников осадили Ейск, гарнизон которого с трудом отбился. Вдобавок, переселившийся в Тамань Шагин-Гирей завел флирт с Турцией и явно передавался на ее сторону. Потемкин потребовал немедленного переезда Шагин-Гирея в глубь России. Посланный от Суворова курьер промедлил в пути и, когда добрался до Тамани, никого не застал: хан проведал о приближении курьера и ночью бежал.
Потемкин рвал и метал. «Я смотрю на сие с прискорбием, – писал он Суворову, – как и на другие странные в вашем краю происшествия и рекомендую наблюдать, дабы повеления, к единственному вашему сведению и исполнению преподанные, не были известны многим».
Суворов и сам чувствовал, что оплошал, допустив бегство Шагин-Гирея. Неудовольствие Потемкина очень тревожило его. Поэтому он решил приложить все усилия, чтобы загладить свой проступок. Потемкин настаивал на энергичном ударе, который пресек бы разжигаемые турками и фанатичными мурзами волнения в ногайском народе. Раньше Суворов старался избежать новой резни, но, убедившись в тщете своих усилий и увидев, что его собственное положение пошатнулось, он тотчас стал готовиться к экспедиции.
Настаивая на экспедиции, Потемкин требовал «жестокого урока», который положил бы конец набегам и послужил примером для других волновавшихся народов и племен. Проще говоря, речь шла об истреблении части закубанских ногайцев, общее число которых определялось в 80 тысяч человек. Суворов так и понял свою задачу.
С военной стороны операция не представляла трудностей: было очевидно, что кочевые, плохо вооруженные племена не смогут противостоять регулярным частям. Трудность заключалась в другом – надо было настигнуть направлявшихся в горы ногайцев, прежде чем они доберутся до трудно проходимых лесов. Чтобы не спугнуть неторопливо подвигавшихся кочевников, требовалось соблюдение строжайшей тайны.