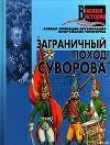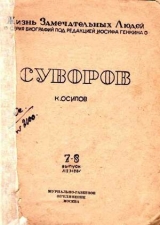
Текст книги "Суворов (1-е изд.)"
Автор книги: Кирилл Осипов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
Личность Суворова
Наружность у Суворова была неказистая; по выражению одного автора, чин его был «по делам, но не по персоне». Он был ниже среднего роста, сухощав, немного сутуловат. Лицо его имело овальную, слегка продолговатую форму и отличалось чрезвычайной выразительностью. К старости на нем было очень много морщин. Лоб – высокий, глаза – большие, голубые, искрившиеся умом и энергией. Рот небольшой, приятных очертаний; по обе стороны его шли глубокие вертикальные складки. Редкие, седые волосы заплетались на затылке в маленькую косичку. Вся фигура, взгляд, слова, движения – все отличалось живостью и проворством, не было солидности и важности, которые его современники привыкли считать обязательным атрибутом крупного деятеля.
Разрыв с общепринятым типом выдающегося человека возрастал все больше, по мере ознакомления с манерами и образом жизни Суворова. Везде и всюду он спал на покрытой простынею охапке сена определенной вышины и окружности, укрываясь вместо одеяла плащом. Вставал в четыре часа утра, причем слуге было велено тащить его за ногу, если он проспит. Одевался он очень быстро, неизменно соблюдая величайшую опрятность. Шубы, перчаток, сюртука, шлафрока он никогда не носил; всегда на нем был мундир, иногда плащ, а в жаркие дни частенько просто исподнее белье.
Выпив утром несколько чашек чаю, он упражнялся около получаса в бегании или гимнастике, потом принимался за дела, а в свободное время приказывал что-нибудь читать ему. Обедал в 8–9 часов утра; за столом бывал весел и разговорчив; присутствовало за обедом обычно около двадцати человек. В пище Суворов был очень умерен, строго соблюдал посты, фруктов и сладкого не ел. После обеда он охотно спал. За обедом выпивал рюмку тминной водки и стакан кипрского вина, но напитками никогда не злоупотреблял. Он не курил, но нюхал табак.
Во всех своих привычках Суворов был необыкновенно скромен. «Я солдат, не знаю ни племени, ни роду», – сказал он однажды про себя. Не говоря уже о предметах роскоши – картинах, сервизах, нарядах, он лишал себя даже элементарного комфорта. Ездил он всегда в самой простой таратайке или на первой попавшейся казацкой лошаденке, одевался в добротные, но грубые ткани, пользовался самой простой мебелью и т. д. Все это составляло разительный контраст с царившей в XVIII веке безумной роскошью.
Пуще всего он боялся изнеженности, которая, по его мнению, подобно ржавчине, раз'едает волю и здоровье. Он считал необходимым поддерживать физическую и духовную стороны человека в состоянии постоянной готовности к лишениям и опасностям. Пребывание в солдатской среде укрепило эти его привычки и, следуя им, он достигал двух целей: подавал пример другим, – от которых требовал в военное время предельного напряжения сил, – и лишний раз привлекал симпатии солдат.
Суворов не любил игр и забав, дорожа каждой минутой для занятий. «Трудолюбивая душа должна всегда заниматься своим ремеслом», – заметил он однажды. В этом отношении можно найти сходство между ним и Гете, не учившимся играть в шахматы, чтобы не красть у себя времени, которое можно употребить на работу. Вероятно, из этих же соображений Суворов редко посещал балы и вечеринки, но если попадал туда, то бывал очень оживлен, много плясал и уже в глубокой старости хвалился, что танцовал контрданс три часа кряду. Он всех заражал своей живостью и больше всего не терпел «оспалости» (сонливости, вялости).
В комнатах Суворова всегда было очень жарко натоплено. Его биограф Фукс передает, что когда один посетитель удивился этому, полководец, смеясь, отвечал:
– Что делать! Ремесло наше такое, чтобы быть всегда близ огня. А потому я и здесь от него не отвыкаю.
К числу странных привычек Суворова относилось то, что он никогда не носил с собою часов и денег и не любил носовых платков.
– Не держите в кармане то, что чересчур грязно, чтобы бросить на землю, – говаривал он.
Он очень быстро, по нескольким взглядам и вопросам, составлял мнение о человеке – и редко менял его.
Несмотря на то, что он десятки раз принимал участие в рукопашных битвах, мускульная сила его была очень невелика. К концу жизни он так ослабел, что сгибался под тяжестью сабли.
Вообще, от природы он был слабого здоровья, и только непрестанная тренировка, спартанский режим и стальная сила воли позволяли ему переносить непрерывное физическое и нервное напряжение войны.
Живя в Новой-Ладоге (1765), Суворов тяжело болел желудком: эта болезнь осталась у него на всю жизнь. В 1780 году он сообщал в одном письме: «Желудок мой безлекарственный ослабел. Поят меня милефолиумом, насилу пишу». Обычно он пользовался услугами простого фельдшера – «бородобрея», который лишь в последний год его жизни был заменен настоящим врачом. Но Суворов не доверял медикам, полагал – и, может быть, не без основания, – что его неправильно лечат. За три месяца до смерти он писал Хвостову: «Мне недолго жить. Кашель меня крушит. Присмотр за мною двуличный». Во время итальянской кампании он, как говорится, таял на глазах; сперва крепился, выглядел гораздо моложе своих семидесяти лет, но постепенно, изнуренный тяготами сражений, пререканиями с австрийцами и лишениями швейцарского похода, совершенно обессилел, так что нередко даже засыпал за обедом; у него появились резь в глазах, жестокие приступы кашля; ныли старые раны и, наконец, развился смертельный недуг.
Суворов был по натуре добр – непритязательной добротой простого русского человека. Он не пропускал ни одного нищего, чтобы не оделить его милостыней. Встречая ребят, он останавливался и ласкал их. В Кончанском у него жила на полном пансионе целая команда инвалидов. Он помогал всем, кто обращался к нему. По уверению Фукса, он до конца жизни тайно высылал 10 тысяч рублей в одну из тюрем.
– Я проливал кровь потоками, – сказал он однажды, – я прихожу в ужас от этого. Но я люблю моего ближнего; я никого не сделал несчастным, не подписал ни одного смертного приговора, не задавил ни одной козявки.
Полководец был искренен, говоря это, и здесь нет противоречия с его беспощадностью там, где она диктовалась железным законом войны.
Но, как часто бывает, наряду с добрым сердцем и благородством духа, Суворов обладал тяжелым характером. Множество неприятностей и обид, выпавших на его долю, еще более обострило эту черту. Он сам знал, что с ним нельзя ужиться.
– Я иногда растенье «не тронь меня», иногда электрическая машина, которая при прикосновении осыплет искрами, хоть и не убьет, – признавался он в минуты откровенности.
Он требовал, чтобы все подчинялись его привычкам и разделяли его вкусы; в этом отношении он часто бывал настоящим деспотом. На обедах у него водку разливали по чинам; один офицер усмехнулся такому порядку; Суворов прогнал его из-за стола, хотя это был честный, всеми уважаемый служака. Другой не произнес после предобеденной молитвы «аминь», – его вовсе обнесли водкой. Вдобавок, Суворов осыпал прогневивших его градом сарказмов, на которые он был великий мастер. Одному полковнику красивой внешности он дал ставшую крылатой характеристику:
– Он храбр в Амазонском полку.
Увидя табакерку с портретом ненавистного ему человека, он воскликнул:
– Зачем не изобразил его художник спящим! Во сне и тигр добр!
Вообще, с окружающими он не церемонился. Своему начальнику штаба, Ивашеву, он как-то велел петь рождественские гимны:
– Я возьму себе первый бас, а ты – второй.
Ивашев в ужасе доказывал, что не имеет голоса и вовсе не знает нот, но ничто не помогло; во время службы он орал, что придет в голову, и тем доставил, видимо, совершенное удовольствие своему патрону.
В период итальянской кампании Суворов приказал одному провинившемуся генералу надеть солдатскую форму и стать с полной выкладкой на два часа перед его палаткой.
Но все это было несерьезно; это походило на капризы и гнев ребенка. В серьезных случаях Суворов, напротив, проявлял неизменную снисходительность. Он почти никогда не отдавал под суд; одного своего офицера, проигравшего в Варшаве казенные деньги, он не только не привлек к суду, но уплатил за него растраченную сумму; когда Павел I хотел сместить генерала Розенберга, потерпевшего по собственной оплошности поражение при Бассиньяно, Суворов заступился за Розенберга.
– Заранее учись прощать ошибки других и не прощай никогда собственных, – часто повторял он.
Окружающие знали его отходчивость, доверчивость и житейскую неопытность и часто использовали их в своих интересах. Управители обкрадывали его или разоряли своей леностью и небрежностью; ад’ютанты опутывали его сетью взаимных интриг, подсказывали ему пристрастное распределение наград, играли на всех его слабых струнах, благоразумно не вторгаясь только в чисто военную сферу, где, как им было известно, полководец не терпел ничьего вмешательства.
Вряд ли Суворов не замечал всех ухищрений и плутней, разыгрывавшихся вокруг него. Скорее всего, он просто не придавал им значения, не считал их достойными того, чтобы отвлекаться ради них от военных дел. Иногда он наблюдал за ними с добродушным любопытством. Его управляющий, Матвеич, задержал однажды отсылку коровы, чтобы пользоваться молоком; в другой раз он же долго не отправлял лошадей. Суворов напомнил ему о лошадях – «ведь от них молока нет».
Характерным, во всем проявлявшимся свойством его была безыскусственная простота; ни при каких обстоятельствах его не покидал его подлинный демократизм. Об’езжая в скромной повозке пограничные крепости Финляндии, он встретился с мчавшимся фельд’егерем. Не узнав в бедно одетом старичке знаменитого графа Суворова, тот гаркнул, что-то и хлестнул графа нагайкой. Ад’ютант в бешенстве хотел остановить фельд’егеря, но Суворов закрыл ему рот рукою:
– Тише! Курьер, помилуй бог, дело великое.
Много раз высказывалось – особенно иностранными писателями – удивление, как мог Суворов, при его независимом и гордом нраве, униженно вести себя со своими начальниками (Румянцевым и Потемкиным). Здесь явное недоразумение. Правда, что он непрочь был «воскурить фимиам», но это курение в значительной степени проистекло из обычаев XVIII века. Самоуничижительная форма обращения была в ту эпоху обычной. Екатерина II отменила подпись «раб», которую ставили в конце письма перед своим именем. Недалеко еще было то время, когда принято было, подражая цветистой и лукавой восточней манере, называть себя «холопом» и подписываться только уничижительным именем. Этот патриархальный обычай наложил свой отпечаток на Суворова. Очень характерно письмо, отправленное им секретарю князя Потемкина, Попову, когда юный сын Суворова ездил представляться могущественному фавориту. «Посылаю при сем моего мальчика. Представьте его светлейшему князю, повелите ему, чтобы он его светлости пониже поклонился и, ежели может быть удостоен, поцеловал бы его руку. Доколе Жан-Жаком[55]55
Руссо.
[Закрыть] мы опрокинуты не были, целовали мы у стариков только полу».
Таким образом, внешне подобострастная манера никак не умаляла человека в глазах Суворова. Доказательством этому служит то, что он всегда отстаивал свою точку зрения – против Потемкина, против Екатерины, против Павла I, против австрийского императора, словом, против всех, перед кем как будто бы бил земные поклоны. Другим доказательством может служить его откровенная, нелицемерная нескромность в разговорах; он сравнивал себя с Цезарем, проводил параллель между швейцарским походом и походом Аннибала, заявлял, что он лучше Фридриха II, так как не проигрывал сражений и т. п.
Это была наивная, честная нескромность большого ребенка, далекая от хвастовства и игры самолюбия.
– Никогда самолюбие, часто производимое мгновенным порывом, не управляло моими деяниями, – сказал про себя полководец, и его поступки не дают оснований усомниться в истинности этих слов.
Одним из основных свойств его натуры была глубокая, нерушимая бескорыстность. И здесь он представлял собою яркое исключение среди возведенной в принцип продажности екатерининских вельмож. Все искали, чем бы можно было поживиться, все воровали направо и налево. Кондотьерские нравы господствовали во всех армиях. Французы грабили завоеванную Италию, австрийцы – Польшу, турки продавали задешево пленных русских, русские разоряли турецкие области. От простого солдата до известнейших генералов вся армия участвовала в грабеже – и только Суворов никогда не взял ни одной вещи из бесценной добычи, которая доставалась войскам в результате его побед. Когда же при взятии Турина ему принесли драгоценности бывшего сардинского короля, оставленные французами при поспешном отступлении, он отказался считать их своей военной добычей и отослал экс-королю.
Суворов был одним из наиболее образованных русских людей своего времени. Он недурно знал математику, историю, географию; владел немецким, французским, итальянским, польским, турецким, арабским, персидским и финским языками; был основательно знаком с философией, с древней и новой литературой. Военная эрудиция его была изумительна. Он проштудировал все важнейшие военные книги, начиная с Плутарха вплоть до своих современников, изучил фортификацию и даже сдал экзамен на мичмана.
Сохранился рассказ, будто однажды Суворов выразился: «Не будь я военным, я был бы поэтом».
Не известно в точности, была ли произнесена им эта фраза, но факт таков, что генералиссимус российских армий питал неизменный интерес к поэзии и сам постоянно порывался писать стихи. Служа Марсу, Суворов всегда был поклонником Аполлона.
Стихотворения Суворова, писанные в то время, когда уровень русской поэзии был вообще невысок, не отличаются особыми достоинствами. Они пестрят типичными для его эпохи тяжеловесными оборотами речи, архаической формой выражений. В одном стихотворении (ответ Кострову) Суворов писал:
Я в жизни пользуюсь, чем ты меня даришь,
И обожаю все, что ты в меня вперишь:
К услуге общества, что мне недоставало,
То наставление твое в меня влияло.
Выражения вроде «вперишь», «влияло» и прочие встречаются у Суворова очень часто. Часто попадаются характерные для того времени витиеватые сравнения и гиперболы. Письмо к Кострову заканчивается такими словами:
Вергилий и Гомер, о! если бы восстали,
Для превосходства бы твой важный слог избрали.
Или еще:
Воспоминаю я, что были Юлий, Тит.
Ты к ним меня ведешь, изящнейший пиит!
Коротко говоря, с точки зрения формальных достоинств, муза Суворова, в лучшем случае, не превышала среднего уровня его эпохи. К чести Суворова надо сказать, что он сам отлично понимал это. Когда один из собеседников назвал его однажды поэтом, он решительно отклонил это звание. «Истинная поэзия рождается вдохновением, – произнес он. – Я же просто складываю рифмы».
Будучи, как всегда, последовательным, он никогда не печатал своих стихов.
И все-таки стихи всегда были слабостью его исключительно волевой и сильной натуры.
В бумагах Суворова, относящихся к периоду итальянской кампании, имеется четко переписанное стихотворение:
ЕПИГРАМА
На пламенном шару остановилось время
И изумленное ко славе вопиет:
Кто муж сей, с кем в родство
Вошло венчанных племя?
От славы вдруг ответ:
Се вождь союзных сил,
Решитель злых раздоров,
Се росс! Се мой герой!
Бессмертный то Суворов!
На этом листке рукою полководца сделана пометка: «Сии стихи неизвестно кем писаны, но прекрасны»[56]56
Рукописный Суворовский сборник, т. XI.
[Закрыть].
Суворов с огромным удовольствием отвечал в стихах поэтам, посвящавшим ему славословия, и, между прочим, ответил в стихах Державину, поздравившему его в 1794 году со взятием Варшавы.
Царица, Севером владея,
Предписывает всем закон.
В деснице жезл судьбы имея,
Вращает сферу без препон.
Она светила возжигает,
Она и меркнуть им велит,
Чрез громы гнев свой возвещает,
Чрез тихость благость всем явит.
Героев Росских мощны длани
Ее веленья лишь творят.
Речет: Вселенная заплатит дани,
Глагол ее могуществен и свят.
Суворов очень любил прибегать к стихотворной форме и в частной переписке.
Стоит привести письмо, отправленное им дочери Наташе в 1794 году из Польши:
Нам дали небеса 24 часа.
Потачки не даю моей судьбине,
А жертвую оным моей монархине.
И чтоб окончить вдруг,
Сплю и ем, когда досуг.
В том же году он послал ей очень любопытное письмо, в котором касался злободневного тогда вопроса о выборе жениха:
Уведомляю сим тебя, моя Наташа:
Костюшко злой в руках; взяла вот так-то наша.
Я ж весел и здоров, но лишь немного лих,
Тобою, что презрен мной избранный жених.
Когда любовь твоя велика есть к отцу,
Послушай старика, дай руку молодцу.
Но впрочем никаких не слушай, друг мой, вздоров.
Отец твой Александр граф Рымникский-Суворов.
Дочь полководца ответила ему также в стихах, причем засвидетельствовала глубочайшее почтение к чему и преданные дочерние чувства, но выйти замуж за рекомендованного ей жениха категорически отказалась.
Пристрастие Суворова к стихам проявлялось не только в личной, но и в официальной переписке. Не говоря уже о его подчиненных, он неоднократно во время итальянской кампании давал указания австрийским генералам в виде немецких или французских стихов. Сообщение военных реляций в форме стихов было также в обычае у Суворова. Вдобавок, иногда эти стихи были пропитаны тонким ядом. Приехав под Очаков, где русские войска безрезультатно топтались на месте, и проведя немедленно энергичную операцию против турок, он в разгаре боя получил от Потемкина запрос о его намерениях. Вместо ответа он послал стишок: «Я на камушке сижу, на Очаков я гляжу». Этот намек на предыдущее бездействие русских войск привел Потемкина в ярость.
Свойственный Суворову язвительный стиль нашел себе яркое отражение в его эпиграммах. Известна его эпиграмма на Потемкина, высмеивающая завоевательную политику, напыщенность и презрение к людям князя Таврического:
Одной рукой он в шахматы играет,
Другой рукою он народы покоряет.
Одной ногой разит он друга и врага,
Другою топчет он вселенны берега.
Эта эпиграмма является, кстати, пародией на державинские «Хоры», сочиненные по случаю потемкинского праздника в 1791 году.
Конфликт с тем же Потемкиным побудил попавшего в незаслуженную опалу Суворова написать такие строчки:
Стремись, моя душа, в восторге к небесам
Или препобеждай от козней стыд и срам.
Склонность Суворова к поэзии неоднократно утилизировалась окружающими. Его управляющий, плут Терентий Черкасов, отправлял ему доклады, составленные в стихах. Звание поэта само по себе обеспечивало симпатии Суворова. Летописец фельдмаршала Фукс рассказывает, что на одном обеде молодой офицер, желая очутиться поближе к Суворову, сел не по чину. Такое нарушение табели о рангах весьма не понравилось фельдмаршалу, и он гневно обрушился на офицера, упрекая его в зазнайстве, в непочтении к старшим и т. д. Желая выручить провинившегося, кто-то заявил Суворову, что это – поэт, желавший поближе видеть командующего, чтобы воспеть его. Услышав, что перед ним поэт, Суворов сразу смягчился и, сказав, что к поэтам надо быть снисходительным, обласкал офицера.
На фоне спесивых екатерининских и павловских вельмож, не удостаивавших поэзию серьезного внимания, Суворов являлся редким и отрадным исключением. Будучи глубоко образованным человеком, он с уважением относился ко всякому знанию. Поэзия же была на протяжении всей его семидесятилетней жизни его излюбленным занятием, которому он был искренне и без лести предан.
Богатый материал для характеристики каждого человека представляют его письма. Корреспонденция Суворова особенно интересна. Слог его был естественный, простой, лаконичный, отрывистый, какой-то мятущийся – верное отражение его натуры. «Мой стиль не фигуральный, а натуральный, при твердости моего духа», – писал он секретарю Потемкина Попову. Непривычному читателю трудно было разобраться в этих недоконченных фразах, нежданных скачках мысли, резких переходах к совершенно другой теме. Когда состояние его духа было спокойно, он писал ровнее и систематичнее; в часы волнения бумага выдавала его настроение. Вдобавок, он пользовался совершенно оригинальной пунктуацией; знаки препинания расставлялись им произвольно, часто в середине строки неожиданно оказывался вопросительный или восклицательный знак, еще более затруднявший путь к смыслу письма.
Была и еще веская причина, по которой его письма оказывались не всегда доступны пониманию, – опасение перлюстрации. Суворов почти всегда отправлял письма через курьеров и приказывал вручать их лично, но все эти предосторожности не давали гарантии. В царствование Екатерины перлюстрация достигла колоссальных размеров; правительство рассматривало ее как надежнейший источник информации. О взятии Хотина императрица узнала из частного письма 28 сентября (1788), а официальное донесение Румянцева пришло только 7 октября. В свете этого понятно, отчего письма Суворова сплошь и рядом зашифрованы, полны намеков и условных обозначении. Сама Екатерина в переписке с Гриммом прибегала к тому же приему.
В своих письмах Суворов нередко погрешал и против стилистики и против грамматики. Но язык писем – своеобразный и чеканный – дышит свежестью образов, слов и оборотов, даже когда он говорит о самых обыкновенных вещах. «Приезжай ко мне, – пишет он дочке, – есть чем поподчивать: есть и гривенники, и червонцы». В другом письме:
«Я в саду: астрея приятная, птички поют» и т. п.
С каждым корреспондентом он умел поддерживать переписку в том стиле, какой был тому свойственен. Небезынтересно привести, например, обмен посланиями между ним и принцем де Линем, последовавший после Рымникского сражения.
Де Линь прислал ему письмо, начинавшееся следующим образом: «Любезный брат Александр Филиппович, зять Карла XII, племянник Баярда, потомок де Блуаза и Монлюка»[57]57
Александр и его отец Филипп – македонские цари, знаменитые полководцы древности (IV век до нашей эры), Баярд – французский военачальник XVI века, идеал «рыцарских» качеств, остальные имена также принадлежат известным полководцам.
[Закрыть].
Суворов ответил: «Дядюшка потомок Юлия Цезаря, внук Александра Македонского, правнук Иисуса Навина!» и т. д.
Суворов писал четкими, тонкими, очень мелкими буквами. «Он писал мелко, но дела его были крупны», – выразился однажды Растопчин. Это был энергичный почерк, обнаруживавший волевые качества автора. В письмах и бумагах его никогда не было помарок и поправок; так же писал он свои приказы. Если он бывал доволен адресатом, то часто заканчивал письмо словами: «Хорошо и здравствуй».
Облик Суворова останется незаконченным, если не отметить его поразительной храбрости. Десятки раз он находился в смертельной опасности. Со своей тонкой шпажонкой он не мог оказать серьезного сопротивления неприятельским солдатам, ио робость была неведома ему. Он бросался, вдохновляя бойцов, в самые опасные места, где почти невозможно было уцелеть, проявляя какую-то безрассудную смелость. Известен рассказ о маршале Тюрене, которого охватывала нервная дрожь при свисте пуль и который однажды с презрением обратился к самому себе:
– Ты дрожишь, скелет? Ты дрожал бы еще гораздо больше, если бы знал, куда я тебя поведу.
Тюрень был любимым образцом Суворова. Прибежавшему после Очаковской битвы врачу Суворов не позволял перевязать его рану, твердя: «Тюрень! Тюрень!» – и только когда раздраженный врач заметил, что Тюрень давал себя лечить, он подчинился. Но, в противоположность французскому маршалу, русский полководец был мужественен и духом и телом. Ни разу его не видели в бою растерявшимся, побледневшим или задрожавшим.
И, тем не менее, Суворов, конечно, испытывал страх; его беспримерное хладнокровие было следствием самодисциплины, закалки организма и титанического усилия воли. Во время сражения при Нови, когда французы осыпали русские войска ураганом ядер, Фукс признался Суворову, что боится. Тот пристально посмотрел на него.
– Не бойся ничего, – сказал он, – держись только подле меня: я, ведь, сам трус.
Неверно думать, будто Суворов всегда жаждал войны. Как бы ни были сильны в нем задатки полководца, он всегда считал войну бичом человечества. В Италии ему доложили, что один офицер помешался.
– Жаль! – промолвил он, и после короткой паузы добавил: – Но время ли сходить с ума сейчас, когда и вся война – хаос!
Военное творчество Суворова может рассматриваться как вклад в сокровищницу русской культуры: история русского военного искусства есть часть истории нашей культуры, а влияние Суворова в этой области было исключительно велико.
Суворов воплотил в себе множество отличительных черт русского народа. Его простота, упорство, выносливость, оригинальность и самобытность военных методов, самоотверженное служение своей родине – все это делало его подлинно национальным полководцем.
Суворов начал свою военную деятельность в период господства «кордонной системы»: наступающая сторона предельно растягивала линию фронта в попытке обойти противника; обороняющаяся – в той же мере растягивала свою линию и, выбрав позицию с прикрытыми флангами, сопротивлялась, не двигаясь с места, натиску ппотивника. При этом каждая деревня, каждая дорога или возвышенность служили об’ектом упорных боев.
Суворов перевернул всю эту систему. Он не рассеивал свои войска, а стремился, сосредоточив их, пробить разреженный фронт противника. Он не придавал решающего значения владению населенными пунктами, дорогами и даже крепостями, а главную цель видел в уничтожении живой силы противника. Он не признавал безынициативной, пассивной обороны, а проявлял максимум маневренности, требуя, чтобы каждый полк был «подвижной крепостью», и восполнял быстротой и отвагой войск численное преимущество противника. Наконец, в соответствии с этими своими принципами он возлагал главную надежду не на мало действительную в те времена стрельбу, а не энергичный штыковой удар.
Суворовские стратегия и тактика были восприняты и законченно развиты Наполеоном. Каждой эпохе свойственна своя стратегия. В дальнейшем, когда получили распространение железные дороги и был изобретен телеграф, вновь возродилась на новой базе стратегия окружения, достигшая своего апофеоза в Седане (1870). Но при том уровне техники, который существовал в конце XVIII века, наиболее действительной была стратегия сокрушения, основанного на сосредоточении и прорыве. При этом Наполеон, как и Суворов, неоднократно подвергал свою армию угрозе окружения ее неприятелем и вообще прибегал к очень рискованным маневрам. «Ввиду достижения великой цели, – выразился однажды Наполеон, – бывают минуты, когда следует жертвовать всем для достижения победы и не опасаться сжечь своих кораблей».
Подобная стратегия была возможна только при условии исключительной стойкости войск. (Характерный в этом смысле эпизод произошел во время осады австрийцами турецкой крепости Журжи. Во время вылазки турок австрийцы решили действовать «по-суворовски» и приняли их в штыки; однако моральная устойчивость войск оказалась не на высоте, и, несмотря на колоссальное превосходство в силах, австрийцы были наголову разбиты.) Наполеон поддерживал эту стойкость с помощью умелого манипулирования революционными лозунгами. Положение Суворова в этом отношении было значительно труднее. Для того, чтобы воодушевить войска, ему в гораздо большей мере приходилось рассчитывать на свое личное влияние, на умение понять и быть понятым солдатами. При этом решающую роль играли отмеченные выше национальные черты Суворова и его глубокая народность, его органическая связь с солдатскими массами, преодолевавшая классовый антагонизм и «расстояние состояний».
В этом, главным образом, заключался секрет необычайного обаяния Суворова для солдат, которое позволяло ему осуществлять такие маневры, как, например, в битве при Треббии, когда солдаты, прошедшие за 36 часов 80 верст, не успев перевести дыхания, вступили в бой и сражались до позднего вечера.
Вряд ли будет преувеличением сказать, что в европейской истории не было более полного и цельного типа военного человека, чем Суворов. «Все его личные качества, свойства, понятия, привычки, потребности, – говорит один историограф, – все было тщательно выработано им самим и применено именно к потребностям военного дела, которое с детских лет играло первенствующую роль в его жизни и руководило им».
В Суворове-полководце было сочетание обширного просвещенного ума с военным гением, могучая воля, уменье воспитывать массу, магически влиять на нее и увлекать за собою.
В применении к Суворову слово гений вполне уместно. В своем историко-психологическом этюде о Суворове профессор П. Ковалевский писал: «Принимая во внимание чрезвычайно острое восприятие органов чувств, необычайно быстрый психический процесс, огромное участие личных бессознательных проявлений в мышлении, необыкновенную энергию действий, самобытность и оригинальность в действиях и поступках, полное личное самоотвержение для идеи, полное подавление низших человеческих проявлений для высших идеалов, величие духа, господство над окружающими – мы можем с полным правом сказать, что Суворов составлял передовой и высший человеческий тип, он по всей справедливости может быть назван гением, и по специальности – военным гением».
Что особенно ценно и дорого в Суворове, это его постоянные старания пробудить в русском солдате «живую душу», развить в нем чувство любви к родине, чувство национальной и личной гордости. И это – в эпоху, когда, следуя примеру Фридриха II, все государства заботились лишь о муштровке солдат; и это – в стране, где солдат был вдвойне бесправен: как нижний чин и как крепостной.
Попытка набросать портрет Суворова встречает наибольшие трудности в необходимости об’яснить странности полководца, заслужившие столь громкую и в большинстве невыгодную славу. Бесконечные выходки и эксцентричности Суворова, особенно усилившиеся к концу его жизни, не соответствовали представлению о нем как о замечательной личности.
Однажды, когда полководец особенно много «чудил», соблюдая при этом величайшую серьезность, Фукс набрался смелости и прямо спросил его о причине такого поведения.
– Это моя манера, – ответил Суворов. – Слыхал ли ты о славном комике Карлене? Он на парижском театре играл арлекина, как будто рожден арлекином, а в частной жизни был пресериозный и строгих правил человек: ну, словом, Катон.
Этот иносказательный ответ ценен, прежде всего, тем, что в нем признается нарочитость причуд, «манера».
Причуды Суворова – это безумие Гамлета, это искусная маскировка его неизменной фронды к правящим кругам.
Нет сомнения, что по самой сущности своей Суворов обладал глубоко оригинальной натурой. Долголетнее пребывание среди солдат развило в нем новые привычки, которые с точки зрения «высшего общества», в свою очередь, рассматривались как чудачества. В большинстве случаев подобная оригинальность резко ограничивалась под влиянием общепринятых правил. Однако Суворов сознательно дал простор особенностям своей натуры.
Они выделяли его из толпы незнатных, не блещущих ни осанкой, ни светской ловкостью офицеров.