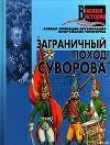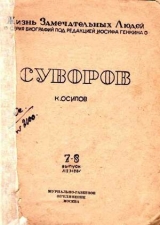
Текст книги "Суворов (1-е изд.)"
Автор книги: Кирилл Осипов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
Самое имя Суворова вытравлялось из армии, отданной во власть Аракчеева, истекавшей кровью под фухтелями и шпицрутенами.
Кроме всего этого, у фельдмаршала начались денежные неприятности.
Император дал ход всем искам и денежным претензиям, которые, как из рога изобилия, посыпались на Суворова. Павел приказывал взыскивать с опального полководца по самым невероятным счетам: за то, что три года назад по устному распоряжению фельдмаршала израсходовали 8 тысяч рублей на провиантские нужды армии, а провиантское ведомство их не покрыло; за то, что суворовский управитель торговал дом в Москве, не купил его, а купец уже прикрыл фабрику, бывшую в том доме. Бывшей жене Суворова Варваре Ивановне велено было давать ежегодно не 3 тысячи, а 8 тысяч рублей. Дошло до того, что один поляк вчинил Суворову иск за повреждения, нанесенные его имению русской артиллерией в 1794 году. Сумма претензий превысила 100 тысяч рублей при годовом доходе Суворова в 50 тысяч. На кобринское имение был наложен секвестр.
Под влиянием всех напастей, унижений, клеветы и обид Суворов совсем извелся. Почти ежедневно он ударял кого-нибудь из дворовых, чего с ним раньше почти никогда не случалось, и даже его любимцу Прошке – грубому пьянчуге, но беззаветно преданному своему господину – изрядно доставалось. Впрочем, он быстро остывал и обращался с Прошкой по-обычному просто и ласково. На одной прогулке Прошке, шедшему следом за Суворовым, взбрело на ум напроказить, и он, на потеху мужикам, принялся копировать Суворова. Неожиданно обернувшись, фельдмаршал застиг его в самом разгаре его усилий.
– Гум, гум, Прошенька, – кротко сказал он и, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь.
По целым дням он ходил из угла в угол, не имея живой души, с кем бы можно было поделиться своими мыслями. Смертельная тоска овладевала им. Иногда ночью, когда ему не спалось, он уходил в темный лес и бродил там до утра.
Главным развлечением его было звонить в колокола; это он очень любил и проводил целые часы на ветхой колокольне. Любил он также беседовать со старичком-священником и охотно читал на клиросе. В церкви он бил поклоны до земли, не сгибая колен, при этом часто смотрел между ног своих yазад и, если замечал смеющихся над ним, делал потом им замечания. В домике своем он завел «птичью горницу» и нередко подолгу просиживал посреди говорливых пернатых обитателей ее. В иные дни он вдруг присоединялся к игравшим в бабки ребятам и проводил целые часы за этим занятием.
Павел все ждал, что старый фельдмаршал принесет повинную. При всем своем сумасбродстве он понимал, какое неблагоприятное впечатление производит ссылка Суворова не только в России, но и за границей. Видя вокруг лишь покорность и поклонение, Павел не сомневался, что и старик-фельдмаршал скоро обломается и если не присоединит прямо своего голоса к хору восхвалений, то даст все-таки возможность поместить его куда-нибудь в армию на вторые роли, для отвода глаз Европе.
Но время шло, а Суворов не сдавался. Больше того: он не проявлял никаких признаков раскаяния. Случился, например, такой эпизод. В Кончанское прибыл курьер от императора; Суворов принял его в бане.
– Кому пакет?
– Фельдмаршалу графу Суворову.
– Тогда это не мне: фельдмаршал должен находиться при армии, а не в деревне[42]42
По словам французского писателя Gulllaumanches-Duboscage’a, непринятое письмо содержало якобы разрешение переменить местожительство.
[Закрыть].
Петербургско-кончанская баталия продолжалась.
Кончилось тем, что первый шаг сделал император. В феврале 1798 года он приказал племяннику Суворова, молодому князю Андрею Горчакову, «ехать к графу Суворову, сказать ему от меня, что если было что от него мне, я сего не помню; что может он ехать сюда, где надеюсь не будет повода подавать своим поведением к наималейшему недоразумению». Одновременно было дано распоряжение об отзыве из Кончанского Николева.
Вряд ли существовал еще хоть один русский деятель, по отношению к которому тщеславный и самолюбивый Павел сделал подобный шаг. И вряд ли кто-нибудь отказался бы от этого приглашения пойти на компромисс. Но Суворов именно так и поступил; он сразу решил для себя вопрос: не итти ни на какие сделки; лучше ссылка в глухой деревне, чем хотя бы косвенное апробирование «прусских затей» императора. Все его дальнейшее поведение было подчинено этому решению.
Сперва он вообще отказывался ехать в Петербург. Потом, уступая племяннику, выехал, но с необычной медлительностью, проселочными дорогами, «чтобы не растрястись». Горчаков отправился вперед. Государь с нетерпением, даже с тревогой ждал приезда Суворова. Он потребовал, чтобы его уведомили, как только фельдмаршал появится в столице.
Суворов приехал вечером. Павел уже лег, когда ему доложили об этом. Он вышел, сказал, что принял бы Суворова тотчас, но уже поздно, и он переносит аудиенцию на утро. В 9 часов Суворов с Горчаковым вошли в приемную. По дороге в Петербург старый полководец понаблюдал новое устройство армии, и все виденное им только укрепило его в принятом решении.
Окинув взором расфранченных, важничавших генералов, он тотчас же приступил к обычным «шалостям»: одному сказал, что у него длинный нос, другого с удивлением расспрашивал, за что он получил чин и трудно ли сражаться на паркете, с царским брадобреем, крещеным турком Кутайсовым, заговорил по-турецки.
Аудиенция у императора длилась больше часа. Павел проявил небывалое терпение, десятки раз намекая, что пора бы Суворову вернуться в армию. Фельдмаршал оставался глух. В первый раз Павел опоздал на развод, все пытаясь уломать несговорчивого старика. К разводу был приглашен и Суворов. Снова началось ухаживание государя за фельдмаршалом: вместо обычного учения солдат водили в штыки. Суворов почти не глядел на учение, подшучивал над окружающими и, наконец, уехал домой, несмотря на испуганные заклинания Горчакова, что прежде государя никто не смеет уходить с развода.
– Брюхо болит, – пожал плечами Суворов.
Три недели, проведенные им в Петербурге, были подобны этому дню. Он издевался над новой, неудобной формой, путался шпагой в дверцах кареты, ронял с головы плоскую шляпу; на разводах он вдруг принимался читать молитву: «Да будет воля твоя».
В это время произошел характерный диалог между ним и графом Растопчиным.
– Кого вы считаете самым смелым человеком? – спросил Растопчин.
– Трех смелых людей знаю на свете: Курций, Долгорукий и староста Антон. Первый прыгнул в пропасть; Антон ходил на медведя, а Долгорукий не боялся царю говорить правду.
Пребывание в Петербурге становилось явно бесцельным. Бедный Горчаков выбился из сил, пытаясь сгладить перед государем постоянные резкости Суворова. В конце концов, фельдмаршал прямо попросился обратно в деревню; Павел с заметным неудовольствием дал разрешение.
Поездка в столицу имела все же положительные следствия: во-первых, с Суворова был снят надзор, во-вторых, фельдмаршал рассеял овладевшую было им хандру. В первое время по возвращении его настроение было ровное и хорошее. Он ездил в гости к соседям, толпами сбиравшимся поглазеть на диковинного старика. Это, конечно, раззадоривало Суворова, и он в волю «чудил».
Сохранился правдоподобный анекдот, записанный со слов одного кончанского старожила. Некий помещик приехал в гости к отставному фельдмаршалу на восьми лошадях. Добившись согласия на ответный визит, он зазвал в назначенный день всю округу, слетевшуюся взглянуть на опальную знаменитость. Каково же было всеобщее удивление, когда показался Суворов на восьмидесяти лошадях цугом: форейтор полчаса сводил лошадей в клубок, пока вкатилась бричка с седоком. Обратно фельдмаршал уехал на одной лошади.
В этот период Суворов много занимался хозяйством и тесно общался со своими крестьянами. Поведение его как помещика было столь же оригинально и своеобразно, как и все его поступки.
После смерти отца он получил 1900 душ: в Пензенском наместничестве, в Московском округе, в Костромской, Владимирской и Новгородской губерниях. В последующие десять лет он приобрел еще около тысячи душ. Затем ему было пожаловано обширное Кобрино. Разумеется, все это было ничтожно в сравнении с поместьями родовитой знати и фаворитов, но, тем не менее, это было уже немалое хозяйство. Суворов почти не уделял времени управлению поместьями, передоверяя это своим управляющим; те, зная неопытность фельдмаршала в житейских делах, безбожно обманывали его. Однако общие контуры обращения с крестьянами намечались им лично.
Для своего времени Суворов был очень просвещенным и гуманным хозяином. Он не выжимал из крестьян семи потов: крестьяне платили 3–4 рубли оброка в год (с души) и за это пользовались всеми угодьями, реками и покосами. Сберегая рабочие руки, Суворов охотно покупал на стороне охотников пойти в солдаты, вместо того, чтобы отдавать в рекруты своих оброчных. Половину суммы (150–200 рублей) платил он из своих средств, остальные – мир.
Суворов всегда заботился, чтобы не было безбрачных. Если нехватало невест, он посылал покупать их. «Лица не разбирать, были бы здоровы. Девок отправлять на крестьянских подводах, без нарядов, одних за другими, как возят кур, но очень сохранно». Особенно внимателен и заботлив он был всегда к детям. Детей моложе тринадцати лет запрещалось посылать на работы (это в то время, когда в соседних деревнях и на заводах дети были заняты непосильным трудом с семи лет!).
Суворов следил за развитием скотоводства, за соблюдением правильных способов обработки земли. «В привычку вошло, – писал он, – пахать иные земли без навоза, от чего земля вырождается и из года в год приносит плоды хуже… Я наистрожайше настаивать буду о размножении рогатого скота и за нерадение о том жестоко, вначале старосту, а потом всех, наказывать буду».
Наказания в суворовских поместьях применялись тоже совсем не те, что практиковались у других помещиков. Телесных наказаний он почти не употреблял, а если и прибегал к ним, то, главным образом, за воровство. При этом разрешалось употреблять только розги; кнут и плети совершенно были из’яты, равно как весь реквизит рогаток, цепей и т. д. Самое наказание розгами производилось «по домашнему», ничем не напоминая беспощадных истязаний в других поместьях.
Очень любопытны старания Суворова внедрить в сознание крестьян понятие о необходимости взаимной помощи.
«В неурожае крестьянину пособлять всем миром и заимобразно, – наставлял он, – без всяких заработок, чиня раскладку на прочие семьи».
Заботой о крестьянском хозяйстве не ограничивались занятия Суворова в этот период. Он много читал, требовал присылки то Державинских од, то Оссиана, выписывал газеты и жадно следил за бушевавшей над Францией военной грозой. Суворов быстро оценил первые успехи Бонапарта и тогда же произнес свою известную фразу:
– Далеко шагает мальчик! Пора унять…
В дальнейшем он все больше уважал военный гений французского полководца. Это проявлялось даже в манере говорить о нем: сперва Суворов называл Бонапарта молокососом, затем мальчишкой, а потом стал величать его «молодой человек».
Не отдавая себе, быть может, отчета в том, что составляло основу успехов французской армии, он констатировал беспомощность коалиции противников. Он очень близко подходил к отгадке.
– Якобинцы побеждают, потому что у них твердая, глубокая воля, – сказал он одному французскому эмигранту, – а вы, ваша братия, не умеете хотеть.
Впрочем, это не значит, что Суворов готов был изменить свои политические убеждения. Он твердо оставался на позициях монархизма, отзываясь о революции как о ниспровержении человеческих и божеских законов. К слову сказать, еще живя в Польше, Суворов послал проникнутое пафосом и риторикой приветственное письмо предводителю вандейского контрреволюционного восстания.
Живя в кончанской трущобе, стоя одной ногой в гробу, он ловил каждое новое известие о титанической борьбе на берегах Рейна и в долинах Италии. Услыхав, что французы замышляют десант в Англию, он расхохотался:
– Вот трагикомический спектакль, который никогда не будет поставлен! – В этом сказались и его постоянное недоверие к десантным операциям и убеждение в превосходстве английского флота.
Мнения кончанского отшельника живо интересовали Павла, он подослал к нему генерала Прево де Лючиана, в упор поставившего вопрос о возможной войне с Францией. Суворов продиктовал в кратких чертах план кампании: оставить два обсервационных корпуса у Страсбурга и Люксембурга, итти, сражаясь, к Парижу, не теряя времени и не разбрасывая сил в осадах. Только два человека могли составить такой план – Суворов и Наполеон. Конечно, павловские специалисты с презрением отвергли его.
Пожелтела листва, умчалось короткое лето, а с ним и бодрое настроение Суворова. Павел исподтишка сводил счеты за недавний приезд фельдмаршала: он подверг немилости Горчакова, запретил невинную патриотическую книжку о победах русского полководца; снова полился дождь немедленно удовлетворявшихся денежных претензий. Ввиду крайнего расстройства дел Суворов определил себе на полгода всего 1600 рублей, но это, разумеется, не поправило его бюджета.
Отношения с зятем Н. Зубовым в конец испортились, и тень от этого легла даже на отношения с Наташей. Все стало немило. Унылая скука вновь овладела им.
«Бездействие гнетет и томит. Душа все равно, что пламя, которое надо поддерживать и которое угасает, если не разгорается все сильнее».
К упадку духа присоединилось физическое недомогание. В декабре 1798 года он жаловался, что «левая сторона, более изувеченная, уже пять дней немеет, а больше месяца назад был без движения во всем корпусе».
Нужен был какой-нибудь исход. Измученный старик решил искать его там, где меньше всего мог ужиться его беспокойный нрав, – в монашестве. В том же декабре он отправил императору прошение о дозволении ему постричься в монахи. «Неумышленности моей прости, великий государь», – добавлял он. Это был голос не прежнего неукротимого Суворова, а человека, наполовину покончившего уже счеты с жизнью.
Целый месяц ждал Суворов в занесенной снегом избе разрешения надеть рясу. Не принял ли Павел ею просьбу всерьез, либо уже обсуждался вопрос о новом назначении его, но ответа на прошение не последовало. И вдруг в начале февраля 1799 года в тишину кончанского домика ворвался на фельд’егерской тройке генерал Толбухин с высочайшим рескриптом. Павел звал Суворова в Италию – командовать русско-австрийскими армиями, действующими против французов.
Выезд в Вену
Как было упомянуто выше, при вступлении своем на престол Павел I круто изменил правила внешней политики своей матери, «соображенные на видах приобретений». Он задался целью способствовать установлению в Европе мира. Прусскому королю он сообщил, что намерен условиться с ним о способах «положить предел всяческим потрясениям государств», причем намерен был привлечь к этим переговорам и другие державы. Несмотря на свою фанатическую приверженность монархической идее, он проявлял терпимость по отношению к Французской республике. «Признание республики Французской не долженствует уже в нынешнем дел положении встречать ни малого от какой-либо державы затруднения», – указывал он отправленному в Европу фельдмаршалу Репнину. И далее: «Хотя мы по сие время удалялися от непосредственного сношения с настоящим во Франции правлением… по оказании однако ж со стороны его желания восстановить с нами доброе согласие… постарайтесь завесть речь о мире».
Эти первые внешнеполитические установки Павла I испытали участь благих намерений, которыми, по утверждению Данте, вымощена дорога в ад. Прошло очень недолгое время, и они сменились совершенно противоположными. Формулируя вкратце причины, приведшие к резкой перемене политического курса, можно указать на следующие: 1. При занятии Ионических островов в 1797 году французы арестовали русского консула, что повлекло немедленный приказ не умевшего сдерживаться Павла о прекращении сношений с Францией впредь до освобождения консула. 2. Франция поддерживала поляков, содействовала Домбровскому в формировании на ее территории польских легионов и явно подогревала надежды на восстановление независимого польского государства. Это страшно волновало Павла. В посланном весною 1798 года Репнину императорском рескрипте имелись такие строчки: «Французы, примирясь с державами, которых вдруг вовсе истребить или опровергнуть были не в состоянии, разрывают с ними дружбу как скоро предвидят удобность успевать в своем плане, чтоб достигать всемерного владычества посредством заразы и утверждения правил безбожных и порядку гражданскому противных». 3. По пути в Египет Бонапарт захватил, нуждаясь в морской станции, остров Мальту, владение так называемого Мальтийского ордена. Образовавшийся во времена крестовых походов с целью защиты христианства от мусульман, орден этот комплектовался исключительно из древнего католического дворянства и был средоточием реакционных сил. В числе покровителей ордена числился и Павел, повелевший отпускать ежегодно мальтийским рыцарям крупные денежные суммы. Когда Мальта сдалась без сопротивления французам, проживавшие в Петербурге члены этого ордена сместили великого магистра и торжественно предложили сей титул Павлу, охотно принявшему их предложение и обещавшему ордену свою защиту.
Таковы были ближайшие причины, вызывавшие негодование Павла против французов. Но и Россия, со своей стороны, давала серьезные поводы к неудовольствию Франции. 1. Не находивший нигде пристанища претендент на французский трон Людовик XVIII был приглашен Павлом в Россию. Ему и его семье был предоставлен замок в Митаве с установлением годового содержания в 200 тысяч рублей. 2. Павел предоставил приют семитысячному корпусу французских эмигрантов, сражавшихся под начальством принца Конде в рядах австрийской армии. После того, как Австрия заключила в Кампо-Формио мир с Францией, этот корпус перешел русскую границу и был расквартирован на Волыни и в Подолни на полном иждивении русского правительства. 3. В апреле 1798 года было объявлено о запрещении французам в’езжать в Россию, а вслед затем о конфискации находившихся в России французских товаров и кораблей.
Перечисленные факторы, крайне обострившие отношения между обеими странами, искусно использовала Англия. Плетя сложную сеть интриг, разжигая неприязнь русского кабинета, в частности, самого императора к установленному французской революцией новому социальному строю, английское правительство сумело втянуть Россию в составившуюся коалицию (Англия, Австрия, Турция, Неаполь). Каждый член этой коалиции имел в предстоявшей войне осязаемые материальные интересы. Одна Россия втягивалась в тяжкую борьбу без всяких реальных оснований, – если не считать тяжеловесную реакционность правительства, считавшего одной из своих основных задач искоренение «заразы», распространяемой французской буржуазной революцией. В договоре с Англией участие России было прямо объяснено стремлением «действительнейшими мерами положить предел успехам французского оружия и распространению правил анархических; принудить Францию войти в прежние границы и тем восстановить в Европе прочный мир и политическое равновесие». Во имя этой «бескорыстной» цели должна была пролиться кровь многих тысяч русских солдат.
Русский флот отплыл в Средиземное море и занял Ионические острова. Одновременно было приказано снарядить двадцатитысячный корпус под начальством шестидесятилетнего генерала Розенберга и двинуть его в Вену для присоединения к австрийской армии.
Тут возникло непредвиденное замешательство, в котором опытный глаз мог бы увидеть предвозвестие грядущих конфликтов между союзниками. Австрийцы обязались продовольствовать русские войска по своим нормам. Розенберг нашел, что эти нормы меньше русских – не три фунта хлеба в день, а только два. Австрийцы отказались увеличить снабжение; в ответ на это Павел предписал распустить вспомогательный корпус. Венский двор поторопился обещать к двухфунтовому рациону еще фунт муки – и таким путем было достигнуто соглашение.
Тогда на очередь встал новый вопрос: кого назначить главнокомандующим? Намечали принца Оранского, но он скоропостижно скончался; остальные кандидаты были известны понесенными ими от французов поражениями. Тогда глава английского правительства, Питт, представлявший собою мозг коалиции, выдвинул кандидатуру Суворова. После длительных колебаний австрийцы поддержали это предложение и обратились к Павлу, прося послать полководца, «коего мужество и подвиги служили бы ручательством в успехе великого дела».
В первую минуту император даже был польщен.
– Вот каковы русские – всегда пригождаются, – воскликнул он и тотчас отправил в Кончанское генерала Толбухина с рескриптом. Тревожась, как бы упорный старик не отказался, Павел приложил к официальному рескрипту частное письмо. «Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. Виноватого бог простит. Римский император требует вас в начальники своей армии и вручает вам судьбу Австрии и Италии. Мое дело на сие согласиться, а ваше спасти их. Поспешите приездом сюда и не отнимайте у славы вашей времени, а у меня удовольствия вас видеть».
Беспокойство Павла было напрасным. Что значили для Суворова перенесенные обиды, когда перед ним открывалась манящая возможность снова стать но главе «чудо-богатырей» и сразиться с сильнейшей армией в свете! Уже давно он говорил:
– Я почитаю божеским наказанием, что до сей поры ни разу не встретился с Бонапартом.
И вот – в перспективе встреча с ближайшими соратниками Бонапарта, а то и с ним самим.
Тоска, болезни, обиды – все было забыто. На другой же день он выехал в Петербург. Любопытная деталь: у главнокомандующего союзными силами не оказалось денег на дорогу и пришлось занять 250 рублей у старосты Фомки. Теперь поясница не мешала быстрой езде; через несколько дней он был в столице.
Известие об этом вызвало живейшую радость в войсках, и не только в войсках; толпы народа бегали за каретой Суворова. Его былая слава засияла еще ярче от окружившего ее после Кончанского ореола. Павел держал себя с полководцем весьма предупредительно: он тотчас восстановил его в фельдмаршальском чине, наградил орденом и всячески подчеркивал свое благоволение. Придворная челядь устремилась к Суворову. В несколько дней он перешел от опалы к небывалому почету. Такие метаморфозы являются пробным камнем для человека, и надо констатировать, это испытание Суворов выдержал блестяще. Он ни в чем не изменил себе; подобострастие придворных отскакивало от него; голова его осталась холодной, а сердце не очерствело.
В суматохе военных приготовлений, в чаду лести фельдмаршал получил полуграмотное письмо от некоей старушки Синицыной; ее сын, офицер, был сослан Павлом «навечно» в Сибирь. Не найдя нигде защиты, Синицына обратилась к Суворову. Он немедленно отозвался:
«Милостивая государыня!
Я молиться богу буду, молись и ты – и оба молиться будем мы. С почтением пребуду ваш покорный слуга». На языке Суворова это означало, что он постарается спасти офицера. При первом удобном случае он ходатайствовал перед Павлом за человека, которого никогда не видел в глаза, и добился полного прощения его.
Для тех, кто не понимал глубокого смысла суворовских «чудачеств», его поведение в этот приезд представлялось необ’яснимым: он не терял больше шляпы, не цеплялся шпагой за дверцы кареты, не заболевал во время разводов. Но все это было вполне естественно: теперь не было уже нужды в его протесте, а раздражать попусту императора он вовсе не собирался. Однако он ни в чем не уклонился от прежних позиций. Капитулировать пришлось Павлу, который заявил Суворову:
– Веди войну по-своему, как умеешь.
В устах деспотического императора это были необычайные слова; надо полагать, они дались ему с немалым трудом, и, быть может, память о них послужила через год одной из причин новой опалы полководца.
Однако, давая на словах Суворову «полную мочь», Павел в то же время готовил для него путы. Генералу Герману было доверительно сообщено императором: «Венский двор просил меня начальство над союзными войсками вверить графу Суворову. Предваряю вас, что вы должны будете во все время его командования иметь наблюдение за его предприятиями, которые могли бы повести ко вреду войск и общего дела, когда будет он слишком увлекаться своим воображением, заставляющим его иногда забывать все на свете».
Генералу Герману надлежало стать «ментором пылкого Телемака». К счастью, «ментора» вскоре перевели в Голландию, где он, командуя отборными полками (в том числе суворовскими фанагорийцами), потерпел целый ряд сокрушительных поражений от французов.
Суворов покинул Петербург в конце февраля. По пути в Вену он представлялся Людовику XVIII. Дело не обошлось без странностей: фельдмаршал отправился на гауптвахту, подсел там к караулу и пообедал с ним, затем поехал к королю-претенденту и начал с того, что поцеловал полу его платья. Людовик впоследствии отзывался о Суворове как о великом военном гении, но наряду с этим рассказывал про его «причуды, похожие на выходки умопомешательства, если бы не исходили из расчетов ума тонкого и дальновидного»; этот отзыв делает честь проницательности Людовика. Что до Суворова, то он, конечно, оценил по достоинству никчемность претендента, которого он должен был своим мечом водворить на трон в ненавидевшей его стране. Но он уже привык не задумываться над истинным смыслом и последствиями своих кампаний. Он добывал победу и в этом видел награду себе и славу родине. А в остальном он мог повторить: «Я только военный человек и иных дарований чужд».
14 марта он прибыл в Вену. Начиналась итальянская кампания…