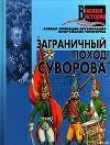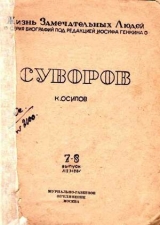
Текст книги "Суворов (1-е изд.)"
Автор книги: Кирилл Осипов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Суворов выехал на юг, исполненный больших надежд. Всякая перемена была для него желанна, тем более, что военные приготовления Турции сулили в перспективе боевую службу. Однако едва он прибыл в Херсон, возобновились неприятности.
Приступив к возведению крепостных построек, Суворов заключил контракты с поставщиками и, не располагая денежными суммами для задатков, выдал векселя. Когда векселя были пред’явлены в Петepбypгe к оплате, министерство финансов запротестовало: денег в казне мало, а тут с юга льется дождь счетов и векселей, выданных не в меру усердным командующим. Суворову было раз’яснено, что политическое положение не требует спешности в работах и что нужно быть поэкономнее. Он тотчас вскипел; его теперешние обязанности были ему так же мало по душе, как финляндские, но он хотел исполнять их добросовестно. «Политическое положение извольте спросить у вице-канцлера, а я его постигаю, как полевой офицер… Пропал бы год, если бы я чуть здесь медлил контрактами, без коих по состоянию страны обойтись не можно». Этот желчный тон возымел, как обычно, плохие результаты. Особым рескриптом ему повелевалось заключать контракты только через казенную палату, а ранее заключенные об’являлись расторгнутыми.
У Суворова опустились руки. «Боже мой, в каких я подлостях; и кн. Григорий Александрович никогда так меня не унижал». Вдобавок, ему приходилось возместить подрядчикам уже произведенные ими расходы на сумму около 100 тысяч рублей. Он распорядился продать его имения, но тут уже Екатерина сочла, что дело зашло чересчур далеко, и приказала отпустить из казны требовавшуюся сумму.
После всего этого Суворов стал относиться к своей работе с отвращением. Ничего, кроме новых злоключений, не ждал он от нее. Переписка его полна выражений неудовольствия: «Бога ради, избавьте меня от крепостей, лучше бы я грамоте не знал», «Малые мои таланты зарыты», «Известны мне многие придворные изгибы, коими ловят сома в вершу. Но и там его благовидностями услаждают, а меня обратили в подрядчика» и т. п.
Даже военное обучение солдат велось им теперь вяло, без вкуса. Что же! Он «выэкзерцирует», а другие с этими солдатами будут одерживать победы.
По отзыву окружающих, Суворов никогда не был так сварлив и желчен, как в это время. Его обычная неуживчивость перешла в деспотизм и озлобление. Полковник Курис писал о нем: «Старик наш не перестает свирепствовать, мочи нет… Дай бог, чтобы снести все». Правда, Суворов сознавал свой недостаток и часто винился в нем, прося прощения у несправедливо обиженных. Но через минуту все начиналось сначала. Он представлял собою живой комок нервов, и даже его железная воля оказывалась тут бессильной. Бывали, впрочем, проблески: иногда он устраивал катанья с гор, прогулки, танцы, причем сам плясал по три часа кряду. Но это было кратковременно и снова сменялось угрюмой раздражительностью.
– Я буду говорить всегда, – промолвил он однажды, – кто хорош на первой роли, никуда не годен на второй.
Летом 1793 года он послал государыне просьбу уволить его волонтером к союзным армиям, сражавшимся против Франции; там он видел желанный простор для боевой работы, там было с кем померяться силами. Слухи об успехах французских армий волновали его, напрягли, по его выражению, все его военные жилы. К тому же, французская революция представлялась ему, подобно большинству его современников, таким явлением, против которого необходимо решительно бороться. Иллюстрацией его отношения к революции служит отправленное им около этого времени письмо предводителю контрреволюционного восстания в Вандее, Шарету: «Знаменитый вандейский герой! Перст бога мстителя начертал на горах погибель врагов; они падут и рассеются, как листья, отторженные ветром северным… И вы, бессмертные вандейцы, верные блюстители чести Франции…» и т. д.
Ходатайство его, конечно, не увенчалось успехом. Но он не оставлял мысли о волонтерстве, чтобы «там какою чесною смертью свой стыд закрыть». В ноябре того же 1793 года он пишет Хвостову: «Подвижность моя за границу та же и коли препона, то одна Наташа» (его дочь)[25]25
Рукописный Суворовский сборник, т. IX.
[Закрыть].

Факсимиле письма Екатерины Суворову: отказ в его пресьбе отпустить волонтером в иностранные войска.
Через год он повторил свою просьбу: «Всеподданнейше прошу всемилостивейше уволить меня волонтером к союзным войскам, как я много лет без практики по моему званию». В этом прошении таился глухой протест против того, что его не используют в начавшейся борьбе с поляками. Екатерина снова отказала, подав, однако, надежду на скорую «военную практику». Он не поверил, но в этот раз обещания сбылись.
Снова в Польше
Первый раздел Польши, состоявшийся в 1773 году, явился для нее грозным предостережением. Польские паны и шляхта, исполненные пустого высокомерия и тратившие силы на склоки между собою, начали лихорадочно искать путей к сохранению государства. Началась полоса реформ – создание сети учебных заведений, реорганизация армии некоторое облегчение участи крестьян. В 1788 году, когда у самого опасного соседа Польши – России – руки оказались связанными турецкой войной, польский сейм приступил к выработке новой конституции, отражавшей социальные и политические сдвиги в стране. Четыре года не прерывал сейм своей деятельности; в конце 1791 года была принята новая конституция. Горожане получили представительство в польском сейме; одновременно был установлен наследственный принцип престолонаследия. Реформы расширяли социальную базу высшего законодательного органа страны и устраняли междоусобные споры, возникавшие всякий раз при выборах нового короля. Однако основная слабость общественного строя Польши не была изжита; освобождения крестьян не последовало, социальные отношения не подверглись радикальным изменениям. В среде польских магнатов возникла резкая оппозиция даже к тем реформам, которые были проведены; а между тем для сохранения целостности Польши нужны были не робкие паллиативы, а широкая система социально-экономических мероприятий, которые позволили бы правительству опереться на крестьянство.
Новая конституция и вся серия мероприятий, направленных к укреплению национальной независимости, явно вели к ослаблению влияния России, все более откровенно распоряжавшейся в Польше. Кроме того, все резче сказывалось воздействие французской революции, пробуждавшей к активности и Польшу. Все это вызвало неудовольствие и даже тревогу Екатерины.
Тяжелая война с Турцией не была популярна в России. Крестьянство, обессиленное после подавления Пугачевского восстания, глухо бурлило. Дворяне хранили еще в памяти картины восстания и не чувствовали особой прочности в наступившем успокоении. Екатерине нужно было отвлечь умы, а для этого лучшим средством была агрессивная внешняя политика, сулившая возможность земельных приобретений и блестящих военных успехов. Писатель Аксаков вспоминает, что в его семье об Екатерине судили по одному признаку – при ней русские солдаты всех побеждали.
Где же было найти более легкие победы, более обильную добычу, чем в Польше! К этим чисто личным соображениям Екатерины присоединялась общая тенденция тогдашнего русского правительства: всячески раздвигать границы государства, захватывать новые земли, новые поместья для дворян, новые источники дохода для казны. В отношении Польши эта тенденция получала, вдобавок, историческое оправдание: когда-то польские и литовские короли отторгли от Руси коренные ее области (например, Киевскую), и возврат этих областей был предметом желаний многих русских государственных деятелей.
Как только окончилась вторая турецкая война, Екатерина двинула в Польшу русские корпуса. Поляки пытались сопротивляться, но, разбитые под Зеленцами и под Дубенками, вынуждены были капитулировать. Русские войска снова заняли Варшаву, обеспечив восстановление русского приоритета во всех польских делах.
Но с этим не могла примириться Пруссия. Верная своему правилу – таскать из огня каштаны чужими руками, она предложила новый раздел Польши. Дело было быстро слажено. На «немом заседании» сейма в 1793 году безмолвствовавшими депутатами было «утверждено» новое отторжение польских земель: Пруссия получила Торн, Гданск, в общем свыше тысячи квадратных миль с полуторамиллионным населением; Россия свои коренные области – Киевскую, Минскую, Волынскую губернии, 4 тысячи квадратных миль с тремя миллионами населения. Вместе с тем было решено уменьшить численность польской армии с 55 до 15 тысяч человек и для поддержания порядка разместить в Польше и Литве 18 тысяч русских солдат.
Второй раздел Польши не прошел так гладко, как первый. Как бы малы ни были реформы истекших двадцати лет, они не прошли даром. В среде польской шляхты укрепились национальные настроения. Рассчитывать на другие государства не приходилось: революционная Франция яростно сражалась со сворой реакционных государств и, в первую очередь, с Австрией; цену прусской дружбы поляки слишком хорошо изведали. Надо было действовать самим. Началась организация восстания. Во главе ее стали бывший президент сейма Малаховский, племянник короля Иосиф Понятовский, Домбровский, Игнатий Потоцкий. Военное руководство отдали незнатному шляхтичу Тадеушу Косцюшке. Человек выдающихся военных дарований и большой отваги, Косцюшко дрался прежде в армии Вашингтона, а затем отличился в битвах с русскими в 1792 году. Перед своими предшественниками Пулавскими он имел то преимущество, что правильно расценивал роль социального момента. Понимая необходимость концентрации всех народных сил, он выпустил воззвание к крестьянам с призывом о помощи и с заявлением, что «личность каждого крестьянина свободна и он имеет право переселяться, куда захочет, если только сообщит комиссии своего воеводства, куда переселяется, и уплатит свои долги и налоги».
Польские крестьяне, изнемогавшие под панским ярмом, хлынули к Косцюшке. Он умело организовывал их, изобрел новое вооружение пехоте, устроил сильную конницу и многочисленную артиллерию. Уже не разрозненные отряды времен Барской конфедерации, а как бы выросшая из-под земли первоклассная армия выступила против войск России и Пруссии. Восстание разразилось в начале 1794 года. Размещенный в Варшаве русский отряд был захвачен врасплох и вырезан, причем погибло до 4 тысяч русских. Тотчас же 60 тысяч русских солдат под начальством Репнина и вызванного из отставки Румянцева были двинуты в Польшу. К ним присоединились 35 тысяч пруссаков.
Косцюшко выставил около 90 тысяч человек правильно организованного войска, не считая пятидесятитысячного крестьянского ополчения. Первый период кампании не дал успеха ни одной из сторон. Несмотря на все преимущества регулярных армий, Россия и Пруссия не могли справиться с поляками, сражавшимися за свою национальную независимость и социальную свободу. «Война ничего не значущая становится хитрою и предерзкою», – писал один из начальников русской армии, Салтыков. Приближалась осень; казалось, предстояло зимнее затишье, во время которого поляки успели бы укрепиться и усилить свои войска. Тогда Румянцев обратился к Суворову.
Весть о назначении Румянцева главнокомандующим Суворов воспринял с большой радостью. Боль от свежих ран заставляла его забыть старые распри. Он тотчас обратился к новому начальнику: «Вступая паки под высокое предводительство вашего сиятельства, поручаю себя продлению вашей древней милости».
Однако в первое время Румянцев не вызывал Суворова, если не считать незначительного поручения обезоружить волновавшиеся польские части, включенные в 1793 году в состав русской армии. Ему было известно, что в Петербурге к Суворову относятся неприязненно, что Екатерина находится еще под влиянием потемкинских отзывов о нем. Но вместе с тем он лучше, чем кто-нибудь другой, понимал, какую мощную силу представляет собою этот капризный, непоседливый старичок. Решив любой ценой добиться успеха в Польше, Румянцев по собственной инициативе, без сношений с кабинетом, послал в августе Суворову предписание выступить на театр военных действий.
Для Суворова польская кампания не была с военной точки зрения особенно соблазнительна. Он знал, что, несмотря на достижения Косцюшки, силы поляков были не очень велики; это были не французы, даже не турки. Но, в конце концов, он пришел к убеждению, что «не сули журавля в поле, дан синицу в руки», причем «журавлем» была война с Турцией, а «синицей» – война с Польшей.
Задумывался ли Суворов над значением этой войны? От него не мог укрыться ее захватнический характер, но это была единственная возможность обнажить свой, начинавший ржаветь, меч. «Увы, мой патриотизм. – писал он де Рибасу, – я не могу его высказать! Интриганы отняли у меня к этому все средства».
На первых порах Румянцев указал Суворову незначительную и чисто демонстративную задачу: напасть на поляков в Брестском направлении, чтобы облегчить ведение операций на главном театре. Военные круги Петербурга, вынужденные санкционировать привлечение Суворова, еще больше сузили эту задачу. Но вряд ли кто-нибудь сомневался в том, что Суворов разобьет эти рамки.
– Он ни в чем общему порядку не следует, – заявил Салтыков Репнину, – приучил всех так думать о себе, ему то и терпят.
Сам Суворов меньше всего был склонен ограничиться предложенной ему третьестепенной ролью. Он выехал с твердым намерением расширить пределы своих операций, привлечь к себе другие, более крупные отряды, словом, начать снова почти уже законченную кампанию и потянуть за собой к Варшаве все ближайшие силы русской армии.
14 августа Суворов во главе пятитысячного отряда выступил в Польшу. Он вел войска с обычной стремительностью – по 25–30 верст в каждый переход. Это в три раза превосходило нормы XVIII столетия. Кто-то назвал его движение форсированным маршем. Суворов пришел в негодование:
– У меня нет медленных и быстрых маршей. Вперед! И орлы полетели!
Еще когда он издали следил за развертывающейся в Польше борьбою, он словно невзначай обронил, что он бы там «в сорок дней кончил». Теперь он будто хотел осуществить это заявление. Войскам было приказано не брать зимнего платья, кроме плащей; сам он оделся в белый китель.
Не все солдаты могли выдержать стремительность похода. Многие выходили из рядов и валились в изнеможении на землю; таких подбирали следовавшие в арьергарде повозки. Суворов всячески ободрял войска; он беспрестанно об’езжал части, беседовал с солдатами, давал им ласковые клички – Орел, Сокол, Огонь, заставлял заучивать свой катехизис – «Науку побеждать». Случалось, что он проезжал мимо какой-либо части не останавливаясь; это служило признаком неудовольствия и страшно волновало всех солдат и офицеров.
3 сентября у местечка Дивин произошло первое столкновение с поляками; русские войска уничтожили здесь триста польских всадников. Через три дня при монастыре Крупчицы был разбит авангард шестнадцатитысячного польского корпуса Сераковского, а 8 сентября подверглись разгрому главные силы этого корпуса и был занят Брест.
Поставленная перед Суворовым задача была тем самым блестяще выполнена. Дальнейшие действия ему приходилось предпринимать в порядке «личной инициативы», и это создало немало затруднений.
Отряд Суворова возрос к этому времени до 10–12 тысяч человек. Командуя в турецкую войну гораздо более крупными силами, Суворов никогда не устраивал себе обстановки главнокомандующего; но теперь он назвал себя главнокомандующим, завел дежурного генерала, назначил начальником отряда генерала П. Потемкина, а командирами отдельных родов оружия Буксгевдена, Исленьева и Шевича – словом, всячески желал подчеркнуть свое независимое положение. Однако соседние генералы не признавали его. Когда он захотел усилиться некоторыми частями, чтобы начать немедленный поход на Варшаву, ему никто не подчинился впредь до получения согласия от Репнина. Пришлось отложить поход. «Брест и Канны подобие имеют, – написал Суворов: – время упущено».
Но тут у него явился неожиданный союзник: в Петербурге прослышали про успешные действия Суворова и, хотя с неохотою, повелели Репнину, Дерфельдену и Ферзену «подкреплять и всевещно содействовать» ему. Расчет был прост: если сумеет разбить поляков – отлично, не сумеет – с него все спросится.
Тем временем поляков постигла новая большая неудача: в бою под Мацейовицами 29 сентября войска Ферзена нанесли им поражение, Косцюшко был ранен и взят в плен.
– Finis Poloniae![26]26
Конец Польше!
[Закрыть]– воскликнул он, падая под ударом пики.
Успех Мацейовицкого сражения обеспечивал левый фланг Суворова, прикрыть который он ранее не мог ввиду недостатка сил. Теперь ничто не задерживало его. 7 октября он выступил к Варшаве, предписав именем императрицы Ферзену и Дерфельдену двигаться туда же. Но, опасаясь «томности действий» Дерфельдена, он направился кружным путем, чтобы облегчить Дерфельдену присоединение.
Подходя к важному стратегическому пункту, Кобылке, он встретил упорное сопротивление поляков. Бой велся в густом лесу. Не дожидаясь, пока подтянется пехота, Суворов лично повел в атаку кавалерию; когда кони не смогли долее пробиваться сквозь заросли кустов и деревьев, он велел кавалеристам спешиться и ударить в палаши. Эта необыкновенная атака пеших кавалеристов – «чего и я никогда не видел», писал Суворов впоследствии – увенчалась полным успехом.
Через несколько дней после Кобылки к войскам Суворова подошли части Дерфельдена. Общие силы «самовольно» организованной армии доходили теперь до 30 тысяч человек (в том числе 12 тысяч конницы). С этими силами предстояло взять последнее препятствие на пути к Варшаве – укрепленное предместье ее, Прагу.
Два параллельных бруствера в 14 футов вышиной и два глубоких рва окружали Прагу. Перед укреплениями шли засеки и тройной ряд волчьих ям. При умелой защите, это была почти неприступная крепость. Но этой-то защиты и не было. В Варшаве царило смятение, борьба партий, еще более – борьба самолюбий. Преемник Косцюшки, Вавржецкий, оказался бездарным и безвольным командующим. Собранные в Праге 20 тысяч поляков, введенные в заблуждение предпринятыми по приказанию Суворова демонстративными приготовлениями к осаде, пассивно наблюдали действия Суворова, ни в чем не препятствуя ему[27]27
Накануне штурма Вавржецкий отправил из Варшавы 11 тысяч человек на второстепенный участок войны.
[Закрыть]. У защитников Праги был энтузиазм, готовность умереть, но не было ни ясного плана действий, ни навыка в обороне крепостей.
Утром 24 октября, спустя пять дней после появления у стен Праги, русские войска двинулись на штурм.
Диспозиция этого штурма может соперничать по стройности и глубине замысла с измаильской; во многих отношениях обе диспозиции сходны. Наступление велось семью колоннами. Четыре из них направлялись на северную часть Праги; они начинали атаку первыми, чтобы оттянуть сюда войска с других фронтов. Через полчаса после них начиналась атака восточной и южной сторон. Порядок движения войск был тот же, что под Измаилом: впереди – егеря, саперы и команды с шанцевым инструментом; за ними – штурмующие части, с особым резервом при каждой колонне.
В пять часов утра, по сигнальной ракете, двинулась первая волна. Поляки никак не ожидали нападения и сразу растерялись. Весь гарнизон устремился на северную сторону, но беспорядочность сопротивления и здесь не позволила им задержать нападающих, которые вели атаку с неукротимой энергией и храбростью. Перебираясь по наложенным лестницам через три и даже шесть рядов волчьих ям, русские взбирались на парапет и безостановочно продвигались в глубь Праги. Фанагорийский полк пробился к мосту через Вислу, отрезав таким образом отступление на Варшаву. Опасаясь, что штурмующие перейдут в столицу Польши, Вавржецкий стал организовывать оборону моста. Тщетно! Орудия стояли без запальных трубок, канониры попрятались от залетавших из Праги пуль. В 9 часов утра русские войска со всех сторон ворвались в Прагу. Начались уличные бои. Толпы солдат устремились к мосту. Собравшаяся на Варшавском берегу кучка поляков, обстреливавшая мост, не могла и думать, чтобы удержать этот поток. Дамоклов меч военного разгрома навис над беззащитной Варшавой. Но в этот момент по чьему-то приказанию мост запылал с Пражской стороны. Сообщение было прервано; Варшава была спасена от разгрома.
Приказание о разрушении моста было отдано Суворовым. В день штурма он чувствовал себя больным, «еле таскал ноги». Поэтому он не участвовал в бою, а наблюдал за ним с холма, в версте от передней линии польских укреплений. По донесениям командиров он мог судить, что поляки нигде не выдерживают натиска, что русские войска сражаются с особенной энергией, но вместе с тем и с особенным ожесточением. Когда штурмующие ворвались в тесные улицы города, из многих домов в них полетели камни, даже женщины швыряли в окна тяжести или стреляли, вымещая за гибель своих мужей и братьев. Солдаты пришли в ярость. В пылу битвы они не разбирали, где враг, где мирный обыватель. В каждом доме они видели таившуюся для себя опасность, удар в спину – и убивали всех, кто попадался им на глаза. «Страшное было кровопролитие, – доносил Суворов, – каждый шаг на улицах покрыт был побитыми; все площади были устланы телами, а последнее и самое страшное истребление было на берегу Вислы, в виду варшавского народа».
В Праге начался пожар, быстро охвативший половину города. Грохот обрушивающихся зданий, бой барабанов, ружейная трескотня, крики и стоны сражающихся – все смешалось в диком хаосе звуков. Солдаты не повиновались более офицерам, пытавшимся остановить избиение. Всю эту картину живо представил себе по донесениям Суворов; для него было ясно, что если разоренные солдаты сейчас ворвутся в Варшаву, там разыграются те же страшные сцены. Поэтому он прибег к самому радикальному средству, которое не сумели осуществить растерявшиеся поляки, – приказал разрушить часть моста.
…В Варшаве царил ужас. Огромные толпы стояли в мертвом молчании на берегу, в бессилии наблюдая гибель своих пражских собратьев. Магистрат спешно отправлял в русский лагерь депутатов для переговоров о сдаче города. Никто не помышлял о сопротивлении.
Король Станислав Август прислал Суворову письмо: «Господин генерал и главнокомандующий войсками императрицы всероссийской! Магистрат города Варшавы просил моего посредства между ним и вами, дабы узнать намерения ваши в рассуждении сей столицы. Я должен уведомить вас, что все жители готовы защищаться до последней капли крови, если вы не обнадежите их в рассуждении и жизни и имущества. Я ожидаю вашего ответа и молю бога, чтобы он принял вас в святое свое покровительство».
Тревога поляков была напрасна. Суворов достиг своей цели – менее чем в полтора месяца он решил кампанию. В отличие от Измаильского штурма, Пражский означал конец войны – моральные и материальные силы Польши были сломлены. Теперь Суворов, верный своему обыкновению, полагал самым разумным вести успокоительную, умеренную политику. Он не желал ни новых жертв, ни контрибуций, ни унижения противника.
Продиктованные им тотчас же условия капитуляции сводились к немедленной сдаче поляками всего оружия и к исправлению моста, по которому русские войска вступят в город. Со своей стороны, он именем императрицы гарантировал полную амнистию всем сдавшимся, неприкосновенность жизни и имущества обывателей и воздание почестей королю. Депутаты были так поражены этими условиями, что многие из них заплакали от радости. Их удивление и волнение еще более усилились, когда Суворов лично вышел к ним и, заметив их нерешительность, бросил на землю саблю и со словами «Покой! Покой!»[28]28
Мир! Мир!
[Закрыть] пошел к ним навстречу.
Варшавяне выразили свою признательность Суворову, преподнеся ему через месяц золотую эмалированную табакерку с надписью: «Варшава своему избавителю».
Десять тысяч трупов были свезены для погребения за черту города. Из взятых в плен 11 тысяч человек больше половины было отпущено по домам. Потери русских достигали двух тысяч.
В ночь после штурма пошел снег; к утру не осталось следов крови. На улицах и крепостных бастионах лежала одинаково чистая, искрящаяся на солнце белая пелена.
Пражский штурм был повсеместно признан с военной точки зрения образцовым. Но тем усиленнее стали говорить о большом количестве жертв его. Уже давно в Европе поносили Суворова как «полудикого мучителя побежденных». Теперь эти нападки возобновились с новой силой.
Вопрос о жестокости Суворова заслуживает того, чтобы на нем остановиться особо. Это – один из главных упреков, который обращали к Суворову во все времена. Даже почитатели его разделяли иногда это мнение. Любопытный штрих: в 1863 году, после подавления польского восстания, в Петербурге зародилась мысль устроить чествование Суворова как главного завоевателя Польши; к чествованию был привлечен внук полководца, князь А. А. Суворов. Однако он прислал отказ, мотивируя тем, что его дед совершил много славных деяний, но к числу их нельзя отнести кровавое покорение Польши. В ответ на это поэт Тютчев опубликовал наделавшее много шума стихотворение:
Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь.
Как извинить пред вами эту смелость?
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя народу своему.
Кто, избранный для всех крамол мишенью,
Стал и стоит, спокоен, невредим,
На зло врагам, их лжи и озлобленью.
На зло, увы! и пошлостям родным.
Самого Суворова очень беспокоили всегда обвинения в жестокости. В самом деле, при всех столкновениях с ним, даже самых незначительных, потери его противников бывали чрезвычайно велики. Особенно заметно это было в кампанию 1794 года. После битвы при Крупчицах Суворов писал де Рибасу: «Поле покрыто убитыми телами свыше 15 верст. По сему происшествию и я почти в невероятности». Он же сообщал, что после Бреста спаслось только 130 человек, после Кобылки – ни одного и т. д. В этих сообщениях много преувеличений; например, сами поляки определяли свой урон под Кобылкой в 1500 человек (из общего числа 3500). Но бесспорно, что урон среди его врагов был исключительно велик.
В отношении польской войны 1794 года существовало одно особое обстоятельство, обусловившее крупные потери поляков во всех сражениях и наиболее ярко проявившееся при взятии Праги: воспоминание о варшавской резне в начале восстания, когда несколько тысяч русских были зарублены во время сна.
Однако основная причина страшных потерь противников Суворова заключалась в другом, – в том, что его солдаты были воспитаны в духе исключительной энергии и решительности удара. Сражаясь обычно один против двух или против трех неприятелей, они компенсировали свою малочисленность яростью удара, делавшей несокрушимыми их атаки. Отличное знание техники штыкового боя и превосходство русской конницы усугубляли потери неприятеля.
Сам Суворов постоянно давал в приказах: «грех напрасно убивать», «обывателя не обижай» и т. д. Так было и под Прагой. В приказе о штурме имелся специальный пункт: «В дома не забегать; неприятеля, просящего пощады, щадить; безоружных не убивать; с бабами не воевать; малолетков не трогать». Весь приказ состоял из восьми пунктов, и все же в числе их Суворов поместил этот призыв к гуманности войск. И, тем не менее, важнее всего для него было сохранить сокрушительность атаки. В этой сокрушительности он видел, как это ни парадоксально на первый взгляд, подлинную гуманность. Суворову война представлялась злом, но злом неизбежным, из которого надо стремиться поскорее выйти. Лучшим средством для этого, кратчайшим путем к окончанию войны он считал сокрушительность удара.
– Тот, кто сражается со мной, становится мертвым, – заявил он однажды. – Оттого число врагов моих уменьшается: смертельный бой предотвращает много других, которые могли бы быть еще кровопролитнее.
Он часто выражал сожаление, что при взятии Праги было много жертв среди населения, но и этот злополучный штурм рассматривал с той же точки зрения: «Миролюбивые фельдмаршалы при начале польской кампании провели все время в заготовлении магазинов. Их план был сражаться три года с возмутившимся народом. Какое кровопролитие! Я пришел и победил! Одним ударом приобрел я мир и положил конец кровопролитию».
– Победа – враг воины, – часто говорил он. Этот взгляд Суворова совпадает с тем, который высказали впоследствии Маркс и Энгельс. В статье по поводу осады Севастополя говорится: «Поистине Наполеон Великий, этот убийца стольких миллионов людей, с его быстрым, решительным и сокрушительным способом ведения войны, был образцом гуманности, по сравнению с нерешительными, медлительными государственными мужами, руководящими этой русской войной»[29]29
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. X, стр. 38.
[Закрыть].
Ничто не возмущало Суворова больше, чем обвинение в жестокости.
– Только трусы жестокосердны, – говаривал он. Когда поляки выражали ему признательность за мягкое, справедливое управление, еще больше оттененное разгулом пруссаков и австрийцев в занятых ими областях, он ответил им стихами Ломоносова:
Великодушный лев злодея низвергает,
И хищный волк его лежащего терзает.
Суворов часто с гордостью говорил, что на своем веку не подписал ни одного смертного приговора. Исключительным было также его отношение к военнопленным, о которых он всегда заботился и часто освобождал под честное слово.
Все это свидетельствует о полной беспочвенности обвинений Суворова в сознательной жестокости. Однако война – сама по себе жестокая вещь. А в своих действиях Суворов, в первую очередь, руководился соображениями военной целесообразности.
Блистательная польская кампания заставила умолкнуть всех недругов полководца; в Петербурге снова вывели о нем «авантажное заключение».
Екатерина прислала ему заветный фельдмаршальский жезл, алмазный бант на шляпу и подарила из захваченных польских земель огромное имение «Кобринский ключ» с семью тысячами душ мужского пола. Прусский король прислал ордена Красного орла и Большого Черного орла; австрийский император – свой портрет, усыпанный бриллиантами. Суворов радовался, как ребенок. Когда прибыл фельдмаршальский жезл, он расставил несколько стульев и начал прыгать через них, приговаривая:
– Репнина обошел… Салтыкова обошел… Прозоровского обошел… – перечисляя генерал-аншефов, бывших старше его чинами, а теперь обязанных сноситься с ним рапортами. В то время в России было только два фельдмаршала: К. Г. Разумовский и Румянцев.
Впрочем скоро в бочке меда он ощутил обычную ложку дегтя – другие, чье участие в войне было ничтожным, оказались награжденными еще более щедро. Платон Зубов получил из польских земель владение в 13 тысяч душ.
– Щедро меня в Платоне Зубове наградили, – горько иронизировал Суворов.
И все-таки даже та награда, которую он получил, вызвала взрыв зависти среди царедворцев. В то время, как широкие слои населения приветствовали производство Суворова в фельдмаршалы, многие генералы открыто выражали свое недовольство, а князь Долгоруков и граф И. П. Салтыков даже просили увольнения от службы.