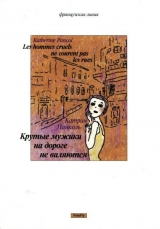
Текст книги "Крутые мужики на дороге не валяются"
Автор книги: Катрин Панколь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
~~~
– Покатай меня на своем мотоцикле, как Маризу, и я сделаю для тебя все, что попросишь…
В деревушке Ля Фрескьер все девочки мечтают прокатиться на мотоцикле Жерара. Погода стоит жаркая. На главной площади тонкой струйкой бьет фонтан, отбиваясь от легкого ветерка. Дедушка и бабушка, тети и дяди, кузены и кузины, мама и маленький братик в этот послеобеденный час мирно спят. Девочка сидит на скамейке у гаража, ждет, когда Жерар вернется из Барсело. Он уехал туда утром, сказал, что у него проблемы со сцеплением.
Солнце бьет прямо в глаза. Сверкает руль мотоцикла, и топливный бак, и сальная прядь на лбу у Жерара. Он хохочет.
– Хочешь, я пойду к тебе в комнату?
Она подходит к парню вплотную, налегает животом на холодный руль и, многозначительно глядя ему в глаза, ждет ответа. В кино роковые женщины поступают именно так.
Жерар перестает смеяться. Он смотрит на девочку, опускает глаза, спрашивает:
– Тебе лет-то сколько?
– Двенадцать. Скоро тринадцать. Осталось четыре месяца…
Жерар окидывает ее презрительным взглядом, снова хохочет:
– Малолетки меня не волнуют!
Он жмет на педаль, мотор трещит.
– Приходи, когда подрастешь!
В воскресенье будут танцы. В гараже. Он еще пожалеет.
Настает воскресенье. Жерар танцует с Маризой. Девочка прижимается к юноше в розовой рубашке. Он помощник мясника, приехал из Марселя, на танцы. Она не видит его лица. Он обнимает ее мускулистыми руками, давит на нее крепким животом, волосы на груди щекочут ей нос.
– Пойдем в амбар? – шепчет он.
Они падают на кучу сена. Юноша говорит, что его зовут Люсьен. Спрашивает, как зовут девочку. Та не отвечает. Расстегивает рубашечку. Ей не страшно. Юноша снимает с нее рубашечку, смотрит. Потом вдруг отворачивается и приказывает ей одеться. Она не понимает, в чем дело. Хватает его за плечо. Он вырывается, вскакивает на ноги, отряхивается. Она, полуголая, бежит к нему, прижимается. Он резко отталкивает ее от себя. Она падает на землю, вскрикивает от боли. Трет ушибленные локти, коленки.
– Ты что, больной?
– Сама ты больная! Тебе лет сколько? Хочешь, чтоб меня посадили? Пойдем, вернемся на танцы.
По возвращении в гараж он, ни слова не говоря, оставляет ее одну. Девочка сидит на стуле, рядом с нею – кузины, кузены и маленький братик. Они не танцуют. Девочка их ненавидит. Им только бы играться: стрелялки, горелки, бирюльки… Она обмахивается платком, ерзает на стуле.
– Скукотища! Я иду домой!
В один прекрасный день она вырастет. Тогда посмотрим!
И вот ей исполняется шестнадцать.
Старший из двоюродных братьев – велосипедист. Будет участвовать в местных гонках. Он тренируется на пару с приятелем по имени Андре. Мальчики вместе гоняют по извилистым горным тропам, смазывают педали, обсуждают сцепления и передачи. В один прекрасный летний вечер они вместе приезжают в Ля Фрескьер. Идет дождь. На них – ветровки с капюшонами. Капли дождя скатываются по лицам. Они устали, проголодались и мечтают о двух вещах – о тарелке горячего супа и теплой постели.
Бабушка пододвигает супницу, просит девочку наполнить тарелки.
Она наливает мальчикам суп. Смотрит на Андре и густо краснеет. Щеки пылают. Они не говорят друг другу ни слова. Он обращается к другим, но не спускает с нее глаз. Ради него девочка готова умереть. Она сидит, опустив глаза. Он ловит каждый ее взгляд. Оба молчат. Она краснеет. Он высокий, красивый. У него блестящие черные глаза, румяные щеки, мокрые волосы.
Двоюродный брат говорит, что им пора ложиться, завтра в шесть тренировка. Им предстоит новый перевал.
На следующее утро она просыпается в шесть часов, приоткрывает ставни и в щелочку смотрит, как они отъезжают. Андре сидит на велосипеде, оборачивается, ищет взглядом девочку. Она отходит в глубину комнаты, чтобы он ее не заметил.
Целый год они пишут друг другу письма.
Безумные письма. Он хочет на ней жениться. Она целует каждое письмо и прячет под свитером. Не ходит на танцы. Другие мальчики вызывают у нее отвращение. Она чистит зубы всякий раз, когда кто-то из них пытается ее обнять или, боже упаси, поцеловать.
И ждет его.
Она спит, скрестив руки на груди, чтобы душа во сне не улетела к другому. Ради нее он готов на все. Будет работать не покладая рук, блестяще сдаст выпускной экзамен, поступит в лучший институт, будет строить заводы, мосты и плотины и называть их своим именем. Ее именем.
Еще, еще, продолжай же, отвечает она.
Он будет лучшим выпускником года. Его примут в Политехническую школу [30]30
Престижное высшее учебное заведение в Париже.
[Закрыть]. Там он тоже будет лучшим. И вот настанет выпускной бал в Опере. Они будут вальсировать вместе. Он и она. Муж и жена. Навсегда.
Она целует письмо.
Навсегда.
Пока смерть не разлучит их.
Лежа под одеялом, она ждет.
Скрестив руки на груди.
Завтра Андре преодолеет Варский перевал.
Уже завтра он прибудет в Ля Фрескьер. Она прижмется к нему, и они никогда не расстанутся. Она последует за ним повсюду, безмятежная, спокойная.
Девочка лежит на кровати растревоженная, взволнованная. Вскакивает, смотрит в зеркало, желая удостовериться в собственной красоте, проверить, все ли на месте, все ли готово к его приезду. Снова ныряет под одеяло, складывает руки на груди, в последний раз запирая свою душу. Солнце пробивается сквозь ставни. Он скоро приедет. Она засыпает, счастливая.
Он ставит велосипед и смотрит на нее.
Про них никто ничего не знает. Ни бабушка, ни двоюродный брат, ни мама, ни младший братик. Двоюродный брат что-то рассказывает, младшие задают вопросы. «Да», – рассеянно отвечает Андре, впиваясь в нее взглядом. Судорожно сжимая руль. Пожирая ее глазами. Вокруг радостная суета. Его засыпают вопросами. Да, на выпускном экзамене он был лучшим. Это же замечательно! Он поступил в Политехническую школу! Превосходно! Тетушки и дядюшки, дедушка, бабушка, мама и все двоюродные наперебой восхищаются мальчиком! Ну, Андре, ты силен! Просто великолепен!
Младший братик смотрит на девочку и замечает, что она горит. Почему ты такая красная? Она вся красная! Кра-сна-я! Дурак! Болван! Она до крови щиплет брата, вытирает влажные ладони о его шорты. Отходит в сторону, чтобы не привлекать к себе внимания.
Точнее, к ним.
Она закрывает глаза.
Он здесь.
Смотрит на нее.
Не замечая других, не слыша восторженной болтовни родственников. Ее черноволосый мальчик. Смотрит поверх руля.
Бабушка приносит горячую супницу. Она берет половник. Наливает ему супу. Пристально смотрит на половник и садится. Он ищет под столом ее руку. Она не дает, кладет ладони на стол. Отведя взгляд в сторону, он придвигает коленку. Она не сопротивляется, прижимается бедром к его бедру, стараясь смотреть в сторону.
Она слушает. Он рассказывает про перевалы и горы, про Париж и Политехническую школу. Он любит работать, любит все брать штурмом. Она слушает его истории, молчаливая, счастливая.
Пора ложиться спать. Мальчики собираются поставить в амбаре палатку. Дедушка одобряет эту идею. Бабушка опасается, что в сене могут водиться змеи. Младшие зевают. Дяди и тети играют в бридж. Мама пьет настойку. Девочка встает, не глядя на Андре. «Поцелуй его, поцелуй», – кричит дядя, постукивая рукояткой ножа по столу. Она выходит из столовой, хлопнув дверью. Дядюшки смеются: «В этом возрасте дети такие глупые! Такие стыдливые!»
Она мчится в свою комнату.
Мальчик бежит за ней. Настигает ее в коридоре.
Гасит свет. Притягивает к себе.
Целует.
Ни слова не говоря.
Упершись ладонями в стену, всей своей тяжестью навалившись на девочку, он жадно всасывает ее губы, обжигает ей нёбо, язык. Она тянется к нему всем телом. Его губы впиваются ей в шею, руки сжимают ее изо всех сил… и она тает, тает в его объятиях, припадает к нему, обнимает, трется животом о его живот, засовывает коленку между его ног.
Забывается.
Он нем, и она нема.
Они дышат единым дыханием, их языки слились в единый язык. И наслаждение, общее наслаждение овладело ими и кипит, готовое взорваться. Он извивается над нею, словно желая проглотить без остатка. Она извивается под ним, подставляя шею, губы, груди.
И вдруг – шаги в коридоре… Кузен ищет Андре, зовет его.
– Я расскажу ему, он должен нам помочь! Сегодня ночью я хочу спать с тобой. Он один может нам помочь…
– Нет, не надо! – умоляет она, рукою зажимая ему рот.
– Почему?
– Я не хочу, чтобы он знал, не надо…
– Я расскажу ему…
– Нет! Пожалуйста!
Она тянет его к себе в комнату, запирает дверь на ключ. Виснет у него на шее. Увлекает в постель. Раздевает его. Раздевается сама. Трется кожей о его кожу. Голой кожей о голую кожу. Зажимает рукой его рот, чтобы он не раскрыл их тайну. Шаги кузена удаляются. Теперь он ищет друга этажом ниже. Андре вздыхает. Ложится на нее, теплый, тяжелый.
Она любит его. Только его. Все так же молча девочка душит его в объятиях, отчаянно, безнадежно, обхватывает обеими руками, словно боится упустить. От одной мысли, что он может уйти, ее колотит озноб. Он уйдет, уйдет. Увидев ее, он наверняка разочаровался. Она недостаточно яркая, не такая, как его одноклассницы. Не очень умная. Значит, он уйдет. Он молчит, потому что боится ее обидеть, а сам думает, что она в общем-то так себе, ничего особенного. Она его больше не увидит. Никогда.
Дрожа, она откидывает голову назад, готовая разрыдаться. Вытягивает шею, открывая ему новое пространство для поцелуев. Он сжимает ее в объятиях и шепчет, уткнувшись губами в ключицу:
– Я люблю тебя! Люблю тебя! Я никогда не смогу полюбить другую! Ты моя женщина! Ты моя любовь! Ты для меня все!
Она напрягается, сжимает зубы и, отпрянув, двумя руками отталкивает его от себя. Отталкивает с такой силой, что Андре падает с кровати. Она прячется под одеяло, отворачивается. Враждебная, ненавидящая, шипит:
– Уходи! Убирайся! Ненавижу! Не хочу тебя больше видеть! Никогда!
Он ничего не понимает, тянется к ней, пытается обнять, но она снова отталкивает его. Смеется над его глупым видом. Он стоит совершенно голый, с открытым от удивления ртом, покрасневшая кожа хранит следы ее поцелуев, на загорелых руках – белые очертания футболки.
– Урод! – кричит она. – Ты бы видел себя! Даже носки снять не потрудился!
Она хохочет, вскакивает с постели, швыряет ему одежду, распахивает дверь.
– Убирайся, а не то я закричу, что ты пытался меня изнасиловать!
И выталкивает его в коридор – нагишом. Он быстро натягивает одежду, и за этим занятием его застает кузен.
– Послушай, Андре…
– Наглый у тебя дружок… – говорит девочка. – Ладно, проваливайте оба! Мне спать пора!
Она запирает дверь и, довольная, падает на постель. Ловко она от него отделалась! Надо же, какой идиот! И еще хотел на ней жениться! И никого к ней не подпускать! Вообразил, что она мечтает принадлежать ему одному! Дурацкая история. И с чего она так на него запала? Разве можно жить с этим розовощеким идиотом, с этим дебильным ботаником?
Она вздыхает. Чувствует боль в животе.
Боль не отпускает всю ночь. Приходится подниматься с постели и бежать в уборную. Она засыпает под утро, когда сквозь ставни уже пробиваются солнечные лучи.
За завтраком Андре печален. Он бледен, неразговорчив, старается не смотреть ей в глаза.
«Какой красивый! – отмечает она про себя, намазывая хлеб медом. – Ему идет быть грустным! Он кажется таинственным и недоступным».
Руки у нее дрожат, бутерброд падает в чашку кофе с молоком.
Теперь ей совсем не хочется, чтобы он уезжал.
А он говорит, что ему пора ехать дальше. Дядюшки и тетушки отговаривают его. Неужели это так необходимо? Пусть останется, хотя бы ненадолго!
– Не могу! – отвечает он, избегая ее взгляда. – У меня куча дел. Надо работать. Пора в путь… Сейчас проверю, в порядке ли велосипед, и поеду…
Дяди и тети разочарованно вздыхают. Обещают приготовить чего-нибудь вкусненького в дорогу.
Он встает, выходит из дома, идет за велосипедом. Его ждет кузен.
Она смотрит ему вслед.
Ей нравится, когда он грустит и не глядит на нее. Ей нравится, когда он исчезает вдали. Она бежит за ним, хватает за руку, просит прощения, говорит, что вела себя как ненормальная. Можешь наказать меня, если хочешь, но не бросай, не бросай меня! Он не желает слушать, отстраняет ее. Она пытается повиснуть у него на шее. Он сопротивляется, хочет отшвырнуть ее, но не успевает: она впивается губами в его губы, и он невольно замирает. Она цепляется за его рукав, умоляет:
– Не оставляй меня, пожалуйста, не оставляй! Я хочу быть с тобой. Только с тобой.
Андре молчит, видно, что он колеблется.
Девочка хватает его за руку, виснет на нем всем телом:
– Я люблю тебя, ты же знаешь. Я люблю тебя.
Он пожимает плечами, говорит, что не хочет слушать эти глупости.
Она дрожит. Это не глупости. Она сама не понимает, что на нее вчера нашло. Клянется, что больше никогда себе такого не позволит.
Они проходят через амбар, минуют палатку. Она обнимает его за талию, он не сопротивляется. Она идет рядом с ним, подстраивается под его шаг.
– Ты мне не веришь? – спрашивает она, глядя ему в глаза.
Он не отвечает. Вид у него печальный, загадочный.
Она тащит его в палатку. Ложится на землю, задирает платье, протягивает к нему руки.
– Иди ко мне…
Он нерешительно смотрит на нее. Нависает над ней в полный рост. Она видит его длинные ноги, прямой нос, румяные щеки. Приподнявшись, берет его руку, кладет себе на живот, прижимает к своей голой пылающей коже.
Он опускается перед ней на колени, закрывает глаза.
Наклоняется ниже, ближе.
Она обхватывает его руками, притягивает к себе с такой силой, будто собирается задушить.
– Прости меня… Я сделаю все, что ты захочешь. Ты мне веришь?
Он не отвечает. Она берет его руку и легонько зажимает между ног. Он колеблется, но пальцы уже начинают поглаживать ее ягодицы и, все больше смелея, тянутся вглубь.
– Да, еще, – шепчет она, закрывая глаза.
И в миг, когда он уже готов овладеть ею, припав губами к его уху, умоляет:
– Только, пожалуйста, не говори ни слова…
~~~
На следующее утро я отправила Алану письмо.
Сначала я хотела собственноручно опустить его в почтовый ящик получателя, чтобы не волноваться, дошло ли оно по адресу, но потом решила, что подобное нахальство может не понравиться Жулику. Я смиренно отнесла письмо на почту, угол Третьей авеню и Пятьдесят третьей улицы, и спустилась в метро. Доехала до нижней части города и вышла на Кэнел-стрит.
Мне была необходима консультация Риты.
В вагоне мое внимание привлекла пара, сидевшая напротив. Всю дорогу они целовались. Она – пышущая свежестью, смешливая блондинка со вздернутым носиком, ровными зубками и блестящими волосами. Он – крепкий брюнет с рельефными мускулами и ослепительной, ничего не выражающей улыбкой. Оба они отличались той стерильной, бездушной красотой, которая чаще встречается не в жизни, а на телеэкране, в рекламе жвачки и колы. То была красота в чистом виде, безликая, бессмысленная, универсальная. Подобные типажи нравятся абсолютно всем и помогают продавать все на свете: особняки, зубную пасту, последний сборник исписавшегося барда с напомаженными волосами… Меня раздражало, как вызывающе они публично лижут друг друга, словно напоминая нам, простым смертным, что в этом городе радости любви мало кому доступны и потому редкие везунчики гордо демонстрируют свое счастье. Я бесилась и про себя ругала их последними словами. В какой-то момент я даже собралась пересесть в другой вагон, но внутренний голос сказал: «Не рыпайся, в соседнем вагоне все сидячие места наверняка заняты. К тому же не одна ты изголодалась по любви! В Нью-Йорке встретить свободного мужчину можно разве что назло статистике, соблазнить его – чистая фантастика, завоевать – сплошная каббалистика».
Мне ли этого не знать: я жила здесь довольно долго. Когда отец, смакуя пиццу, рекомендовал мне написать «серьезную» книгу, я, поразмыслив над его словами, решила на время покинуть родину. На ум пришли имена Хемингуэя, Миллера, Гертруды Штайн и Скотта Фицджеральда. Я вдруг ударилась в романтику и решила всем им подражать, правда, очень по-своему.
В самом начале своего добровольного изгнания я как-то решила через окно перекинуться парой фраз с соседом, жившим в доме напротив. Расстояние между нашими окнами было сантиметров шестьдесят, и я ежедневно наблюдала, как он пыхтит над мольбертом, сама между тем энергично барабаня по клавишам. Я прилепила на стену один из советов Ника: «Не констатируй – демонстрируй!» – и работала, не жалея сил, воображая себя новой Фланнери. А в окне напротив трудился сосед-живописец, и в один прекрасный день я пригласила его на поздний завтрак, на местном наречии именуемый «бранчем». Он долго отнекивался, отказывался разделить мою скромную трапезу, состоявшую из двух яиц всмятку и французских тостов, но в конце концов, стыдливо примостившись на краешке стула, подсел к моему столу.
Узнав, что я иностранка, он поведал мне причину своего смущения. Приглашение на завтрак в устах женщины звучит, по его мнению, вызывающее. Местные жительницы готовы на любую хитрость, лишь бы затащить самца в свою постель. Будучи холостым мужчиной стандартной сексуальной ориентации, без вредных привычек, бедолага не знал, куда спрятаться от своих эмансипированных соотечественниц. Он постоянно был начеку, запирал дверь на три замка, не вступал в разговоры с незнакомками и завтракал исключительно в обществе проверенных людей. В тот день я узнала немало любопытного о взаимоотношении полов в городе Нью-Йорке. Что касается соседа, то больше мы с ним не виделись. Вероятно, он опасался, что я попытаюсь вторгнуться в его жизнь…
Все мои последующие американские приключения только подтвердили первоначальные мрачные догадки. Судьба свела меня с Терри в битком набитом автобусе. В тот вечер я стояла, зажатая со всех сторон, отчаянно вцепившись в кожаную петлю, и вдруг почувствовала, что теряю равновесие. Кто-то из стоявших рядом своим студенческим рюкзаком толкнул мою сумочку от «Блумингдэйла». Это был Терри. Я приняла его извинения. Мы познакомились. Узнав, что я француженка, он проникся ко мне благожелательным интересом и с подчеркнутой галантностью начал задавать вопросы.
Отличительными особенностями Терри были: поставленный голос, незаурядная эрудиция, восковые щеки, голубые кукольные глаза, длинные ресницы и ухоженные ногти. Будучи принципиальным противником зимней одежды, он не носил пальто. Был аспирантом Колумбийского университета: изучал особенности празднества Потлач у индейских кочевников. Собирался посвятить этой волнующей теме свою диссертацию. Мы стали встречаться. Он водил меня в кино смотреть фильмы «по специальности» с участием именитых социологов, с годами все более походивших на предмет своего исследования, кочевых индейцев. Мы посещали концерты, где я изо всех сил старалась не заснуть под монотонную музыку Джона Кейджа. Ходили в Музей современного искусства, где Терри заботливо объяснял мне, в чем разница между почерками Джаспера Джонса и Раушенберга. Иногда он приглашал меня посидеть в кафе в нижней части города, но и там без устали твердил о том, что празднество Потлач сыграло ключевую роль в развитии примитивных культур. И всякий раз я невольно вздрагивала, поймав на себе взгляд его пронзительных ледниково-голубых глаз. Слова Терри звучали веско и сурово. Он просвещал меня с ласковым снисхождением терпеливого учителя. Я не смела до него дотронуться, боялась разрушить ту непередаваемую книжную романтику, которой были полны наши с ним встречи. Внимательно его слушала и все ждала, когда же он сделает первый шаг. И вот, по прошествии пятнадцати лекций в кафе, пяти познавательных фильмов и трех концертов экспериментальной музыки, Терри решился наконец меня поцеловать и даже залез ко мне в постель.
Его белые плечи уже блестели во мраке, вожделенные губы почти касались моего уха, аромат свежей крепкой плоти дразнил воображение, но прежде, чем заключить меня в объятия, Терри на минуту замер и, приподнявшись на локте, объявил, что желает со мной объясниться, пока его ум не замутился блаженством соития. Он поведал мне, что у него есть девушка и встречаются они на регулярной основе последние четыре года. Сообщил ее точный возраст, род занятий, религиозную принадлежность. Рассказал, что она сочиняет талантливые стихи и записывает их в тетрадку в кожаном переплете, а по воскресеньям печет ему превосходные кексы под музыку великого Шуберта. Он добавил, что нежно любит свою девицу и что имя ей Виолетта. По взаимному согласию они позволяют друг другу некоторую степень свободы, и благодаря этой чудесной поправке к договору я и пребываю в настоящий момент нагая в объятиях Терри. Закончив свою речь, он подождал, пока я кивну, подтверждая, что осознаю, сколь скромное место отводится мне в его жизни, после чего улегся сверху и принялся любить меня со свойственной ему серьезностью и вдумчивостью.
Обескураженная услышанным, я не ощутила ровным счетом ничего, никакого возбуждения, ни малейшего намека на приближение экстаза. Приоткрыв в темноте глаза, я с неподдельными интересом наблюдала за его показательным выступлением. Он пользовал меня усердно и технично, благо в наше просвещенное время искусству любви может в некоторой степени научиться каждый. В постели он вновь продемонстрировал эрудицию, тщательно обработав каждую мою эрогенную зону. Ему были знакомы все существующие позы, и в каждой из них он был неизменно энергичен, ритмичен и точен, виртуозно работал бедрами, умело пользовался языком. Я наблюдала за ним удивленно и отрешенно, ничего не ощущая, даже не притворяясь. Впрочем, Терри был слишком озабочен собственными действиями и на мою реакцию не обращал ни малейшего внимания. Он старался ничего не упустить, показать все, что умеет. Закончив соло мастерским поглаживанием моей правой скулы, Терри одарил меня едва заметной улыбкой: он был уверен, что я на седьмом небе от счастья. Довольный собой, он вышел наконец за пределы моей плоти. Я вновь ощутила блаженное чувство свободы, ощупала себя с ног до головы, словно проверяя, все ли на месте, не умыкнул ли Терри какую-нибудь часть моего тела. Смысл произошедшего был мне недоступен.
Минуту назад я занималась любовью с мужчиной, который теперь, сидя на краю постели, надевает носки, заправляет рубашку в брюки и приглаживает волосы, следовательно, этот мужчина – мой любовник.
Да неужели?
Вы сказали Терри?
Кто такой Терри?
Не знаю. Мне вообще ничего о нем не известно. Про Виолетту я теперь знаю практически все и уж точно все про славное празднество Потлач, а вот про Терри – увы.
Мне так и не довелось познакомиться с ним поближе.
В тот вечер, нежно поцеловав меня на прощание, он покинул мой дом и больше не вернулся. Исчез совершенно бесследно, не оставив ни малейших улик, ни единого волоса на подушке для генетической экспертизы. Я тщетно ждала звонка, письма, условного стука, скорбного сообщения из больницы, краткой заметки в «Нью-Йорк Пост». После чего решила, что со мной что-то не в порядке: наверное, у меня несвежее дыхание и уйма физических недостатков. Вероятно, я была не на высоте, то ли дело Виолетта…
Два года спустя, проездом оказавшись в Нью-Йорке, я стояла в очереди у «Дина и Делуки», держа под мышкой целую коллекцию французских сыров. Мое внимание привлек мужчина с восковыми щеками, голубыми глазами и длинными ресницами. Собрав сдачу тонкими пальцами с ухоженными ногтями, он обернулся, и его сумка едва не протаранила мою. Я приняла его извинения. Улыбнулась. Переложила сыры, освобождая руку для дружеского пожатия. Я не держала на него зла. Мне было интересно, как поживают его диссертация и его Виолетта.
Но он был уже далеко…
И вот теперь, глядя на целующихся в вагоне варваров, я терзалась вопросом: есть ли у Алана подружка?
Рита мне все расскажет.
Рита знает все: она ясновидящая, гадалка, практикующая в подвале жилого дома на Форсайт-стрит, того самого, где я некогда обитала, работая над «серьезной» книгой. Я все пыталась уяснить, что в Его понимании означает «серьезная». Четкого определения Он не давал, называл имена. Одни и те же. Шатобриан, Эмиль Золя, Хосе Мариа де Эредиа и почему-то Жан Вальжан. «Нет такого писателя», – возражала я, довольная, что отыграла очко. «Неважно, – отвечал Он, – ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Не стоит звонить из-за таких пустяков – это слишком дорого…» Я в слезах вешала трубку. Шла к зеркалу. Находила себя уродливой, ненужной, заурядной.
Желая поддержать меня в трудную минуту, Тютелька процитировала Монтескье. Его изречение звучало примерно так: «Серьезность – щит для глупца». Я переписала эту максиму каллиграфическим почерком и отправила Ему заказным письмом. Он не ответил.
Так или иначе сопротивляться было поздно, Он посеял во мне сомнения. Я глядела на свою вторую книгу, ту самую, над которой тогда работала, и четко понимала: она не «серьезная». Писательство давалось мне подозрительно легко. Я донимала себя вопросами и все больше терялась. Неужели Шатобриан писал и болтал одинаково? Скорее всего, да. В ту пору не было ни телевидения, ни других подобных глупостей, дурно влияющих на речь человека, поэтому ничто не мешало Шатобриану трепаться в исключительно серьезной манере. И писал он соответственно. В то время Франция воспринимала себя всерьез, и Шатобриан в своем замке де Комбур отражал воззрения эпохи. Он встречался за чаем со своей подругой Рекамье, и речь их звучала выспренне, была полна изящных оборотов и изысканных слов. То был пир языка! Придаточные предложения переплетались причудливым бисером, сослагательное наклонение так и витало в воздухе, а романтичные описания с блеском завершали картину.
А Поль Валери, живший относительно недавно? С ним дело обстояло сложнее. Что, интересно, он говорил другу: «Мне пора в объятия Морфея» или же «Пойду подрыхну»? Вторая версия представлялась мне более вероятной.
Значит, говорил он по-людски, а писал совершенно иначе.
Он хотел, чтобы его стихи звучали серьезно.
Я оказалась между двух стульев. Как же мне писать: языком живых людей или другим, двухсотлетней давности? Не упуская ни малейшей детали, воспевать на десяти страницах кровать под балдахином или непосредственно переходить к восторгу горничной, трепетно отдающейся графскому сыну?
На занятиях Ника подобными вопросами никто не задавался. Более всего там ценилась точная передача эмоций. Достаточно было взглянуть на рожи соучеников, и сразу становилось ясно, сумели ли вы произвести на них должное впечатление, удалось ли вам донести до них переживания своих героев. Стоя перед нами в своих развалившихся кроссовках, Ник повторял: «Неважно „как“, главное – „о чем“». Я увязла в клубке неоднозначных вопросов, не могла разрешить великую дилемму и в результате писала все меньше и меньше. Время шло, я размышляла, деньги таяли. Сначала я снимала квартиру в престижном районе, потом франк по отношению к доллару стал падать, я переезжала, и каждое мое жилище было скромнее предыдущего. Последним пристанищем стала комната на Форсайт-стрит.
В парке напротив дома обитали бродяги и гуляли местные шлюшки. Мне пришлось кардинально изменить походку и стиль одежды. Я старалась ничем не выделяться. Носила старые джинсы, старую куртку, старые кроссовки. Брела вдоль стены, занавесив глаза челкой, втянув голову в плечи и сжимая в кармане деньги, предназначенные первому встречному, который настойчиво попросит меня раскошелиться. Для пущей убедительности приставив нож к горлу.
В подъезде не было ни консьержа, ни домофона. Гости кричали под окном, и я кидала им ключи. В носке или в перчатке. Необходимо было точно прицелиться, чтобы ключи не угодили в помойку. Отдельного туалета мне не полагалось. Приходилось делить удобства с соседями: пятидесятилетним художником, страдающим запорами, и молодой польской иммигранткой.
Девушку звали Катя. Она считала себя человеком с твердыми принципами, в подтверждение чего без конца повторяла две-три заезженные фразы. Подобные особи меня невероятно раздражают, но обходиться без Кати я не могла. Она прекрасно знала окрестности и умела бороться с тараканами. От нее я узнала о существовании «тараканьих мотелей» – картонных коробок, которые выглядят ярко и нарядно, скрывая внутри ядовитую вязкую субстанцию. По замыслу производителей, таракан, привлеченный красочным объектом, должен проникнуть внутрь и сгинуть навеки. «They check in, they never check out» [31]31
Они въедут, но не съедут.
[Закрыть]– гласила реклама. Слоган не врал, но проблема была в другом: тараканы крайне редко наведывались в «мотель». Умные насекомые не ловились на броскую приманку, предпочитая держаться на расстоянии. Внутрь забредали только маразматики, невротики и разини, то есть ничтожный процент тараканьей популяции, в целом исключительно крепкой и жизнеспособной. Тараканам даже атомная бомба не страшна, настолько они живучи.
Я тоже выжила.
Привыкла.
Даже полюбила этот квартал.
И его обитателей. Трижды в неделю я пробуждалась под звуки органа. Служба шла по-испански. Дородные матроны в фартуках выгуливали свое потомство. Мальчишки запускали самодельные фейерверки и покачивали бедрами в такт музыке, доносившейся из гигантских приемников. Бродяги волокли свои тележки, набитые выброшенными бутылками и коробками. Шлюшки курили марихуану, а в дни везения баловались кокаином, сидя на капотах брошенных автомобилей. Копы при исполнении равнодушно проходили мимо. Мы обменивались приветствиями: «Hi! Sweetie, how are you today? Fine and you? Fine, thank you» [32]32
Привет, детка, как жизнь? Отлично, а ты как? Спасибо, все отлично.
[Закрыть]. Я сутулилась, а они, напротив, стояли навытяжку, выставляя напоказ игривые бюстгальтеры. В полночь, спустившись за сигаретой в бар «Ла Бодега», я снова нос к носу сталкивалась с ними. В перерывах между клиентами они забегали сюда передохнуть и, сидя у барной стойки, заклеивали лаком стрелки на колготках, вычищали грязь из-под ногтей, жевали резинку и обсуждали клиентов. Среди последних преобладали белые клерки, забредавшие сюда в костюмах и галстуках, чтобы в промежутках между деловыми встречами получить свою порцию грязного секса. Надушенные белые жены с ухоженными ногтями подобных вольностей им не позволяли. «Blow job» [33]33
Феллацио.
[Закрыть]девушки предпочитали делать коренным американцам, но с представителями прочих этнических групп ощущали себя свободнее.
«У америкосов яйца чистые, а в башке – тараканы», – говаривала Мария Круз, хорошенькая восемнадцатилетняя пуэрториканочка в тесных джинсах и розовых виниловых сапожках на высоких каблуках. Она была у девиц душой общества. «Такие забитые, скажу я тебе. Мы работаем не покладая языка, избавляем их от комплексов».
Слушая Марию Круз, подруги покатывались со смеху, а она, царственным жестом хлопнув по стойке, заказывала всем по чашечке кофе. Мария Круз была местной звездой. Родилась она в Гарлеме, в бедном латиноамериканском районе. Сбежав из дома в пятнадцать лет, попала в молодежную банду, каких в Бронксе развелось немало. Жили они воровством, промышляли в богатых кварталах, а потом, вернувшись в свое логово, по-братски делили добычу. Однажды Мария Круз решила не возвращаться. Она брела по Пятой авеню, засунув руки в карманы краденой куртки, и разглядывала гигантские лимузины, из которых выходили дамы в роскошных платьях и кавалеры в смокингах. Разодетые швейцары услужливо распахивали перед ними двери. В тот вечер Мария Круз дала себе слово, что когда-нибудь она тоже будет ездить на таких машинах. И ей сразу стало легко и весело, будто желанная перемена статуса уже свершилась. Запрыгнув на скамейку, она заговорила сама с собой: «Надо жить так, будто я уже богата… Надо работать над собой, надо стать сильнее, чтобы удача не застала меня врасплох, чтобы я была готова к роскоши и богатству. Главное – не пасовать. Побеждает тот, кто смел…»








