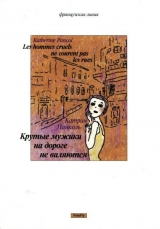
Текст книги "Крутые мужики на дороге не валяются"
Автор книги: Катрин Панколь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
В тот памятный вечер Мария Круз предалась мечтам. В тот вечер она в первый и последний раз ощутила себя свободной. Она несла себя по улице как королева. Воображала себя «той самой знаменитой» мисс Марией Круз. Она – известный парикмахер-косметолог, у нее свой Институт красоты на Мэдисон-авеню. Трехэтажное здание с небесно-голубыми кабинками, ковровые дорожки – светло-серые… нет, тоже небесно-голубые, а светло-серыми у нас будут двери, и на каждой из них серебряная табличка с именем мастера. Окрыленная мечтой, она шла вдоль Пятой авеню и была счастлива, что вырвалась из банды, что ей больше не придется мчаться по тротуару, спасаясь от погони, отчаянно стуча каблучками по асфальту. В два часа ночи Мария Круз улеглась на ступеньки богатого дома в Верхнем Ист-Сайде и, мысленно выбирая цвет занавесок и форму для мастеров, нанимая парикмахеров, прикидывая расценки, зарплаты и часы работы, незаметно заснула. На следующее утро, обслужив первого в своей жизни клиента, Мария Круз заработала на кофе с глазуньей. «В первый раз я получила два бакса и семьдесят пять центов! С тех пор мои ставки выросли! И ваще, живу я на Манхэттене. Не в самом, конечно, раю, но все впереди… В один прекрасный день я распрощаюсь с Хосе, достану заначку и открою свой институт…»
Я готова была слушать Марию Круз всю ночь, но за ней неотступно следил Хосе, а клиенты на длинных машинах разъезжали вдоль парка. Мария Круз залпом допивала кофе, поправляла колготки, приглаживала мини-юбку из искусственной кожи, надувала щеки, как кларнетист, и возвращалась на службу.
Еще одним поводом спуститься ночью в бар «Ла Бодега» было общение с Ритой. Она страдала бессонницей и раскладывала за стойкой гадальные карты. В то время Рита являла собой довольно жалкое зрелище. Она безуспешно пыталась похудеть, страдала нервными припадками и ночи напролет просиживала в баре, передвигаясь при помощи табурета на колесиках. Рита была так слаба, что все необходимое всегда держала под рукой: карты, кофе, морковные палочки, сигареты, салфетки, румяна. Иногда владелец бара оставлял ее за стойкой одну, обслуживать ночных посетителей. Барменша из Риты была никудышная. Она изнуряла себя диетами и потому плохо соображала. Просишь салями, а получаешь пачку «Салема». Впрочем, на Риту никто не обижался, потому что она бесплатно гадала на картах. Ясновидческие способности от диеты не страдали. Рита видела «вспышками», и на почве голода ее зрение только обострялось. «Еда отягощает ум, – менторским тоном заявляла Катя. – Mens sano in corpore sano [34]34
В здоровом теле – здоровый дух.
[Закрыть]… Американцы неправильно питаются. Жрут свои консервы и тупеют».
Катя хотела знать, сумеет ли она добиться успеха и поселиться в верхней части города, среди богатых и удачливых. Меня интересовало, получится у меня «серьезная» книга или нет. Рита не понимала, что я имею в виду, мои путаные объяснения ее не устраивали, дело упорно не двигалось с мертвой точки, карты сулили нечто противоречивое. В качестве компенсации Рита предсказывала мне новые романы, новых любовников, разрывы и полеты на самолетах. Обещала встречу с брюнетом, и со вторым брюнетом, и с третьим… и большую любовь. При этих словах я вскакивала и принималась ее пытать. Когда? Когда же это случится? Когда я встречу свою большую любовь?
Но точного времени Рита назвать не могла, она «видела» только факты.
Рита скажет, что у меня будет с Аланом. Позвонит ли он завтра вечером или же в ожидании его звонка я успею перечитать «Илиаду» и «Одиссею».
Я спускаюсь по Кэнел-стрит, миную китайский квартал, сворачиваю на восток, прохожу мимо китайской прачечной, куда некогда сдавала белье. С владельцем приходилось объясняться на пальцах: он ни слова не понимал по-английски. Я на полной скорости пролетаю по Бауэри и оказываюсь на Форсайт-стрит.
Ритина гадальная лавка находится на том же месте. Похоже, дела идут неплохо. Рита обновила вывеску. На фасаде красуется ладонь с красными и зелеными линиями, а также золотистая колода карт и надпись: «Рита Морена. Узнай свою судьбу». Я толкаю дверь. Оторвавшись от журнала, Рита плывет мне навстречу.
Именно плывет, потому что передвигаться иначе Рита неспособна: весит она не менее центнера. Килограммы жира мешают ей ходить, заставляя клониться то влево, то вправо. Она встает и волной рахат-лукума устремляется ко мне. Я успела позабыть, что она такая толстая.
Худеть она больше не хочет. Говорит, что жир защищает ее от домогательств. Без этого студенистого слоя она была бы совершенно беспомощна в нашем жестоком мире. Она уже побывала худой, хорошенького понемножку. Ее потрясало, что люди подходят к ней совсем близко, практически вплотную. Это приводило ее в ужас. Сбросив лишний вес, она вновь оказалась на грани нервного срыва. Доктор забыл ее предупредить, какие опасности подстерегают в этой жизни тех, кто решился быть стройным. Их все хотят, все вожделеют, буквально рвут на части. Рита рано поняла, что мир жесток. «С тех самых пор, как родители предложили мне поиграть с тостером в ванной», – смеется она. Теперь на ее теле выросла защитная броня, талия, бедра, икры надежно укутаны. Рите больше нечего бояться. Отныне она полностью владеет ситуацией. Рита обнимает меня, приподнимает, целует, ставит на пол и, радостно повизгивая, щиплет обеими руками.
– Ты пришла! Класс! Два года прошло, и никаких вестей! Что случилось?.. Ой, подожди, помолчи, у меня «вспышка»! Ты встретишь мужчину. Здесь, в Нью-Йорке. Я его вижу… Он высокий, красивый. Влюбится в тебя как безумный… Не перебивай… Я его вижу. Еще вижу самолеты и снова самолеты… Потом свадьба… Он иностранец, брюнет. Вижу большой праздник, на тебе зеленая блузка… Да, именно… И пальма в углу…
Я висну у нее на шее, целую ее. Ну, что еще ты видишь? Но Рита утомилась, она падает на стул. Миг озарения позади.
– А что потом?
– Все будет хорошо… Я это чувствую. Вы поженитесь и…
– Ты уверена? Уверена, что не ошиблась?
Рита дуется. Вбирает один подбородок в другой. Отворачивается. Гигантской гармонью сплющивается на стуле.
– Ну прости, пожалуйста, это я от волнения… Понимаешь, я именно такого встретила и теперь не смею надеяться. Все получилось по-дурацки… Я его случайно послала…
– Он еще вернется, вернется… Расскажи, как ты? Что твой отец? Он умер?
Я киваю, и в горле снова застревает комок. Когда кто-то говорит о Нем вслух, мне становится страшно. Будто я только что впервые получила официальное подтверждение Его смерти, узнала, что Он умер окончательно и бесповоротно. Я вздрагиваю, внутренне съеживаюсь. В эту минуту я похожа на зябкую старушонку.
– Тебе тяжко? Очень тяжко?
А ты как думала…
– Надо довериться Богу, ты понимаешь меня? Надо верить, что Он там, наверху, что Он наблюдает за тобой.
Я качаю головой. Этот вариант мне не подходит.
– А ты попробуй… Помолись Пресвятой Богородице.
Она тычет пальцем в пластиковую Мадонну, которая стоит на верхней полке, одним локтем упершись в радиоприемник, другим задевая вентилятор.
– Она тебя поймет. Если твой отец умер, это значит, что отпущенное ему время истекло…
– Я не верю, Рита. Не верю и все. Не получается. Когда он умер, все родственники дружно молились, а я завидовала им лютой завистью… Я бы с радостью помолилась, чтобы было не так больно. Изо всех сил пытаюсь поверить, но ничего не выходит. Будь я верующей, все было бы не так безнадежно. Я не сомневалась бы, что однажды встречусь с ним вновь…
Слезы текут по моему лицу.
Рита встает, подплывает к холодильнику, достает мороженое под названием Health Bar Crunch [35]35
Здоровый хруст.
[Закрыть].
– Недавно появилось. Ты такое уже пробовала?
Я утвердительно икаю. Мне известны все сорта и виды мороженого. За три недели я успела наверстать упущенное. Рита ставит мороженое на столик, втыкает в него две ложки, плюхается на пуфик.
– Держись… Сейчас я тебе пасьянс разложу.
– Расскажи, как там все остальные… Катя, Мария Круз, старый художник, у которого запоры?
– Этот никуда не делся… Все такой же!
Она тасует карты. Колода сделана на заказ, все карты – в форме сердечка, с позолоченными краями.
– А что Катя?
– Вернулась к себе в Польшу. Она влипла в историю, наделала глупостей. У нее закончилась виза, и она нашла себе фиктивного мужа. Брачного афериста. Он жил тем, что женился на иностранках. За две штуки баксов. Катя у него была восьмая… Аферист попался. Сдал Катю. Законы теперь суровые. Они все проверяют, вызывают новобрачных на перекрестный допрос, чтобы проверить, действительно ли те живут вместе. Катю спросили, где у них в спальне выключатель, спит ли ее муж в пижаме или голый. Она ни на один вопрос не смогла ответить… Ее отвезли в аэропорт… Под конвоем…
Рита пожимает плечами. Я делаю то же самое. Все в этом мире суета сует.
– Катя мне написала из Варшавы. Ее родители разорились. Они отдали все свои сбережения, чтобы отправить ее сюда…
Рита протягивает колоду, предлагая мне «снять», раскладывает карты, отодвигает мороженое.
– А Мария Круз?
Видно, что этот вопрос задел ее за живое. На мгновение она замирает с колодой в руке. Потом кладет карты, хватает ложку и нервно тычет в стаканчик с мороженым.
– Ну что тебе сказать? После твоего отъезда у нас были сплошные несчастья… И этим не кончится, я так чувствую…
Я даю ей съесть пару ложек, а потом снова потихоньку перехожу к вопросам. Марию Круз я любила. Она была не то что бы красивой, но яркой… Десны у нее были ярко-розовые, а волосы густые и жесткие, словно у куклы, этакая черная блестящая грива. Она открыла мне неведомый дотоле мир. Благодаря ей я спустилась с небес на землю. Слушая Марию Круз, я не просто этому училась, я будто заново узнавала саму себя. В такие минуты я жила интенсивнее и чувствовала острее. Казалось, моя душа вот-вот вырвется наружу. Я всегда ощущаю нечто подобное в минуты сильного потрясения… Однажды я спросила, как она заставляет себя сосать незнакомых мужчин, от которых зачастую еще и разит. Она посмотрела на меня свысока и ответила едко, ехидно: «А как ты заставляешь себя часами просиживать за машинкой? Че молчишь, а? Как тебе это удается? Это ведь не женская работа! Это работа для мужика! Нет, правда! Писателю нужны яйца, такая мощная пара яиц!» С этими словами она приподняла на ладони воображаемые писательские яйца, и все ее подруги дружно заржали. Я уткнулась носом в чашку кофе и с тех пор зареклась спрашивать Марию Круз о работе, все больше сидела молча и слушала.
– Она подсела на коку, – говорит наконец Рита, – потом на героин. С подачи Хосе… чтобы больше из нее выжимать. Он говорил, что у Марии Круз мания величия, что она слишком много о себе воображает. Вот он ее и прижал… Теперь она особо не рыпается. Хосе выпьет из нее все соки и выбросит на помойку. Жалкое зрелище… Он гонит ее работать в верхний город, подальше от подружек… Ну давай, сконцентрируйся, что мы спросим у карт?
– А ты что же?
– А что я могла сделать? Что я могу против Хосе? И ведь предупреждала я ее… Видела, что ее ждет, а она мне не верила, считала себя самой умной…
Она оседает на своем пуфе, прислоняется к стене, устало вздыхает. Радость внезапной встречи со мной на время заслонила все ее печали, а теперь тяжелые мысли мучают ее с новой силой.
– Ты видела, во что превратился наш квартал, там, где Четыре авеню?
Я качаю головой, объясняю, что добиралась на метро.
– Здесь все поменяли, все перестроили. Видать, скоро мне придется переезжать. Отсюда уже многие убрались. Четыре авеню… Помнишь, там никто не хотел селиться. А теперь мэрия решила обустроить район, и все кишмя кишит подрядчиками. Они покупают старые развалюхи, приводят в порядок, продают квартиры по баснословной цене. Художники здесь больше жить не смогут… Если не успеют по-быстрому прославиться и разбогатеть! Скоро дойдет очередь и до меня! А куда мне ехать? Здесь прошла вся моя жизнь…
Ее нижняя губа печально сползает вниз, к подбородку.
– А карты? Что они тебе обещают?
Рита пожимает плечами. Карты молчат, но что-то подсказывает ей: пора складывать вещи. Перебираться в Бруклин или в Квинс.
– Ну, давай посмотрим, где теперь твой папочка! Хочешь?
Когда с гаданием и мороженым было покончено, наступил вечер. Рита заразила меня своим унынием.
Мне было грустно, несмотря на то что карты тоже сулили встречу с брюнетом. Я не слишком верила в Ритин провидческий дар, хотя бы потому, что папочка мой, по ее мнению, пребывал на небесах, под крылышком у Господа. Как бы не так!
– Я вижу его в раю. Он такой спокойный, умиротворенный, смотрит на тебя.
– Так я тебе и поверила!
– Ты должна мне верить, тебе надо молиться…
– Не буду!
– Почему?
– Не верю я во все это… Посуди сама: если он существует, почему бы ему немного не постараться для меня, не совершить небольшое чудо, чтобы я в него уверовала? Ну, например, сделать так, чтобы завтра мне позвонил Алан… Ведь это же несложно.
– Это было бы слишком просто…
– Вот-вот. Старая песня. Мы страдаем, рискуем, принимаем на себя тяжкие удары судьбы, а он знай себе прохлаждается…
– Мы еще поговорим об этом, – ласково проворковала Рита, – непременно поговорим.
Эта интонация показалась мне знакомой. Так разговаривают религиозники, которые звонят в двери, рекламируя свой божественный товар. Заманивают честных граждан в свои сети. Если вы не клюете на наживку, они становятся мягкими, сговорчивыми и на время оставляют вас в покое, а потом с новым рвением принимаются за свое.
Мы вышли на улицу. Рита немного меня проводила. Мы дошагали до района Четырех авеню в самой нижней части города. Нашим взорам открылись полуразрушенные кирпичные дома, изъеденные ржавчиной, пострадавшие от бесчисленных пожаров. На пустырях, поросших сорной травой, чернели остовы сгоревших машин, высились груды мусора. Некогда этот квартал был предоставлен в полное распоряжение бедняков, муниципальные власти предпочитали ни во что не вмешиваться, даже улицы здесь были безымянные.
– Они и сюда добрались? – спросила я.
Рита кивнула. Ей было не просто перемещаться в пространстве. Она пыхтела, опиралась на мою руку.
– Весь квартал уже прибрали к рукам. Ты посмотри, одни копы кругом. Теперь здесь особо не погуляешь, то ли дело раньше…
И действительно, на каждом углу красовался коп с наручниками наготове, вооруженный пушкой и резиновой дубинкой. У каждого из них была рация. Они стояли, поглаживая курок, готовые выстрелить в бесплотную тень, плывущую на встречу с наркодилером, в безобидного бродяжку, подыскивающего себе местечко для ночлега. Рита продолжала свой печальный рассказ. Мэрия без труда победила в неравном бою. Скоро в этих местах не останется ни единого шприца, ни единой ночлежки, ни единой шлюшки. Все будет готово к приему новых владельцев – господ, облаченных в тройки, и их аэробических жен. Каждый квадратный метр в городе должен стать рентабельным. Мне снова пришла на ум статуя Свободы. Я задумалась о том, что она олицетворяла раньше и что олицетворяет теперь… Она по-прежнему возвышается над Стейтен-Айлендом в своей складчатой тоге, с факелом в руке и гостеприимной улыбкой: «Welcome [36]36
Добро пожаловать.
[Закрыть]в страну Справедливости и Равенства». Раньше это приветствие звучало правдоподобно, теперь же в Америке правит не закон, а доллар, сильный заглатывает слабого, подрядчики выселяют Риту. А статуя стоит себе на пьедестале, подобная золотому тельцу, с безмятежной, равнодушной улыбкой взирая на это безобразие.
Некоторое время мы молча шагали рядом, потом попрощались. Рита, переваливаясь, заковыляла по направлению к лавке, а я села в автобус и поехала в верхнюю часть города, в мир Бонни Мэйлер.
Было уже совсем темно.
Сидя в автобусе, я подумала, что если мой папочка и впрямь находится сейчас подле Жулика, то, стало быть, двери рая открыты для всех, прямо-таки распахнуты. А на пороге стоит зазывала.
Нет, честное слово, во всем должна быть мера!
~~~
Она сама не понимала.
Не понимала, почему у нее такие проблемы в общении с молодыми людьми.
Все ее романы строились по одному сценарию. Она ощущала себя влюбленной, покуда юноша был далек и молчалив. Но стоило ему подойти поближе, и она тут же начинала сомневаться в своих чувствах. Самое ужасное начиналось, когда он изрекал роковое: «Я люблю тебя». Ей внезапно становилось дурно… В буквальном смысле. Приходилось пулей лететь в уборную. Сидя на стульчаке, тупо разглядывая свои приспущенные джинсы, она рыдала, терзая себя вопросами и подозрениями.
Откуда в ней столько злости?
Разве она не хочет быть любимой? Не стремится к этому изо всех сил? Вечерами, лежа в постели, она грезила о муже и детях, о домике с соломенной крышей и совместном поедании кукурузных хлопьев поутру. «Ты же мечтаешь о семейной жизни, – заклинала она саму себя, – так сделай над собой усилие. Возьми себя в руки. Признание в любви – отнюдь не оскорбление. Нет ничего обидного в том, что человек готов всю свою жизнь положить к твоим ногам… Ты для него – свет в окошке. Так радуйся своему счастью!»
Иногда ей удавалось себя убедить.
Она держалась день, неделю. Стиснув зубы, наблюдала, как он носится со своей любовью, строит планы на будущее, их общее будущее, умиляется при виде детей, решает, на каком этаже они будут жить, выбирает скатерть для кухонного стола, идеальный район, модель телевизора. Она терпела, не позволяла себе сорваться. Приказывала своему телу слушаться. Разрешала себя целовать, в минуты близости говорила и делала все, что положено, но ничего не чувствовала. Ничего. Желая добавить блюду остроты, она внушала себе, что он ее разлюбил, что он лжет, а на самом деле собирается бросить ее, избить, сбагрить первому встречному. Эти фантазии ненадолго вырывали ее из тисков повседневности, превращая любовника в загадочного незнакомца, и кровь в жилах начинала бурлить с новой силой…
Но очень скоро все возвращалось на круги своя. Он слишком нежно на нее смотрел… Слишком много говорил. Она не сдавалась. Обещала себе, что дальше будет проще, главное – пережить эту тяжелую минуту… И она снова будет трепетно принимать его ласки. А идиотские проекты совместного проживания не будут ее бесить и смешить.
Она терпела.
А потом неожиданно уходила. Говорила что-то невразумительное и исчезала. Избавлялась от него под случайным предлогом. Раз и навсегда. И прыгала от радости. Невыносимая тяжесть сваливалась с плеч.
Он, конечно, звонил. Умолял вернуться. Просил объяснений. Спрашивал, что он такого сделал, в чем его вина?
Что она могла объяснить?
Все происходило помимо ее воли. «Мне очень жаль», – говорила она. И не кривила душой. Не блефовала.
После каждого разрыва она встречалась с отцом. Они отправлялись лакомиться устрицами в «Руаяль Виллье». Ему это было удобно: ресторан располагался на Его ветке.
Она докладывала. Он комментировал.
«Сам виноват, – говорил Он. – Нельзя быть таким кретином. Ты для него слишком хороша… А он вообразил, что ты будешь вечно принадлежать ему одному! Болван, честное слово, полный болван! С чего он взял, что ты его любишь? Он что, чокнутый? Он признался тебе в любви? Да что этот сопляк понимает в любви? Что он вообще понимает в жизни? Классно ты его кинула, девочка. Классно ты их всех кидаешь. Это в порядке вещей. Любовь – сплошное кидалово. Так-то».
«Думаешь?» – отзывалась она.
Ей вдруг становилось грустно.
Сплошное кидалово…
Она почему-то начинала тереть глаза, потом руки. Будто пыталась очиститься от прилипшей грязи.
Приходилось признать, что отец был прав.
Он и сам приходил расправляться с ее любовниками. Заявлялся к ней домой. Без предупреждения. Неожиданно раздавались два коротких звонка, и начиналась битва. Он буквально прижимал их к стенке, оскорблял, допрашивал: «Ради чего вы встречаетесь с моей дочерью? Не слышу? Что? Молчите? Не хотите отвечать? Ладно, я за вас отвечу! Вы встречаетесь с ней только ради секса. Вам нравится ее трахать. Вы не ее любите, вы трахаться любите. Вы даже не понимаете, что значит любить мою дочь…» Очередной поклонник неловко оправдывался. Отец приказывал несчастному не юлить, смотреть прямо. Честный человек, совесть которого чиста, никогда не отводит глаз. Окончательно сбитый с толку, бедняга уже не понимал, как выпутаться из этой дурацкой ситуации. Отец ненадолго замолкал, позволяя сопернику передохнуть, и тот уже думал, что все позади и можно наконец вздохнуть спокойно, расправить плечи, улыбнуться, обратить все в шутку… но затишье было обманчиво. Переведя дыхание, отец принимался орать так, что вспухали вены на висках. Он вопил, стонал, бешено вращал зрачками, багровел, бледнел, потрясал кулаком. Все лицо Его покрывалось красными пятнами, слюни свисали до подбородка. Молодой человек пятился назад, извинялся, говорил, что, вероятно, произошло недоразумение, надевал плащ и убирался восвояси, предварительно подав ей знак: мол, еще увидимся, созвонимся.
Нередко подобное свидание оказывалось последним.
Впрочем, иногда юноши попадались смелые и уходить не спешили. Тогда отец распалялся еще сильнее, приходил в бешенство. Он размахивал руками, задыхался от злости, пинал ногами дверь, диван. Орал: «Он трахает мою дочь!.. Трахает мою дочь!!! Только и может, что трахать мою дочь!» Приходилось звать на помощь соседей, чтобы вытолкать Его за дверь.
Она ощущала себя совершенно обессиленной. Захлопнув входную дверь, бежала в свою комнату и сидела, прижавшись к стене, стиснув зубы, заткнув уши, зажмурив глаза, уткнувшись коленями в подбородок. Ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не знать. А отец все не унимался.
Она слышала, как Он ревет, спускаясь по лестнице.
Он останавливался на каждом этаже, набирал в грудь воздуха и орал: «Он ее трахает… трахает… только это и умеет… трахает мою доченьку!» Его вопли были слышны во всем доме. Двери отворялись, жильцы кричали: «Хватит! Вы знаете, который час?» Он отдавал им честь и шел дальше.
На каждом этаже история повторялась.
Оставшись наедине с любовником, она принималась кричать вдогонку отцу, будто тот мог ее слышать: «Я не твоя собственность! Оставь меня в покое! Я не твоя! Я ничья! Оставьте меня все в покое! Отстаньте от меня все!»
Юноша не понимал, чего она добивается, не мог взять в толк, что происходит, должен ли он уйти или остаться, сказать что-то в свое оправдание или промолчать, утешить ее или, наоборот, потребовать объяснений. Он нервно теребил ворот рубашки. Вскакивал и застывал посреди комнаты. Садился на постель. Как-то странно смотрел на нее. Она взрывалась: «Что ты на меня уставился? Отвернись! Ты что, первый раз меня видишь? Чего тебе надо? Что ты задумал? Молчишь? Боишься сказать правду?» Ответа не было, и она снова затыкала уши, потому что снизу по-прежнему доносились вопли отца. Казалось, это никогда не кончится. Он никогда не замолчит. Она вжималась в стену, словно желала исчезнуть, кануть в пустоту, спастись от Него раз и навсегда.
Наконец, прокричав страшную правду на каждой лестничной площадке, погрозив кулаком, пописав на улице между двумя автомобилями, застегнув ширинку, осыпав проклятиями всех, кто смеет трахать Его доченьку, отнимает у Него его девочку (О! Его любимую маленькую девочку!), вволю нарыдавшись у капота чужой машины, Он неспешно убирался восвояси. Консьержка закрывала окно и зычным голосом рассказывала своим дочерям про господина, который грязно ругался и писал на улице. Только тогда она вынимала пальцы из ушей, вытирала ладонью глаза, рот, поворачивалась к любовнику…
И не узнавала его.
Он был совершенно белым.
Белым.
Крошечным.
Он вдруг обесцветился и уменьшился. Стал слабым, нелепым.
Как он здесь оказался? Что она в нем нашла?
Он пытался ее обнять. Она начинала орать. Пусть он не трогает ее! Не смеет к ней даже прикасаться! Никогда! Он внушает ей отвращение. Раздражает своей неуемной страстью! Какая грязь! Грязь!
Пусть убирается. Она больше не желает его видеть. Ей все осточертело.
Почему все они к ней липнут? Все чего-то требуют. Она никому ничего не должна. Ничего ему не должна. И всем остальным. Она всех ненавидит. Все мужики отвратительны. Ей противны их руки, губы, члены… Пусть катится ко всем чертям! И она буквально выпихивала незадачливого любовника из квартиры, захлопывала дверь у него за спиной. Вот так-то! С одним покончено!
Ей не хватало покоя. Воздуха. Пространства.
Она задыхалась. Срывала свитер, рубашку. Отшвыривала в угол. Стягивала джинсы. Заворачивалась в покрывало. Голая. Абсолютно голая. Лежала на кровати и горько плакала. Ничего не получится. Никогда ничего не получится. Все одно то же, повторяла она, и слезы ручьями лились из глаз.
Она давала себе слово, что больше никогда Его не увидит, не подпустит к себе, не позволит ломать свою жизнь. Он специально все портит. С самого детства. Он всегда беззастенчиво вторгался в ее жизнь: Его девочка не смеет никого любить, кроме Него, своего папочки! Власть отца над ней была столь велика, что она выросла именно такой, как надо было Ему, а теперь вот изо всех сил пытается полюбить другого, всем сердцем, всем лоном, – и неизменно терпит крах, и всякий раз возвращается к Нему.
А Он только этого и ждал.
Он ведь тоже был одинок. Постоянно женился, делал детей налево и направо, а в результате оставался один. Он считал, что это в порядке вещей и не тяготился одиночеством, ведь у Него была дочь. Ни одна женщина на свете и в подметки не годится Его дочери.
Она нарочно припоминала все его выходки, скверные поступки, мелкие предательства. И мечтала о мести. Не видеть его больше! Пусть теперь Он поплачет.
Не отступать.
Она держалась, считала дни, недели. Сбивалась со счета.
Как поживает твой отец? Спасибо, хорошо. Вообще-то я его давно не видела, знаете, у нас последнее время как-то не складывается. Она произносила эти слова совершенно естественно. Веселеньким звонким голоском. Такой интонации она за собой не помнила. Все оказалось очень просто. До смешного просто. Сбросив с плеч тяжкий груз под названием «любимый папочка», можно вновь ощутить себя маленькой девочкой. Свободной маленькой девочкой. Почему же она так безумно Его любила? Да просто была беззащитной, как воробышек, вот Он и вертел ею как хотел. Больше Ему это не пройдет. Воробышек нынче стреляный. Не даст себя охмурить. Папочка, вы сказали? Я о нем даже не вспоминаю. Мне и без него неплохо живется. Особо не скучаю… А вы думали, я буду скучать? С какой стати! Я и без него не пропаду. Она упивалась собственной смелостью, бравируя вожделенной свободой. Хорохорилась изо всех сил.
И вдруг нежданно-негаданно, невесть откуда всплывала тоска по Нему. Незаметно пробиралась все глубже и глубже и взывала, взывала к Нему. Так губы тонущего тянутся из глубины к вожделенному воздуху.
И взывают, взывают к Нему.
Ненасытные, упрямые губы. Плачут, требуют. О папа, папочка мой! Где ты? Куда запропастился? Перед кем размахиваешь своими длиннющими руками? Кому с пеной у рта доказываешь свою правоту? Кому морочишь голову своими глупостями, воображая себя великим мудрецом?
Внутренний голос следовало задушить.
Она носилась по городу. Мчалась как ненормальная, без устали работая руками, ногами, языком. Молола всякий вздор, несла полную чушь. Громко и четко твердила встречным и поперечным, что все кончено. Все кончено. А по ночам снова возникал противный писклявый голосок. Его необходимо было душить. Она ворочалась в постели, повторяла: «Запомни: Он – подлец, подлец. Забудь Его! Забудь!» Но битва была проиграна: ей страшно Его не хватало. Себя не обманешь. Тело переставало слушаться. Она тянулась к телефонной трубке и едва успевала вовремя схватить себя за руку… Глаза искали Его в толпе. Ноги рвались к нему…
Ей становилось все труднее контролировать себя.
Она заводила нового любовника. Прижималась к нему. Сдави меня посильнее в своих объятиях! Я хочу раствориться в тебе, хочу, чтобы мы были неразделимы! Она рвала на нем волосы, кусала до крови. Я люблю тебя одного. Буду любить всегда. Тебя. Одного тебя. Забери меня, увези меня. Далеко-далеко. Она сходила с ума, теряла рассудок. Впечатывалась в него всем телом, желая оставить след, чтобы назавтра он не оставил ее одну. Ее мучил постоянный страх: вдруг он завтра уйдет и не вернется. Он ничего не понимал. Пытался ее успокоить. Опасался, что она его задушит. Она впивалась в его кожу своими ногтями, в его губы – своими зубами, сжимала его плоть своей плотью, его бедра – своими бедрами, терлась кожей о кожу до ссадин. Стремилась дать ему все блаженство, которое женщина способна дать мужчине. Ее губы изучили каждую клетку его тела. Я твоя – гетера, путана, рабыня. Наслаждайся мною, я вся для тебя. Только не уходи. Я зажму ногами твои ноги, и ты останешься. Не бросай меня, не бросай. Возьми меня с собой, возьми с собой. Ее неистовство казалось ему смешным. Умоляю, скажи, что любишь меня, что любишь меня больше всех на свете. Иначе жизнь потеряет смысл. Твоя любовь дает мне силы для борьбы с Ним… Любовник пожимал плечами, недоумевал. Девица попалась чрезвычайно экзальтированная!
Она неотступно следовала за ним, не давала ни малейшей передышки. Требовала постоянного внимания.
Он оставался с ней. И она, торжествуя, гордо шла рядом с ним, висла у него на руке. Счастливая собственница. Признанная госпожа.
Он позволял себя превозносить.
Она сопровождала его повсюду, из страха… Страха мучительного, упоительного. Летела к нему на волшебных крыльях страха, мчалась по воздуху, словно безумная, покачиваясь, шла ему навстречу, прижималась, успокаивалась, переводила дыхание. По ночам пыталась спрятаться в его теле, лежала, засунув голову ему под мышку, уткнувшись губами в его грудь, прикрыв глаза. Он молчал, не сдерживал ее, позволял боготворить свое тело, большое, крепкое, твердое. Обхватив его руками, она чувствовала себя в безопасности. Ей не нужны были слова. Она повторяла одну и ту же волшебную фразу, напевала ее, словно колыбельную, пытаясь убаюкать, успокоить себя. Прижимаясь губами к его груди, впиваясь зубами в его кожу, ногтями – в его плечи, обнимая бедрами его бедра, впитывая его тепло, она повторяла свое заклинание. «Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Я люблю тебя, люблю тебя», – твердила она, пока он брал ее на полу рядом с кроватью, прижав спиной к двери, опрокинув на сиденье автомобиля. «Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Возьми меня, возьми все, что у меня есть, забери меня, убей меня», – шептала она, сомкнув веки, словно ослепнув.
Он смотрел на нее в изумлении.
Почему она так за него держится? Она что, сумасшедшая?
Почему она так сильно его держит?
Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя… Она бормотала свое заклинание до полного пресыщения. До краев была полна любовью. Своей к нему любовью. Она ощущала прилив свежих сил всякий раз, когда сжимала его железной хваткой, когда он забывался в ее объятиях, ронял голову ей на грудь, его руки и губы сдавались на ее милость. И, сломив сопротивление, усыпив его потоком нежностей, она устремлялась вперед, впивалась зубами, вонзалась ногтями, проникала в самый мозг, стремясь очистить его от посторонних мыслей, подпитывалась его силой, управляла его руками, ногами. Он не имел ничего против. Повсюду таскал ее за собой. Повиснув у него на шее, она победно взирала на окружающий мир. Отныне она не боялась встретиться лицом к лицу с Ним.








