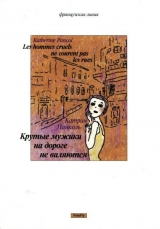
Текст книги "Крутые мужики на дороге не валяются"
Автор книги: Катрин Панколь
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Вероятно, такое поведение его удивило. Он побежал за мной, догнал, вручил потерянный салат и пригласил выпить кофе у Забара.
– Увидишь, это настоящее кафе, как в Париже…
– Хорошо, – буркнула я и последовала за ним.
В тот вечер он был совершенно свободен. Мы выпили кофе и пошли ужинать в кафе «Люксембург». Пакеты с продуктами в такой обстановке смотрелись неуместно, и я оставила их в туалете. Он спросил, чем я занимаюсь. Я рассказала ему про Джо и про Ринга Ларднера. Ринг Ларднер вселял в меня уверенность. Выяснилось, что Алан этого имени не слышал.
– Все-таки вы, американцы, ничего не смыслите в литературе. Если бы французы не подсуетились и не откопали в ваших рядах Фолкнера, Фанте и Миллера, вы бы до сих пор читали одну Библию!
– Так ведь было что откапывать! – с улыбкой парировал он. – У французов просто нет своего Фолкнера! Современная французская литература ничем не примечательна.
Я не стала с ним спорить, и мы весь вечер проговорили о книгах. Он полагал, что французы слишком отдалились от своих галльских корней: от земли, диких кабанов, остролистов, друидов и лесных сказаний. Люди утратили связь с природой и потеряли себя, обуржуазились. Все события французской истории остались далеко позади – религиозные войны, революции. Писатели творят в халатах, держа перо у пупка, и не выходят из парижских салонов. Совершенно оторвались от жизни! Оказалось, что Алан был весьма продвинут в литературе. Он почитывал «Монд», неоднократно бывал во Франции и имел собственное представление о текущем литературном процессе.
– Благодаря колготкам я много путешествую…
Странный все-таки парень. Торгует чулками, шляется по романским церквам, изучает литературные нравы. Ему трудно приклеить ярлык. На мгновение я погрузилась в мечты, загляделась на его глаза, улыбку, разомлела, но быстро опомнилась и стала слушать, что он говорит. Еще немного, и я окончательно потеряла бы почву под ногами.
…А у них, америкосов, история совсем новенькая и прошлое недалекое: истребление индейцев, гражданская война, кровь, комплекс вины. К индейцам он относился с особым пиететом. Рассказал мне про последнего великого вождя по имени Текумсе, о котором я ничего не знала, и о кровавой резне 1890 года. Сообщил, что, если у него когда-нибудь будет сын, он назовет его Текумсе. Я чуть было не предложила ему немедленно заделать мне маленького мальчика с таким гордым именем, но вовремя прикусила язык. Он повел меня в «Редженси» на «Великолепных Амберсонов». Я следила, чтобы наши колени случайно не соприкоснулись, чтобы в моем голосе не зазвучали кокетливые нотки, а локти твердо лежали на подлокотниках. Я даже отказалась от попкорна, чтобы наши пальцы случайно не столкнулись в недрах маслянистого пакета…
В полночь я на прощание протягиваю ему руку. Завожу речь о том, что теперь нам гораздо проще общаться, что нам следует быть друзьями, так будет лучше для нас обоих.
– Понимаешь, – с улыбкой добавляю я, – амплуа друга дается мне легче, чем амплуа подружки. Вот увидишь, какой замечательный из меня получится друг. В следующий раз я принесу тебе «Стрижку» Ринга Ларднера…
Я говорю это совершенно искренне. Я счастлива. Вечер был чудесный. У Алана тоже довольный вид. Он предлагает немного проводить меня, и я соглашаюсь. Ночь стоит великолепная. Некоторое время мы молча шагаем вдоль парка, потом я смотрю на часы и говорю, что мне пора. Я уже взмахиваю рукой, чтобы поймать такси, и тут он хватает меня за рукав пальто, притягивает к себе и целует. От этого поцелуя у меня начинает кружиться голова.
Я в изумлении подаюсь в сторону, а он смотрит на меня, накрывает ладонью мои глаза, снова прижимает к себе и шепчет:
– Только одна ночь, хорошо? И больше ничего, о’кей?
Я зажмуриваюсь под его рукой и говорю: «Да». Да, будь что будет. Просто для удовольствия. Я согласна.
Растеряна, но согласна.
Квартира у него огромная и кажется совершенно пустой: белые стены, картины, лежащие повсюду, прямо на полу. Папки. Книги, альбомы с выставок, диски. Вся коллекция Билли Холлидей. Повсюду витает аромат свежести: запах клея, дерева, паркетного покрытия. Штор нет, и неоновая реклама пленки «Фуджи» вспышками прорывается в гостиную. Он кидает ключи на комод, хватает меня, из гостиной, куда я робко ступила, тащит в спальню, швыряет на кровать и наваливается на меня всем своим весом.
Целует, не говоря ни слова. Затыкает мой рот поцелуем, чтобы я тоже молчала, но мне и так не до разговоров, я слишком удивлена и напугана. Одной рукой он начинает меня раздевать, а другой крепко прижимает к кровати, словно я сейчас вырвусь и убегу. Приподнимается на локте, расстегивает брюки, снимает их, стаскивает трусы, расстегивает рубашку – и хватку не ослабляет. Я не вижу его глаз, такое впечатление, что он избегает моего взгляда. Животное желание и только сквозит во всех его жестах. Он стискивает меня еще сильнее, резким, грубым движением раздвигает мои ноги и берет меня. Я – его пленница. Я – заложница, с которой он может делать все что вздумается. Придавленная его тяжестью, я обвиваю руками его шею и покорно отдаюсь ему. Он буквально вколачивает меня в кровать, раскидывает в стороны мои руки и ноги, а сам превращается в один большой клубок желания, который, дрожа, перекатывается по моему телу. Из моей груди рвутся придушенные стоны. Я задыхаюсь. Меня уносит течением. Я вся во власти силы, которая полностью меня подчинила, увлекла в пучину, которой хочется отдаться без остатка, вручить все самое лучшее, что во мне сокрыто… но я вовремя спохватываюсь. «Физическое притяжение и ничего больше», – напоминаю я себе.
В эту минуту он так от меня далек…
Я едва смею провести пальцем по телу Алана, боясь спугнуть его, опасаясь, что он примет мою ласку за собственнический жест. Мне некуда девать руки, и я снова обвиваю его шею, только бы не позволить себе ничего лишнего, не дать потоку нежности хлынуть наружу. Я забываю, с кем я. Забываю, как долго я его ждала, как при каждом его звонке меня бросало в дрожь.
Меня трахает незнакомец.
Он кусает меня, терзает мое тело длинными сильными пальцами. Я извиваюсь, вонзаюсь в него ногтями, но не позволяю себе кричать, судорожно сжимая зубы и впиваясь пальцами в его спину. Все происходит в полной тишине. Алан так сильно давит на меня всем телом, что я отлетаю к спинке кровати. Он вцепляется в прутья и до боли впечатывает меня в матрас. Бедрами парализует мои движения, локтями жмет на руки, грудью давит на груди. Будто хочет стереть с лица земли. Я не противлюсь, позволяю ему продемонстрировать свою жесткость. И, когда при последнем толчке он исторгает стон и падает рядом со мной, я говорю себе, что на сегодня война закончена… а я отыграла очень важное очко, несмотря на то что все его тело сопротивляется и отказывается давать мне место.
И, когда позднее он предлагает мне переночевать в соседней комнате, я молча киваю, собираю вещи и выхожу.
Наша первая ночь…
За ней последовали другие, такие же животные и бессловесные. И я так же каждый раз собирала вещи и возвращалась к Бонни.
Ни слова не говоря.
Я шагала одна в нью-йоркской ночи, ощущая удивительную легкость и радость. Мне казалось, что я пробила в неприступной крепости брешь, которая с каждым днем становится шире. Я была спокойна и уверена в себе. Спешить мне было некуда. Его, похоже, смущало, что я отказываюсь спать у него в соседней комнате. Он бурчал в полудреме, что ему не по себе, когда я так поздно одна хожу по улицам. «Пусть это тебя не волнует», – шептала я ему на ухо и выходила.
Я знала, что очень скоро это станет его волновать, что я понемногу отвоевываю себе место рядом с ним и он будет думать обо мне, представлять, как я ловлю такси в ночи, рискуя подвергнуться нападению. Мне нравилось доставлять ему беспокойство. Я с удовольствием играла на англосаксонском комплексе вины, свойственном белым образованным мужчинам.
Мы виделись все чаще. Он все охотнее рассказывал о себе, но я не пыталась воспользоваться ситуацией, просто слушала и помалкивала. Я его приручала. Он должен был осознать: мне можно доверять, я ему не враг. Мне был ведом страх белого мужчины перед белой женщиной. Глубоко засевший страх американца. Недаром между собой они называют женщин tough cookies [45]45
Черствое печенье.
[Закрыть], когда по вечерам, сидя в барах, обсасывают свои поражения. Этот страх заставляет их среди ночи вылезать из постели и бежать без оглядки.
И даже в тот день, когда Алан небрежно швырнул мне второй комплект ключей и предложил переселиться к нему, он сказал следующее:
– Только имей в виду: это чисто дружеское предложение, просто у меня удобнее будет работать, чем у Бонни, да и до университета отсюда ближе. Но наши отношения останутся прежними, договорились?
Я кивнула. Теперь я на все соглашалась. Я перевезла к нему свои пожитки, машинку, диски Гленна Гулда. Старалась вести себя деликатно, не занимать много места, но терпеливо, упрямо и методично продолжала наступление. Когда звонили его подружки, я брала трубку, спрашивала, что передать, обещала, что он перезвонит, и враждебности не выказывала. Мы жили теперь в одной квартире, но не вместе.
– I don’t want to be involved [46]46
Я не хочу себя связывать.
[Закрыть], – повторял он после очередного откровения. – Любовь изобрели женщины, чтобы водить нас за яйца. Сначала они любят тебя за то, что ты настоящий мужчина, а потом упрекают в том, что ты гнусный самец. Я совершенно не понимаю женщин…
Он дважды доверялся женщинам и оба раза бывал обманут.
– Попадался, как крыса в мышеловку. Сначала они любят тебя таким, какой ты есть, потом за то же самое ненавидят. И перемена происходит так быстро, что ты ничего не успеваешь понять. Ты все тот же, а они вдруг начинают смотреть на тебя как солдат на вошь. А если попытаешься разобраться, будет еще хуже – тебя попросту возненавидят.
Я слушала. Слушала и почти узнавала в этих женщинах себя. Сколько раз я молила мужчину о любви, а потом прогоняла за то, что он слишком меня любил. Сколько раз бросала того, кого прежде боготворила! Бедняга был совершенно уничтожен, ничего не понимал и не мог понять, потому что я сама себя не понимала.
Из каких глубин возникает этот неискоренимый страх, от которого все внутри переворачивается, так что я становлюсь сама на себя не похожа и ненавижу себя еще сильнее, чем бывшего любовника?
Откуда приходят отвращение и усталость?
Я слушала рассказы о женщинах, которых он любил, и временами мороз пробегал по коже – до чего же много у меня с ними общего.
Мы никогда не договаривались о встрече. Иногда он по вечерам приходил ко мне, а иногда – нет. Случалось, мы спали вместе, а иной раз я слышала только бряканье ключа в замочной скважине, звук шагов в коридоре, звон падающей на комод связки, позвякивание о журнальный столик извлекаемой из кармана мелочи и наконец шум падающих на паркет ботинок.
Потом он, вероятно, дочитывал газету, растянувшись на кровати, потому что краны в ванной открывались несколько позднее. Порой было слышно, как он шлепает на кухню. По хрусту льдинок в стакане я догадывалась, что он наливает себе виски. Он включал музыкальный центр, и глухой голос Билли Холлидей разрывал ночь: «The difficult I do it right now, the impossible will take a little while» [47]47
Трудное я совершаю уже сегодня, а невозможное осилю через некоторое время.
[Закрыть]. Я вздрагивала, принимая эти слова на свой счет. Трудно было не броситься в его объятия, не потребовать у него любви. Так мы и оставались каждый сам по себе, разделенные тоненькой стенкой…
А невозможно… Невозможно было все остальное. Научиться любить его так, чтобы не погубить и не измучить. Научиться любить. На это, разумеется, уйдет немало времени.
Лежа на двуспальной кровати, скрестив руки на животе и прижав колени к подбородку, я превращалась в клубок желания. Как же я его хотела… Я с трудом сдерживалась, чтобы не прийти к нему и не прошептать: «Не бойся, я люблю тебя и не причиню тебе зла». Но я и сама не была в этом уверена.
А девицы все звонили. Былые стервы, ставшие попрошайками. Но не Мария Круз. На том конце провода ни разу не зазвучал ее голос. Я отвечала на звонки. Была любезна и исполнительна. Принимала сообщения, записывала номера телефонов, протоколировала жалобы барышни, покинутой после совместно проведенного уикенда, и юной особы, звонившей в третий раз, но так и не удостоенной ответного звонка. Я чувствовала, что мое присутствие их раздражает, что все они задаются вопросом, как долго я еще буду здесь торчать и терпеть их наглые звонки. Они ожидали, что я не выдержу и устрою Алану сцену, но я твердо решила не сдаваться.
В конце концов он сам должен сделать выбор. Это его жизнь.
Даже Бонни Мэйлер удивлялась моей несгибаемости и в конце концов пожелала выяснить, что к чему. Однажды вечером она позвонила мне и пригласила на выставку в центре города. Выставлялся один из тех художников, которые в мгновение ока становятся знаменитыми, явив миру загадочную инсталляцию. Берется, например, телевизор, обливается кетчупом и взрывается, потом второй, третий, и в результате искусствоведы и критики часами простаивают перед вереницей исковерканных, обгаженных телевизоров, пытаюсь постичь глубины художественного замысла.
Бонни еще похудела и очень этим гордилась. «Я теперь специально встаю на встречах с клиентами, чтобы все видели, какая я стала стройная, – победно объявила она. – Забавно, правда?»
Мы расхохотались. Было видно, что я вновь обрела ее уважение и она снова воспринимает меня как равную, как подругу. Наверное, Алан ей про меня рассказывал.
Раз он говорит обо мне с другими, значит, я ему не безразлична…
Это успокаивало.
И все-таки временами меня одолевали сомнения в том, что я замечательная, что я лучше всех. Казалось, я хожу вокруг сейфа, не имея ключа. Я снова боялась быть брошенной.
Однажды мы ужинали у Рауля и, разгоряченные бутылкой славного бордо, позволили себе расслабиться. Я даже положила руку на его ладонь и принялась легонько поглаживать, что было несоизмеримо интимнее секса. И вдруг Алан сказал, что хочет попросить меня об одной услуге. Сердце в груди так и подпрыгнуло. Конечно, я выполню любую его просьбу. Сейчас я докажу ему, что всегда приду на выручку в трудную минуту, всегда буду рядом и для меня не существует ничего невозможного. Разумеется, вслух я ничего подобного не произношу, но, поглаживая пальцы его левой руки, лежащей на клетчатой скатерти, думаю только об этом. Если он хочет доказательств того, что я люблю его больше всех на свете и даже больше самой себя, он эти доказательства получит.
– Понимаешь, у меня есть подруга, она живет в Бостоне… Мы с ней редко видимся, потому что она замужем…
– Да, я знаю, Присцилла. Высокая красавица-блондинка…
Она действительно очень красивая. Однажды я разбирала его старые альбомы, и он показал мне ее фотографию. Меня не испугало, что она так хороша, потому что в Бостоне у нее муж и трое детей.
– Да, Присцилла. Мы с ней недавно виделись и… в общем, она решила развестись с мужем… и на неделю приедет в Нью-Йорк, как раз на Новый год. И я… и мне бы хотелось, чтобы тебя в этот момент не было, потому что, понимаешь…
Я все понимаю. Я, конечно, в полной отключке, но понимаю. Едва дышу, но из последних сил понимаю. Я чуть не перестала гладить его руку, но заставляю себя продолжить, стараясь не выдать разочарования. Поглаживаю мягко, по-дружески тыльную сторону его ладони и так же мягко и по-дружески отвечаю, что это не проблема, я перееду к Бонни. Или еще куда-нибудь.
Пусть помучается, подумает, к кому еще я могу переехать.
Ему и в голову не приходит, что он делает мне больно. Я так умело притворяюсь, что он даже начинает рассказывать мне о Присцилле. Они провели вместе незабываемый уикенд – перед тем, как он впервые увидел меня у Бонни Мэйлер, а потом решили дать себе три месяца, чтобы проверить, действительно ли они любят друг друга, и только потом увидеться снова. И вот, похоже, их чувства действительно крепки, потому что Присцилла позвонила и сообщила, что прилетает в Нью-Йорк встречать с ним Новый год.
– Тот уикенд был просто восхитительный… Знаешь, она необыкновенная. Я хорошо знаю ее дом, знаком с мужем, детьми. Мне все в ней нравится. Это именно то, чего я искал. Она работает, независима. Окончила консерваторию, была лучшей на курсе…
Я его не слушаю. Я снова натягиваю маску. Знакомая боль проснулась внутри, и вкус к жизни улетучился в одно мгновение. Я киваю, а про себя считаю: 4, 5, 6, 7, 8, 9, чтобы не застонать и не погубить все, что мне с таким трудом удалось создать за прошедшие недели. Устремив взгляд в себя, я жду, когда приступ боли пройдет. Мне не впервой, я знаю, что потом будет легче. Внутренне сжавшись, я терпеливо жду. В эту минуту я совершенно отрезана от мира, глуха и слепа ко всему окружающему. Восприятие притупилось: для меня больше не существует ни Алана, ни звона посуды, ни раскрасневшихся от бега официантов, снующих от столика к столику, ни капелек пота на их лбах. Мне даже странно, что люди могут так суетиться, когда внутри у меня – ледяная пустыня. Так вот что такое любовь! Это действительно бесконечное возвращение к началу. И старая боль, которая при первом же удобном случае начинает бодренько сверлить изнутри. Боль, страх, бешенство от сознания собственного бессилия и полной незащищенности. Ну за что? Почему? Стоит мне изменить линию поведения, вырваться из замкнутого круга – и я оказываюсь у разбитого корыта… И вдруг раздается громоподобный голос Чертовки. Оно откровенно кайфует, прямо-таки тащится от всего происходящего, заходится от смеха. Мои попытки стать лучше всех кажутся ей нелепицей. «Такая жизнь – не для тебя. Сколько раз повторять, что ты не создана для одного-единственного мужчины? Твой удел – наслаждение, а оно повсюду, животное удовольствие, от которого крыша едет… Не морочь себе голову. Посмотри, на какую жизнь ты себя обрекла, чтобы ему понравиться. Неделями живешь как монашка. Избегаешь всех радостей жизни. А что в остатке? Принудительное возвращение на старт! Ты бежала, выбиваясь из сил, а на самом финише тебя легко обошла тромбонистка с тремя младенцами под мышкой! Получила, подруга? Поделом тебе! Ты пыталась ради него изменить себя, а он решил изменить тебе. Хотела завершить дистанцию с колечком на пальце, а осталась с носом!»
Я затыкаю уши и продолжаю считать. Главное – не выдать своих эмоций, не расплакаться, не начать умолять, чтобы он взглянул на меня, не закричать, что я люблю его и не понимаю, почему я больше ему не нужна. Это несправедливо!
– …они с мужем уже довольно давно живут врозь, а теперь она дала ему понять, что хочет официально развестись…
…23, 24, 25, 26… она просто убивает меня, эта чертова Присцилла, корнетистка-пистонистка, мать троих детей, в доме которой пахнет ореховым пирогом и мастикой, а на окнах красуются занавески в цветочек. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, да чихать я на нее хотела. Отныне буду ловить кайф на каждом углу и даже пальцем не пошевельну ради какого-нибудь одного придурка… 34, 35, 36, 37, 38, 39, и как мне только в голову пришло стать чьей-то постоянной подружкой?
Белое мясо на тарелке обволакивается белым соусом, превращаясь в неаппетитную белесую кучу. Я дую вино бокал за бокалом, жду, когда голова закружится, а боль немного стихнет. Я больше ничего для него не значу. Я – ничто. Одной небрежной фразой он вымел меня из своей жизни, отбросил далеко назад. Я из последних сил стараюсь сохранить лицо. Перестаю гладить его пальцы… и тянусь за сигаретой. (Полное алиби.) Говорю, что весь день трескала сладости и больше не в состоянии что-либо есть. Делаю все, чтобы ужин поскорее закончился и я, очутившись в кровати, могла наконец выплакаться.
Я не отказываю себе в удовольствии от души пореветь. Слезы текут водопадом, хоть простыню выжимай. Плачу молча, засунув в рот кулак, скукожившись в постели, а за тонкой стенкой спит он, спокойный и довольный. Еще бы, такое удобство под боком: и потрахаться можно, и душу излить, и комплексами своими поделиться – как говорится, три в одном. Я подвожу баланс: вспоминаю, как готовила ему деликатесы, покупала альбомы у Риццоли, кашемировые свитера от «Брукса», диски от Сэма Гуди, и засыпаю, прикидывая, какие сумасшедшие деньги инвестировала в проект, оказавшийся убыточным.
Назавтра я дождалась, когда он уйдет на работу, встала с постели с опухшими красными глазами («После тридцати плакать категорически нельзя, – повторяла Бонни Мэйлер, – это очень вредно для кожи») и собрала вещи.
Я отправилась жить на Форсайт-стрит, к ясновидящей по имени Рита.
Риту я застаю за работой, она гадает начинающей кинозвезде, которую шантажирует хахаль, грозясь продать «Нью-Йорк Пост» подборку порнографических фотографий. Бедная девушка согласилась сняться ню в самом начале своей карьеры, когда умирала от голода, а теперь подписала баснословный контракт с «Диснеем», и вот… Рита пытается успокоить клиентку, говорит ей о Боге и о том, что девятка пик, предвестница несчастий, не выпала ни разу.
– Не волнуйтесь, он этого не сделает. Карты легли хорошо, ваша карьера пойдет вверх. Никаких препятствий на вашем пути я не вижу. Он просто угрожает вам на словах. Бог накроет вас своим крылом. Вы когда-нибудь молитесь Богу?
Старлетка шмыгает носом, извлекает из кармана белый квадратный платок и пытается подцепить ногтем упавшую на него контактную линзу. Ей некогда молиться, она бегает по просмотрам: Бродвей, реклама, фотосъемки для журналов и все такое, где взять время на молитвы? И куда, черт возьми, подевалась эта дурацкая линза, которая так дорого стоит!
– Бог ведь повсюду… и если бы вы почаще вспоминали о нем, с вами бы не происходили такие досадные вещи.
Девушка обещает Рите, что будет молиться чаще, если фотографии действительно нигде не всплывут. «И если найду эту чертову линзу», – бурчит она, разглядывая платок. Рита авторитетно замечает, что подобные сделки с Господом не проходят, он компромиссов не терпит, ему либо все, либо ничего. Старлетка бормочет что-то невразумительное, теребя пуговицы розового вискозного пальтишка с Микки-Маусами.
– Кроме того, вас защитят…
– Бог?
– Нет. Пожилой мужчина.
– Мой папа, – заключает девушка, расплываясь в улыбке.
При этих словах слезы градом катятся из моих глаз. Я проклинаю небеса. Что Он там себе думает, мой папочка? Почему Он меня не защищает? Всю жизнь пренебрегал мною, а теперь скорефанился с Жуликом и искуплять вину перед своей доченькой не спешит!
Я отправляюсь рыдать за занавеску, которая отделяет профессиональную жизнь Риты от частной, открываю морозилку и достаю мороженое. Закончив гадание, Рита застает меня всхлипывающей над стаканчиком.
– Ты опять за свое? Что на этот раз?
– У Алана есть подруга, настоящая, кларнетистка… Он хочет на ней жениться и усыновить ее троих детей. Все кончено. Кончено!
Рита пожимает плечами.
– Я же сказала, что тебя ждет великое счастье. Потерпи немного, и оно само тебя найдет. Все вы одинаковые, спешите куда-то, как ракеты!
– Я хочу Алана, мне никто другой не нужен!
– Тебе что, четыре года?.. Высморкайся.
– И мороженое у тебя ужасное! Соленое какое-то!
– Ничего оно не соленое! Это ты его обрыдала!
Так я поселилась у Риты, на Форсайт-стрит. Слушала из-за занавески откровения ее клиентов. Они рассказывали такие вещи, что у меня волосы дыбом вставали. Какое только дерьмо не всплывало на свет божий! Я поняла, почему Рита так держится за свою пластиковую Мадонну. Секс, бабки, кровавая вендетта, ухо за ухо, член за член. Владельцы кафе, подворовывавшие себе на героин, боялись быть пойманными на месте преступления. Неверные жены хотели получить развод и вдобавок отхватить нехилые алименты, чтобы содержать ленивого, нищего любовника. Дети выбивали из предков завещание, а потом запихивали их в грязные дома престарелых. Старые покинутые любовницы замышляли страшную месть при помощи отрезанных в полнолуние волос и серной кислоты. От подобных откровений меня тошнило, но я продолжала сидеть за занавеской, словно завороженная потоком гнусностей.
Рита выходила от клиентов измученная, потерянная, вымотанная до предела. Он падала на диван и лежала, обмахиваясь китайским веером из переливающихся павлиньих перьев. Я готовила ей картошку дофине с молоком, маслом и сыром – она любила плотно поесть, – шоколадные муссы, клецки, фермерских кур, за которыми приходилось ездить на угол Первой авеню и Пятидесятой, к мяснику по имени Фриц, у которого была лучшая птица в городе. Курятина с румяной картошкой в соусе нравилась Рите больше всего, она потом долго облизывала пальчики. Я суетилась на кухне, отмахиваясь от призывов Чертовки, которая постоянно ко мне цеплялась. Предлагала вечерком сходить в «Палладий», в «Боттом лайн» или просто в пивнушку. «Да куда угодно, лишь бы мужичков кругом побольше», – шептала она мне на ушко. «Поснимаешь красивых самцов, которым только одного и надо…»
Отбиваясь от приставаний Чертовки и стараясь не слышать рыданий хлопочущей у плиты С-леденцом, я боялась окончательно упустить из виду Замечательную девушку, которой собиралась стать.
И все-таки я держалась.
Убеждала себя, что если с Аланом не получилось, то можно попробовать стать замечательной для кого-то еще. Если начать пасовать при первых же трудностях, ничего не добьешься. «The difficult I do it right now, the impossible will take a little while».
Рита утешала меня как могла, предсказывала приход Принца и торжество любви. Мне оставалось одно: ждать.
Готовить. Работать над книгой.
Подбирать слова.
Ездить в университет.
Сочельник я отмечала вдвоем с Ритой. Приготовила праздничную курицу с картошкой. Настроение у меня было совсем не радостное. Новый год мы встречали у телевизора. «Шесть, пять, четыре, три, два, один… – орал репортер на экране. – Новый год настал! Happy New Year!» [48]48
Счастливого Нового года!
[Закрыть]Рита повисла у меня на шее и наобещала кучу всего хорошего. А я все думала про Алана и его цимбалистку, представляла себе, как они вместе встречают Новый год. «Happy New Y-ear!» – сигналили автомобили. Люди на улицах обнимались. Поздравляли друг друга. Пусть все плохое останется в старом году. С Новым годом! С Новым счастьем! Водители опускали стекла машин, душили друг друга в объятиях и распевали: «Мы не прощаемся, все впереди». Рита подхватила новогоднюю песенку, я не знала английских слов и стала подпевать по-французски. Я пела и вспоминала папу, его последний сочельник с устрицами, сотерном, шампанским и сигарой… А почему бы, собственно, не поплакать по этому поводу? Мне вообще нравится плакать, и я не собиралась прекращать это восхитительное занятие в новом году.
Все последующие дни мне было грустно, плохо и безнадежно.
И все-таки однажды вечером…
Джо, который давал мне почитать Ринга Ларднера, пригласил меня послушать Диззи Гиллеспи в нижней части города, на Седьмой Южной авеню. Заведение оказалось вполне приличное, джазовое, продвинутое. Мы весь вечер пили водку с тоником. Джо говорил о литературе, о высоком вдохновении и низкой прибыли. Я подумала, что, может быть, он и есть Мужчина, которого я жду. На всякий случай я даже надела зеленую блузку. Мне надоело быть одной. Осточертело. Необходимо было хоть что-то разделить с другим человеком, все что угодно, пусть даже телепередачу для самых тупых или фермерскую курицу.
Я положила голову ему на плечо и закрыла глаза.
И очнулась у него дома. Он поставил диск Гиллеспи. Я снова уткнулась головой в его плечо. Отдала в его полное распоряжение свои руки, губы, груди, ноги. Мне было все равно. Просто хотелось любви. Наверное, и Алан в эту минуту гарцует на своей контрабасистке. Я позволила Джо увлечь себя в спальню, лечь сверху и со страстью накинуться на мое тело.
Я лежала неподвижно и безучастно.
Чертовка кусала локти, орала мне в ухо, что надо бы шевелиться пошустрее, вести себя поактивнее, что таким образом я ничего не добьюсь… «А чего я вообще могу добиться?» – спрашивала я ее, пока Джо пыхтел над моей левой грудью. У меня и так ничего не выходит… Мои отношения с мужчинами неизбежно оборачиваются катастрофой.
Рано утром, отодвинув Джо, спавшего прямо на мне поперек кровати, я нащупала на полу свои носки, мини-юбку, пальто. Стерла краешком простыни подтекшую тушь, поймала такси и успела залезть под одеяло до пробуждения Риты.
Все в моей жизни не так. Это было последнее, о чем я успела подумать, прежде чем погрузилась в сон. Точнее, предпоследнее… потому что потом я решила вернуться в Париж, где меня ждали собственная квартира, друзья, собака по имени Кид, Тютелька с ее манией все а-на-ли-зировать, Тото со своей бородавкой. По крайней мере, они меня действительно любят, и я их тоже, и быть рядом с ними куда интереснее, чем шляться по этому городу, где все больны на голову и смертельно боятся любви.
А наутро позвонил Алан. Он потратил два дня на мои поиски. В конце концов Бонни посоветовала ему заглянуть к Рите, и он нашел в телефонном справочнике ее номер. Ему необходимо было срочно меня видеть.
– Что ты будешь делать через полчаса? – спросил он.
– Да ничего, – ответила я.
– Тогда я сейчас приеду.








