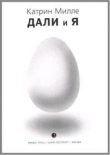Текст книги "Бурвиль"
Автор книги: Катрин Клод
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Если мадам Бурвиль не пошла по этому пути, то, наверняка, прежде всего потому, что не испытывала к этому никакой тяги. И, главное, не в обиду ей будет сказано, не этого ждал от нее муж. Потому что поспевать за Бурвилем при его возвышении -значило идти рядом с ним, помогая ему сохранять в себе человека, вопреки профессии, которая грозит его уничтожить.
Это на ее долю выпало оберегать семейный очаг, где муж мог бы заново обретать себя. И поскольку у него не было возможности в желаемой мере посвящать себя воспитанию детей, посвящать им себя вдвойне – и за него и за себя. Воспитание детей – проблема нелегкая вообще. Она особенно тяжела для семьи, где отца почти никогда нет дома, как бы он ни старался компенсировать свое отсутствие подчеркнутым вниманием в те редкие моменты, когда он дома. Жене актера приходится заниматься детьми за отца и мать одновременно. Именно так поступила и мадам Бурвиль. Восхитительная не только своей нежностью, но и силой материнской любви, она, можно сказать, одна воспитывает детей и руководит их учебой. Она повторила забытые учебники, изучила совершенно новые, незнакомые ей, чтобы стать просвещенным наставником своих сыновей.
Это достойная женщина, чей портрет дополняет и завершает портрет достойного мужчины – ее мужа.
Актер и человек
Итак, Бурвиль в жизни – в некотором роде двойник персонажа, которого он играет на сцене и экране. Поэтому публика не ошибается, когда объединяет обоих в один символ. И я остановилась на некоторых штрихах его личной жизни отчасти потому, что это, наверное, интересно тем, кто хотел бы проверить свои впечатления. А отчасти, и главным образом, потому, что между актером и человеком существует взаимозависимость. Он потому такой актер, что он такой человек. И все же редко взаимосвязь бывает столь крепкой, как в данном случае. До такой степени, что кажется, будто Бурвиль не играет, например, когда он снимается в сцене из повседневной жизни (разумеется, совсем другое дело -характерные роли!). Поскольку в кино роль отрабатывают план за планом, за несколько минут до съемки видишь, как актер сосредоточивается, чтобы «вжиться» в свой персонаж. Это происходит и с Бурвилем. Но чаще всего он бросает свою реплику с ходу, сразу находя правильный тон и жесты. Случается, уже перед самым сигналом «тихо, снимаем» он шутит, заканчивает начатый разговор и – хоп! – при стуке хлопушки он уже в своей роли. И тогда замечаешь, что ему не приходится менять голое, выражение лица, позу, чтобы найти нужную интонацию, он вошел в кадр из наплыва. Потому что во всех ролях, близких ему по духу, Бурвилю достаточно одного – быть самим собой. В результате, увидев его в кино, вы узнаете, каков он в жизни.
Из этого, однако, не следует делать вывод о полном тождестве актера и его персонажа – славного малого, который зачастую бывает одурачен или побежден. В жизни с ним не бывает ни того ни другого. Как мы видели, в жизни он твердо придерживается своей линии поведения. И точно так же, как он защищает свое семейное счастье, не позволяя профессии разбить его, так он умеет защищаться и в своей профессии -втором слагаемом его счастья. Он не из тех, с кем можно поступать как заблагорассудится. Будучи реалистом, он знает, что не надо бояться столкновений с жизнью и людьми, как это ни трудно... При этом он не делает горьких обобщений о человечестве, но учитывает это в своей жизненной практике. Мне кажется, его довольно хорошо характеризует одно народное выражение: не трогайте его, и он никого не тронет. Но если его "тронуть", он даст отпор... Его добродушие никогда не переходит в глупость. Надо учесть, что Бурвиль-человек отличается от своего излюбленного персонажа еще и тем... что он актер. И что даже если он и не выставляет этого напоказ, он всегда движим той страстью, которую мы подметили у него еще в молодости. Односельчанин Бурвиля, который говорил про пятнадцатилетнего Андре Рембура, что у этого парня не все дома, раз он бегает на вечеринки и распевает песенки, а не добивается, как старший брат, солидного положения в обществе, конечно, теперь уже думает о нем иначе, поскольку Бурвиль-актер зарабатывает миллионы. Тем не менее все осталось по-прежнему. Просто, добившись удовлетворения своей настоятельной потребности играть, он, не став благоразумнее прежнего, уже не вызывает укоров в неразумии. Раз Бурвилю "повезло" и он "преуспел", его стремление удовлетворить свою страсть уже не кажется безумием.
Если же он приемлет жизнь, которая, как ни старайся, неизбежно лишает его многого, что ему любо-дорого, значит он по-прежнему движим страстью. Но при всем том, что он поразительно степенный человек и старается удерживать ее в границах разумного, страсть бушует в нем по-прежнему.
Все та же страсть
Приступив к этой книге, я заготовила ряд вопросов, на мой взгляд, «коварных», поскольку их цель – получить от Бурвиля ответы, предоставляющие возможность для интересного толкования. С Бурвилем такой прием ничего не дал, или, скорее, мои вопросы лишь подтвердили тождество того, кого он играет, с тем, кто он сам.
Но в числе этих вопросов был такой: намерены ли вы, подобно многим актерам, уйти в отставку в какой-то момент вашей карьеры или, как Мольер, умереть на подмостках? Интересен не столько ответ, о котором я могла бы догадаться и сама, сколько удивление, отобразившееся на лице Бурвиля, -словно такого вопроса для него никогда не существовало. И теперь я думаю, до чего же он добрый человек, если не послал меня к чертям со словами: "Вы спрашиваете меня такие глупости, а еще вознамерились писать обо мне книгу!" Но он не только очень любезно мне ответил, но и попытался втолковать, что так вопрос вообще не стоит. Не помню слов, но сдержанным голосом, медленно, нерешительно – так, как говорят о вещах, дорогих сердцу, – он объяснил, что профессия актера отвечает всем чаяниям его жизни, что он просто не мыслит себе жить и не быть актером. И если ему не придется больше играть, это будет равносильно тому, что больного астмой лишить кислорода... И, разумеется, он надеется "умереть на подмостках", как Мольер. Это более, чем надежда, – это веление жизни.
Играть, играть всегда – в этом заключается для него безмерное счастье... Быть актером и все больше совершенствоваться в своем мастерстве. Тут не обходится без недоразумений с публикой. "Все-таки жаль, – сказал один из его поклонников, – что такой крупный актер порой выступает в посредственных вещах". Что правда, то правда. И мне кажется, тут требуются объяснения.
Когда в фильме (или пьесе) посредственного содержания публика видит актера, которого считает крупным, она находит простейшее объяснение – по ее мнению, актер пошел на уступку, прельстившись деньгами. Говорят: "Он играет в чем попало, без разбора". Подразумевая: ради денег. Как для кого, но для Бурвиля вопрос о деньгах никогда ничего не решает. Прежде всего следует подчеркнуть, что, читая сценарий, зачастую трудно угадать, каким получится фильм. Тут слишком много привходящих обстоятельств, слишком много людей участвует в этой "кухне". Когда-то Марсель Паньоль потребовал сжечь фильм, режиссером и продюсером которого был он сам. Он предпочел потерять огромные деньги, нежели выпустить на экраны халтуру, хотя, когда он согласился его снимать (и финансировать), надо полагать, сценарий казался многообещающим. Незачем говорить, что, как правило, продюсеры выпускают на экран все финансируемые ими фильмы, дабы вернуть вложенные капиталы, а если они не удались – тем хуже. Случается, уже на съемках все чувствуют, что фильм не удается. Однако в его производство втянуто столько людей, что приходится доводить дело до конца, на беду тех, кто за него в ответе, – режиссера, актеров.
Следовательно, из многообещающего сценария может получиться неудачный фильм, и, наоборот, тот, от которого чудес не ждали, вдруг загорается волшебным светом. Главное, надо понять, что актер рассматривает фильм или пьесу не так, как это делает публика или критика. Он прежде всего думает о своей роли, о том, что он может из нее сделать, как сможет проявить в ней свои способности. Несомненно, он обращает внимание на качество сценария, насколько его удается правильно оценить при чтении. Причем Бурвиль с его особым стилем исполнения никогда не согласился бы играть, например, в фильме Годара – режиссера чуждой ему школы, который адресуется к иному зрителю, нежели тот, кто составляет публику Бурвиля. Но главное не это. Фильм для Бурвиля – прежде всего роль и предоставляемая ею возможность проверить свои возможности, иными словами, сделать то, чего он еще не делал...
Например, мы говорим с ним о фильме "Веские доказательства", который я не принимаю, считая скверным: надуманные ситуации, отсутствие единства действия, просчеты в композиции и т. д. Бурвиль соглашается. Но я вижу – мы говорим о разных вещах. Ему важно, чтобы фильм отвечал каким-то требованиям его зрителя и позволял ему правдиво обрисовать – тут ничего не скажешь – проницательного, в известном смысле безупречного человека, который прячет свое великодушие, не выдавая его ни словом, ни жестом. Для Бурвиля этот фильм – победа, потому что ему удалась трудная роль или, по крайней мере, роль, предлагавшая ему такие трудности, с какими он еще не сталкивался.
Или же я упрекаю "Странного прихожанина" в длиннотах, штампах, в том, что игра, временами блестящая, нередко раздражает... Бурвиля же увлекла возможность вскрыть за множеством противоречивых граней двусмысленность своего персонажа – святоши-ханжи, вместе с тем, быть может, не такого уж ханжи, повернуть образ этого своеобычного тартюфа так, чтобы сделать его человеком пристойным. Со своей, актерской, точки зрения он прав. Без Бурвиля фильм несомненно был бы только забавной историей, сообразной язвительному духу режиссера Жан-Пьера Моки, и остался бы на уровне пикантного анекдота. С Бурвилем он становится почти исследованием характера, и я делаю оговорку "почти" лишь потому, что раскрытие актером характера своего персонажа смазано режиссером Жан-Пьером Моки, способным проявлять себя лишь в язвительности.
Он антипод Бурвиля по духу, и, как выясняется, Бурвиль любит сниматься у этого режиссера именно в силу того, что такой контраст оказывает на него тонизирующее воздействие... В результате некоторые сцены фильма превосходны, потому что в них превосходен Бурвиль. Если бы их вырезать и смонтировать, получился бы и в самом деле поразительный портрет его персонажа, который он сначала набрасывает контурно, постепенно дорисовывая позы или едва уловимые жесты... И углубляет (вспомним его взгляд, возносимый к господу богу, и его постоянный спор с небом...).
Актер играл эту роль, как и роль Тенардье, словно на пари, что увлекло его, ибо, начиная с определенного этапа карьеры, многие его роли представляли собой сражение, которое можно либо выиграть, либо проиграть.
Другая роль "на пари" – Ноэль Фортюна, где следовало сделать убедительной любовь очень красивой состоятельной дамы (Мишель Морган) к человеку не слишком
привлекательной внешности, согласно существующим
критериям, раскрывая его образ в различных аспектах... Или в фильме "Луженые глотки", где он опять расширяет актерский диапазон, придав своему герою Эктору внешний вид борца, здоровяка, победителя, но при всем этом не лишая его великодушия, типичного для традиционного бурвилевского героя.
Здесь речь шла об удачах. Но случается, что задуманное оборачивается провалом. Что поделаешь! Надо понимать, что Бурвиль испытывает необходимость постоянно сталкиваться с новыми творческими трудностями – на свой страх и риск... Мы достаточно говорили о том, что комедия отвечает
органической потребности, проявившейся у него с мальчишеских лет. В какой-то мере она отвечает также его натуре. Драма – способ выражения для тех, кто принимает себя, свои беды, более или менее всерьез. Есть доля нескромности в том, чтобы оплакивать себя, доля бесстыдства в том, чтобы выставлять свое горе толпе напоказ. Играя в драматическом жанре, Бурвиль наверняка порой испытывает стесненье, в его голове должна пробегать мысль: "Кто тебе поверит, когда ты плачешь сам над собой". Вот откуда, кстати, потребность ввести комическую нотку в свои роли драматического плана, которая, мне кажется, равноценна заговорщическому подмигиванию или реплике публике на ушко: "Не подумайте, что я поддаюсь беде – жив курилка..." Потому что он не из тех, кто любит жаловаться. Каждый раз, когда интервьюеры задают ему вопрос, доволен ли он своей судьбой, его ответ неизменно таков: "Не представляю, на что бы я мог жаловаться!" И это правда. Однако другие в его положении находят причины для нытья. И я убеждена, что, став булочником, он отвечал бы то же самое: "Хоть мы и не богаты, но счастливы". Он любит говорить: "Над этим лучше посмеяться, чем плакать. Если дело не идет, надо его подтолкнуть, а хныкать тут нечего. Это еще что такое, распрямим спину, поднимем голову выше и громко рассмеемся, заявив всему миру, что нас не сломит ничто и никогда". Так говорит человек – и актер, – который лучше всего выражает себя в комическом жанре. И, в частности, в тех спектаклях эстрадного театра или бульварных комедиях, посредственное качество которых отрицать не приходится. Но зато тут он выступает перед своей публикой – той самой публикой, чей смех в свой адрес ему необходимо слышать, как ребенком ему было необходимо слышать смех школьных товарищей. "Посредственное качество" – и Бурвиль это знает. Когда я шла смотреть "Надежную явку", он мне шепнул: "Конечно, это не Клодель, но как знать... Если вы не поймете... я вам объясню потом!" И громко рассмеялся...
Или я встречаю его несколько лет спустя – у него в руках либретто оперетты "Уа-уа".
– Я охотно дал бы вам прочесть, – предлагает он. Лукавый взгляд.
– Но вам это покажется сущей белибердой. Жест, подтверждающий такое предположение.
– И это в самом деле белиберда.
Потом его взгляд озаряет чистосердечная улыбка.
– X. мне сказал: "Дорогой мой Андре, это недостойно вас". Взрыв смеха.
– А мне плевать.
Ему плевать, потому что этим он будет смешить публику... По моему мнению, которое я позволю себе высказать, в комическом жанре Бурвиль прежде всего "доставляет удовольствие себе", а в драматическом – находит более благодарное опытное поле, где его ждут трудности, для преодоления которых надо мобилизовать все ресурсы мастерства. Но он не перестает углублять и оттачивать свои средства выразительности и в комическом жанре... И, в конце концов, не бессмысленно ли в разговоре с Бурвилем устанавливать четкое разграничение между этими двумя жанрами, когда он, наоборот, показывает нам, и особенно в некоторых характерных ролях, в принципе комических (где, однако, вводится в бой столь тонкое мастерство, что вскрыть их комизм невозможно), что граница между ними перестает, быть четкой. В самом деле, этот мирный человек на поверку оказывается завоевателем, не признающим никаких границ... Он использует всю гамму выразительных средств, от первой ноты до последней – от грубого фарса до патетики, но не перескакивает ни через один полутон. Он способен играть все – лишь бы ему оставаться на благодарной почве благодушия. Впрочем, он и играет все. Достаточно просмотреть список вещей с его участием, припоминая роль в каждой из них, чтобы подивиться и оценить его диапазон. И увидеть, таким образом, как несмело он шел на завоевание себя и своего искусства.
Антониони как-то сказал журналисту, что хорошему актеру не требуется ума, и если он не умен, это даже лучше. Бурвиль доказывает обратное. И мы видим, что он стал выдающимся актером современности именно благодаря уму. Впрочем, мнение Антониони кажется мне спорным вообще и более всего в отношении актеров-комиков, чье искусство зависит от ясного взгляда на людей и мир, а следовательно, от ума. Именно этот здравый ум, какой далеко не часто встретишь у актера, и позволил ему критически подходить к себе в каждый отдельный момент жизни, поступать в зависимости от его объективной оценки. И по сей день объективный подход обязывает его к самоконтролю в таком трудном деле, как ремесло актера, в котором, судя по разговору с ним, он постиг все. Вот почему так увлекательно обсуждать с ним проблемы этого ремесла. Сколько бы я ни задавала ему вопросов о них, сколько бы ни подводила его к этой теме, всякий раз, прежде чем ответить, он призадумывался и взвешивал свой ответ. Так было и когда я спросила его: "А как вы добиваетесь смеха в зале?"
Вопрос не из умных, поскольку комический жанр – сложное искусство, успех в котором достигается лишь безукоризненным владением его законами, но в итоге оно сродни интуиции. И тем не менее он попытался проанализировать, вскрыть его механику, и не только чтобы ответить на мой вопрос, но еще потому, что подобное исследование вдруг его увлекло. Ему вообще интересно все, что связано с искусством драматического или комедийного актера, независимо от того, имеет это отношение лично к нему или к другим. Мы говорили о том, что характерно для таланта одного актера; почему второй при несомненных данных не пользуется большим успехом, и о многом другом. И должна признаться, что некоторые общие темы, затронутые в данной книге, родились из бесед с Бурвилем...
Когда разговор заходит об этом предмете, Бурвиль уже от него не отклоняется. Я хотела было написать, что он становится серьезным. Как будто он не всегда серьезен! Но читателю понятно, что имелось в виду, после того, как я показала Бурвиля всегда готовым смеяться, с его дурашливым лицом, по которому не скажешь, ну никак не скажешь, что он принимает себя всерьез.
Он становится серьезным. Можно подумать, что он замкнулся в себе. Это он сосредоточивается. Он весь внимание, взгляд почти в одну точку, речь медленнее обычного, голос нерешительный, глухой.
Я не уверена, что он был в восторге от бесед, в которые я его втягивала при каждом удобном случае. Человек большой простоты и естественности должен питать известное недоверие к академическим исследованиям. Тем не менее он не только не избегал их, но очень скоро увлекся ими. Потому что, преодолев сдержанность, он "попался на удочку"... Уже при нашей первой встрече меня приятно поразило, что едва был сломлен лед, он спросил, как я смотрю на его роль и изменения, внесенные в мою книгу в интересах сценария. Поначалу я была несколько удивлена. Писатель знает, что мнение автора не интересует кинематографистов, работающих над экранизацией.
Впрочем, никакой несправедливости в этом нет, поскольку между фильмом и используемой книгой, как правило, нет ни малейшей связи (разве что на уровне сюжета). Между романом, о котором идет речь, и сделанной по нему комедией существовал такой разрыв, что не представляю себе, как я могла ответить на его вопрос...
Еще больше я была поражена тем, что он задавал мне вопросы, расспрашивал и задавался вопросами сам (хотя эта роль была для него не из самых увлекательных) из желания проникнуть в суть образа, который ему предстояло сыграть. Необычно было уже одно то, что он прочел и книгу, ведь, как правило, актеры дальше чтения сценария не идут. И не только прочел ее, но, по-видимому, и вчитался, так как один его вопрос касался небольшого абзаца, опущенного в сценарии, использовав который он мог бы углубить свой образ. Я позволю себе процитировать этот абзац – мне кажется примечательным, что именно он привлек внимание Бурвиля. Речь идет о певце, который говорит следующее: "Понимаешь, вот ты поешь, и тебя слушают люди, у которых свои неприятности, свои причины грустить или веселиться, быть счастливыми или несчастными, и только благодаря тебе и тому, что есть в твоем голосе, они забываются. Они тут сидят за столиками, они тебя слушают... Ты можешь рассмешить даже самых несчастных. Даже у самых счастливых по твоей милости может горестно сжаться сердце. В твоей власти всех заставить отдаться воспоминаниям..." Вот и все.
От Дон-Кихота к Санчо Пансе
Завершая это своего рода путешествие вокруг Бурвиля, попытаемся сказать заключительное слово об актере, человеке, наконец, о Бурвиле, поскольку, как уже говорилось, существует лишь он один, адекватный себе самому... И, пытаясь подытожить, чем же он является для нас, почему бы в последний раз не вернуться к его первому персонажу 1945 года, вся «ответственность» за который ложится целиком и полностью на него и в ком уже содержатся наметки столь различных образов, созданных им впоследствии... Мы уже давали ему характеристику: счастливый дурачок, пародия на Мсье Как Все, кто смеется над собой, быть может, чтоб не заплакать. Но ведь смысл пародии полностью исчерпать невозможно.
Большинство его монологов тех лет забыто, утрачено (потому что Бурвиль не хранит текстов своих выступлений), но мы можем расспросить свою память, которая к тому же отфильтровала, отмела ненужные детали, чтобы восстановить основное. И вот, похоже, наша память сохранила нам взгляд, благодушно устремленный вверх, и добрую улыбку, которую не в силах стереть с его лица ни одна насмешка в зрительном зале. Кажется, что эта улыбка и этот взгляд, придающие его пародии особую выразительность, да еще его сорванный голос, нерешительный, но настойчивый, – в них весь Бурвиль. Улыбка, взгляд и голос, которые, кстати, мы находим и позднее в его самых потрясающих ролях драматического плана. Он тот, кого ничто не может довести до отчаяния, писали мы выше; словом, Дон-Кихот... Тот, кто обнажает себя до конца, раскрывая перед другими душу и доверяя им свои несбыточные мечты, в которых не принято признаваться: быть любимым при отсутствии обаяния, быть большим певцом, не обладая голосом, – быть кем-то, когда при существующей социальной иерархии ты просто никто. И только порядочный глупец поверит, что можно безнаказанно выдавать другим свои мечты – хотя мечтать свойственно всем людям, – обычно хранимые глубоко в тайниках души, ведь их можно считать ахиллесовой пятой человека. И этот дуралей, который еще обездоленнее других, а потому еще смешней, раз он не только осмеливается лелеять какую-то мечту, но и поверяет ее целой толпе и, невзирая на смешки в ответ на свою откровенность, продолжает доверчиво устремлять свой взгляд к этой своей мечте, не отступаясь от нее, как Дон-Кихот не отступается от своей любви к Дульсинее, когда его ранят смешки при герцогском дворе. И смейся, не смейся, а зрителей захлестывает волна нежности к тому, кто, вопреки здравому смыслу, показывает образ человека, который поднимается над непосредственной, сиюминутной реальностью... Извечно побеждаемый, но спасающийся от своих поражений лишь отказом признавать себя побежденным. Тот, кто, подобно ДонКихоту, истерзанному, четвертованному крыльями ветряной мельницы, провозглашает свою надежду на лучшее – против всех, вопреки всем.
Через первые песни и монологи, через весь репертуар Бурвиля проходит тема человека, обманутого в своих надеждах любви и братства и смешного в своей наивности, с которой он обнародует свою слабость (как смешон Дон-Кихот, мысленно взывающий к Дульсинее), чей комизм усиливается еще отказом понимать, как он смешон... Если смех рождается от искажения естественного (Бергсон), он непременно должен разразиться при виде эдакого дурачины, чьи поступки противоречат всему, чего ожидают от существа здравомыслящего. Этот последний, когда ему причиняют боль, в одиночестве врачует свою рану, молчит, ожесточается, не подвергая себя риску разочароваться вновь и опять страдать. Он понял. Он отрекается от своей надежды. А Дон-Кихот – нет! Вот почему публика, подвергая его осмеянию, питает к нему огромную нежность: ведь он н е хочет понять, не понял и никогда не поймет. И большой реалист, подобно Санчо Пансе, Мсье Как Все просит Дон-Кихота и дальше рассказывать про свои мечты... Что Бурвиль, в сущности, и делает вот уже свыше двадцати лет, каким бы жанром искусства он ни пользовался. Он эволюционировал в направлении реалистического портрета, точнее, целой галереи портретов, раскрывающих души людей, каких на земле великое множество. Из них и слагается народ...
Но эти многочисленные портреты никогда не отходят от донкихотства оригинальной лепки, и, несомненно, в этом оригинале черпают они свое несравнимое богатство. Похоже, расширяя свой диапазон способов выразительности, добиваясь высшей степени реализма, Бурвиль пришел к воплощению и образа Дон-Кихота и образа Санчо Пансы в одном лице. Он сочетает в себе эту пару, олицетворяющую противоречивое начало в человеке, которому, с одной стороны, не выжить без трезвого взгляда на вещи, а с другой – трудно жить, не устремляя взгляда к надежде, маячащей где-то далеко впереди. Бурвиль – это Дон-Кихот, переживший века, потому что он внушает людям надежду. И Санчо Панса, который знает, что Дон-Кихот не столь безумен, как это кажется. Он тот, кто, вне всякого сомнения, помогает нам жить. Наш общий друг...
Франсуа Кавильоли. Бурвиль и его долгая
борьба со смертью
( Статья была напечатана в газете «Пари матч», 1970, №№ 1121 и 1122.)
15 августа 1967 года. Велогонщики 30-х годов готовятся к пробегу по гористой трассе на юге Франции. На дне пропасти обмелевшая от летнего зноя река превратилась в ручеек. Обожженное солнцем ардешское плато пахнет душистыми травами. Один из велосипедистов стоит в стороне, сосредоточенный, готовясь к гонке. На нем черные каскетка и трико. Согнутую над рулем спину в желтой футболке украшает эмблема клуба. Немного искривленный нос, скуластое лицо. Это Бурвиль. Алекс Жоффе приступает к съемкам фильма "Велогонщики". Это история гениального изобретателя, сконструировавшего новую модель велосипеда. Он хочет выиграть гонки, чтобы избавиться от преследований судебного исполнителя Хирша. Восемь часов утра. Солнце уже припекает. Снимать крупным планом трудно и опасно. Грузовой трехколесный велосипед, на котором сидит Моника Тарбес, должен "приклеиться" к машине Бурвиля и уже не отставать. Жоффе отснял кадр, но недоволен результатом. "Прибавьте скорость, – кричит он, – плотнее друг к другу. Придется снять дубль!" Он объясняет Монике: "Ты должна ехать впритык к Бурвилю".
Снимают дубль. "Быстрее, быстрее, надо ехать быстрее". И по сей день актриса вспоминает об этом, как о кошмаре. Вдруг дело пошло. Бурвиль жмет на все педали, но ему не хватает воздуха, а трехколесный велосипед мчится за ним на полной скорости. Его переднее колесо толкает машину Бурвиля. Моника резко тормозит, но безуспешно. Бурвиль летит в кювет, а трехколесная машина, врезавшись в землю, повисает над ним, словно мост, что его и спасает. Бурвиль выкарабкивается из-под металлических трубок. В первый момент он оглушен. Его окружают усатые велогонщики в трико. Моника Тарбес в голубой юбке, черной шали, высоких ботинках, с шиньоном. Все молчат. "Я не пострадал, только побаливает нога, – говорит Бурвиль. – Поехали, ребята". И, оседлав велосипед, он катит дальше, этот труженик кино, согласный на любой риск, с которым связано его ремесло.
В этот день смерть впервые приблизилась к знаменитому актеру. Это падение чуть не стоило ему жизни. Но, снова садясь на велосипед, чтобы напрягать все силы на дороге под нещадным солнцем, Бурвиль не знает, что оно положило начало болезни, которая станет его убивать медленно, но верно. Боль в ноге уже не пройдет. Она постепенно перейдет на спину и грудь.
В сентябре страдания вынудят его прибегнуть к массажу и подолгу принимать ванны. Бурвиль полагал, что у него ревматизм, переутомление, больные почки; он воображал, что если холить себя и лелеять, то можно отдалить смерть. "Хочу быть крепким стариком", – повторяет он. Он совершает прогулки по шесть-семь километров, соблюдает диету, делает физзарядку. Он поддерживает свое здоровье. После тридцати лет актерской карьеры он все еще верит в добро и зло: если вести себя хорошо, будешь вознагражден. Доживают же люди до глубокой старости, никогда не болея. Не будучи религиозным, он верит в существование "великого счетовода", который ведет в своей книге учет хороших и дурных дел, воздавая за них здоровьем или наказуя болезнями. Бурвиль имел право на здоровье.
Февраль 1969 года. Бурвиль снимается в фильме
"Рождественская елка". Съемки идут неподалеку от Ниццы в замке Эрод – большом строении из розового камня, среди парка зеленых дубов. У него такие боли, что горничным отеля "Негреско" приходится класть ему на кровать доски, чтобы он мог уснуть. Случается, он всю ночь напролет просиживает перед туалетным столом из светлого дерева, сжав голову руками. Во время съемок в парке он то и дело, сев на стул верхом, подолгу отдыхает. Режиссер Теренс Янг тревожится за его здоровье. "Спина болит, – говорит ему Бурвиль. – Из-за того, что я упал с велосипеда, когда снимали "Помешанных". С того времени у меня прострел". Он еще верит в это. Или, скорее, цепляется за такое утешительное объяснение, отгоняя сомнения. Но 5 марта местный врач рекомендует Янгу приостановить съемки. В тот же день из Парижа прилетает брюнет в двубортном темно-синем костюме. Это представитель страховой компании Буржуа. У него фигура атлета, узко поставленные глаза. Болезнь, тревогу, смерть он переводит на язык цифр. Тем не менее по приезде в Ниццу он сказал Янгу: "До снимите фильм во что бы то ни стало. Мы вас поддержим.
Если вы приостановите съемки, Бурвиль почувствует себя обреченным. Так поступить с ним нельзя ни в коем случае".
13 марта 1969 года. Зал звукозаписи на киностудии Булони с его белыми стенами, серыми креслами, микрофонами на подставках. Жерар Ури, Луи де Фюнес и звукооператор Риуль беседуют вполголоса. Это съемочная группа фильма "Мозг".
Ждут Бурвиля для озвучивания. Он опаздывает – впервые в жизни. Наконец, объявившись, он улыбается и голосом, который никому незнаком, говорит, шепелявя: "Извините, сегодня я не смогу дублировать, я прикусил язык". Все смеются. Когда комики объявляют о собственной смерти, они всегда вызывают смех. Бурвиль шепелявит, потому что у него парализован язык. И он это знает. Съемки "Рождественской елки" были прерваны, чтобы он мог проконсультироваться у врачей. И вот весь март заполнен у Бурвиля мучительными хождениями по врачам, когда больной всматривается в их лица, напряженно ловит каждое слово и, того больше, -каждую паузу. Однажды он пришел на прием к профессору в сопровождении Жанны, своей жены. Профессор сказал без обиняков: "Если вы не перестанете работать, вам осталось жить две недели". Бурвиль встает, но он вынужден ухватиться за край письменного стола. У него подкосились ноги.