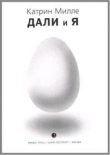Текст книги "Бурвиль"
Автор книги: Катрин Клод
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Вот почему мне кажется, что пренебрежительное отношение к комическому жанру, не содержащему критики, поддающейся немедленной расшифровке, прежде всего вытекает из умения публики понимать, что ей показывают, а потому заявляющей, что тут и понимать-то нечего. Что все это, мол, глупости, и люди мыслящие на комедиях попусту теряют время. И еще дело в том, что комический актер не обнажает своей игры. Он скромно маскирует свою сложность добродушием. Когда вы смотрите какую-нибудь драму, напичканную абстрактными мыслями и неразрешимыми комплексами, возможно, вы ее не понимаете, но предполагаете, что, вероятно, за этими сложными словами скрываются большие мысли, в чем вы порою заблуждаетесь, так как абстрактный символ частенько прикрывает элементарную пустоту. Но так или иначе, а чувствуете себя виноватыми за свою непонятливость вы... Комедия же приглашает зрителя от души посмеяться, как бы внушая, что над ней можно не думать (и доказательство ее несерьезности – смех, который она рождает), поскольку ее задача – способствовать познанию человека и жизни не только умом...
Смеяться или плакать?
У зрителя, смотрящего комедию, есть еще одна причина, смеясь, испытывать угрызения совести... Ведь комедия, которой мы занимаемся, – комедия Бурвиля (или Чаплина -представителя старшего поколения), вскрывая некоторые характерные черты человека, взятого в социальном контексте, ставит зрителя в двусмысленное положение. Она приглашает его смеяться, тогда как он ощущает, что мог бы плакать, что он должен был бы плакать. Трагична судьба людей, веками бьющихся с изнуряющей и обманувшей их надежды жизнью, за которую они упорно цепляются, и было бы логичнее над нею проливать слезы.
Вот почему возможно, что вопрос об оценке комика где-то вопрос нравственный: имеем ли мы моральное право смеяться над тем, что трагично.
Первая реакция – сказать, что нет. Но чтобы правильно ответить – надо поразмыслить. В самом деле, все знают на собственном опыте, что смех нередко возникает в тяжелую минуту. Бурвиль, тонко реагирующий на такое явление, рассказал мне, как в войну при бомбежке он оказался среди потерявшей голову толпы, укрывшейся в одном доме. И тут кому-то на голову свалился большущий горшок с вареньем, и все расхохотались. Случись в обычной жизни такому горшку с вареньем упасть на голову, и к несчастному подбегут, чтобы с беспокойством осведомиться, как он себя чувствует. Но в драматический момент каждый рад любому предлогу, позволяющему отвлечься от драмы. Смех – разрядка.
Не в этом ли также причина благосклонного отношения к комедии у зрителей из простого народа? Кажется, комедию ценят прежде всего самые обездоленные, поскольку они испытывают органическую потребность в смехе, чтобы не быть раздавленными тяжестью жизни. Похоже, что люди могут трагически воспринимать бремя своей жизни лишь до известного предела, но когда оно становится невыносимым, им не остается ничего иного, как смеяться. Возможно, комедия находится по ту сторону трагедии. Или она – второе лицо трагедии? Более того, разве слезы – самый достойный ответ на трагическую ситуацию? Плакать – значит признать себя побежденным, сдаться. Смеяться – значит перед лицом трагедии подтверждать свою свободу, подтверждать, что отказываешься сдаваться, что сопротивляешься.
Именно это, впрочем, и скрывает за собой комический жест или слово, с виду, казалось бы, лишенное всякого значения. Например, в "Разине" Бурвиль бросается в воду спасать жизнь красотке, и мы видим, как он барахтается, задыхается, едва не тонет сам. Но тут он находит свою шляпу, которая плавала рядом, и надевает ее на голову. Зал мгновенно разражается смехом, потому что этот жест высвобождает зрителей от драмы, утверждая свободу человека перед лицом того, что с ним происходит. Это же событие, рассказанное в драматическом фильме, заставило бы нас разделять страх утопающего, игра актера показала бы его усилия, подсказала, что он вот-вот утонет, то есть победят обстоятельства. С того момента, как Бурвиль водружает себе на голову шляпу, мы знаем, что он сильнее их, он спасся. Этот жест равнозначен заявлению: "Вы прекрасно видите – я плюю на то, что происходит, – для меня важнее всего шляпа". Кстати, этот прием типичен для Бурвиля (заметим, что гэг со шляпой – его выдумка).
Разумеется, речь не о том, чтобы преуменьшить значение драмы и возвеличить комедию. Искусство, как и жизнь, безгранично, в нем хороши все способы выразительности. На мой взгляд, показывать людям их подлинное лицо, напоминая при этом, что порой оно неприглядно, или описывать их жизнь, подводя к мысли, что без борьбы им был бы конец, отнюдь не бесполезно. Но все это уже столько раз подавалось в критическом аспекте, что, пожалуй, добавить к этому осталось совсем немного.
Одиночество человека, абсурдность жизни, неудачи – все это мы уже видали и перевидали... Настолько, что забыли о существовании другого аспекта жизни, вспомнить о котором, мне кажется, весьма полезно.
Другой аспект? Например, воплощенный в лице этого добродушного малого, не хватающего звезд с неба и зачастую попадающего впросак, чуть ли не постоянного объекта насмешек, и все же никогда не впадающего в отчаяние, которого Бурвиль изображает как в драме, так и в комедии, призывая смеяться над трагизмом жизни. Нам представляется, что в утрированной пародии на рядового француза, которая в
свое время принесла Бурвилю первое признание, уже проглядывают черты его типажа – Мсье Как Все, претерпевшего эволюцию от Огюста Буве в "Большой прогулке" до Разини (где, в конечном счете, добрый малый все же одерживает победу). И в фильмах драматического жанра Бурвиль перейдет от показа доброго малого, который сломлен ("Первоапрельская шутка", "Один в Париже", "Избранник мадам Гюссон" и т. д.), к тому же доброму малому, который, хоть и не стал победителем в подлинном смысле слова, все-таки уже не является побежденным ("Ноэль Фортюна", "Луженые глотки").
Народные массы непривычны к тому, чтобы предаваться отчаянию. К счастью! Что стало бы с народом, погрузись он в уныние?
Самая естественная реакция рядового человека на гнет жизни – любыми средствами избавиться от подавленного состояния, потому что он не может позволить себе роскошь быть подавленным – ведь ему надо жить.
Сразу после войны, в 1945 году, французский народ, пережив много драм, предпочитает не плакать, а смеяться. Его устроит любой комик, и в те годы пользуются успехом многие комические актеры, помимо Бурвиля. Но удовлетворяет публику больше тот, кто не просто смешит, а отвлекает от тревог. Бурвиль устраивает ее потому, что он показывает тех, кто еще несчастнее, еще больше обойден судьбой. Но, как мы говорили, актер может стать "звездой", если между ним и его публикой возникнут прочные связи – восхищения или симпатии. Комический актер не может вызывать восхищение. Но если публика 1945 года обеспечила Бурвилю успех, значит, она отнеслась к нему с симпатией. В самом деле, публика видит, как он, высмеивая своего двойника, не изничтожает, не смешивает его с грязью.
Бурвиль издевается над ним и в то же время пробуждает к нему симпатию. Возникает двойное сообщничество: во-
первых, между актером и изображаемым персонажем, во-вторых, между актером и публикой. И с помощью актера-медиума в конце концов достигается сообщничество между публикой и персонажем. Симпатия, с которой относятся к исполнителю, переносится на его персонаж.
Бросается в глаза, что Бурвиль редко берет на вооружение грубость, соленую шутку – да, но в его соленой шутке никогда не бывало такого, что могло бы оскорбить достоинство человека, подорвать его самоуважение.
Поэтому, даже узнавая себя в тех, над кем смеется, зритель не обижается. Все происходит так, словно Бурвиль шепнул ему на ушко: "Мы с тобой и с неба звезд не хватаем и не баловни судьбы, но мы славные люди, а это тоже что-нибудь да значит, а кроме того, раз мы можем над этим смеяться, значит, жив курилка..." И с хрипотцой в голосе, заговорщически подмигнув, он будто добавляет: "Стоит ли себе портить кровь? Все обойдется..."
Вот истоки веселого смеха, который возникает на спектакле с участием Бурвиля, – не раскатами, то громче, то тише, а широкой сильной волной.
О соленой шутке и вульгарности
Признаюсь, лично я соленые шутки не приемлю. И тем не менее не могу не видеть, что соленая или вольная шутка -народная форма реакции на ханжество, извечно навязываемое церковью в вопросах секса, и она – свидетель здоровой природы народа, реакция сродни той, какая была характерна для Рабле и просветителей XVIII века...
Что же касается вульгарности, которую некоторые находят у Бурвиля, то не путают ли они вульгарное и народное? А вольную или соленую шутку делает вульгарной сущность, а не форма. Она зависит скорее от духа того, что говорится, нежели от манеры, в какой это сказано. Не то чтобы я стояла за излишнюю грубость языка (впрочем, Бурвиль никогда ее себе не позволяет: существуют слова, которые никогда не слетают с его уст, ни со сцены, ни в жизни – слова пошлые), но, признаюсь, меня не задевают выражения, утверждающие народный дух. Можно привести много примеров находок Бурвиля, в которых он ломает узкие рамки водевиля и оперетты, ибо он, как сказано о Мольере, "тот опасный персонаж, у которого есть глаза и уши", он не боится выжать из них максимум, заявляя о себе как большой художник в вещах малохудожественных; но считать их грубыми было бы неверно.
Он пускает в дело все. И публика хохочет от начала спектакля до конца, потому что у него дар порождать смех даже не в комических ситуациях – жестикулируя, вращая глазами, разговаривая фальцетом. Чтобы проанализировать его игру, пришлось бы расчленить на составные части каждый жест, описывать взгляды, взвешивать улыбки, улавливать модуляции голоса. Его изобретательность неисчерпаема.
Впрочем, Бурвиль и ценит больше всего в бульварной комедии именно ту свободу, с которой он может обращаться с текстом. Можно лишь удивляться тому, что он никогда не выступал в настоящем театре, и легко себе вообразить, как бы он сыграл, например, в комедии Мольера или же в пьесе Чехова... Но, по его словам, он просто не осмеливается играть из вечера в вечер одно и то же, будучи скованным мизансценой и необходимостью повторять одни и те же реплики. По его словам, он мечтал бы сыграть Мольера по-своему или, точнее, поскольку он не из тех, кто замахивается на традиции, "сыграть Мольера для своей консьержки"... для тех, кто не знает Мольера наизусть, не знает заранее, где положено им восторгаться. И однажды он специально для меня исполнил сцену с гласными из "Мещанина во дворянстве". Не знаю, отошел ли он или нет от текста пьесы, но ее комизм был в духе Мольера. Актер-выдумщик испытывает большой соблазн оторваться от текста, который душит вдохновение, не искажая при этом его смысла. Когда он играл в фильме "Денежки Жозефы" (который нас и познакомил), Бурвилю множество раз случалось заменить слово, прибавить или опустить другое, и реплика, непроизвольно слетавшая с его уст, всегда была взрывной и правдивой. И именно эту свободу, предоставляемую выдумке, ценит и использует Бурвиль в водевиле или бульварной комедии; но еще больше она идет на пользу самому водевилю или комедии, которые не бог знает какое искусство, если в них не заняты талантливые актеры.
Миллионы друзей
Пока писалась эта книга, я многих расспрашивала о Бурвиле. Находились люди, которых он совершенно не интересовал, и такие, которым он был почти неизвестен. Зато среди тех, кто его знал – лично или как актера, – я не встретила ни одного, чья оценка была бы сдержанной. Обычно, стоит произнести его имя, и первая реакция собеседника – смех. Затем он говорит банальные слова: потрясающий, великолепный актер. Чтобы услышать большее, надо допытываться; но и тогда, после наводящих вопросов о нем, как об актере, если только разговор идет не со специалистом, выясняется, что он интересует не столько как актер, сколько как человек – и отвечать на вопросы приходится уже мне, потому что людям хочется найти у меня, знакомой с ним лучше, подтверждение своим предположениям. Когда речь идет о других актерах, говорят о манере их игры, о таланте. В разговоре о Бурвиле словно забывают, что он актер. Говорят так: «Ах, да, правда... Но какое это имеет значение! Ведь он Бурвиль». Он символ, в котором человек и артист слиты воедино. Людям и в голову не приходит, что между ними существует разница или противоречие. Он просто тот, кто вызывает чувство дружбы и доверия.
...Мне привелось быть с ним в толпе универсального магазина в тот день, когда мы должны были ставить свои автографы на мой экранизированный роман – с этого-то и началось наше знакомство. То, что его узнают и его появление возбудит любопытство, можно было предвидеть заранее. Но больше всего меня поразило, в какой форме рядовые зрители проявляли к нему интерес.
Мы проходили между отделами, и вдруг какой-то человек узнал Бурвиля и лицо его осветилось улыбкой, глаза заблестели от удовольствия. Часто дальше этой улыбки на лице и блеска в глазах дело не шло. Но сколько людей непроизвольно протягивали к нему руку – так бывает, когда узнаешь друга и первая реакция – броситься к нему навстречу. Рука уже протягивается... и тут же опускается от сознания ошибки – ведь если ты двадцать раз видел Бурвиля в кино и любишь его, еще не значит, что можно считаться его другом. И все же очень многие протягивали ему руку, возможно, к собственному удивлению: "Ах мсье Бурвиль, как поживаете?" Можно было подумать, что здесь оказалось множество его давних и очень близких знакомых. Это не натиск толпы. На него не бросаются, не хватают за полы, с неистовством требуя автографа. Люди не проявляют непомерного восхищения, что увидели его, – они просто очень довольны...
Но вот мы за столом, и ему протягивают книги для подписи. Самые робкие довольствуются тем, что выражают ему свою симпатию улыбкой. Те, кто посмелее (или непосредственнее, те, кто не сомневается, что его можно считать другом), говорят ему несколько слов: они, мол, не пропускают ни одного фильма с его участием, видели его в этом, но он лучше в том, книга куплена для мужа, "который вас очень любит, знает, мсье Бурвиль! Ах стоит только в нашем кинотеатре появиться фильму с вами!.." Или же у него спрашивают, как поживает он и его дети. Советуют не перегружать себя работой. Слово за слово, с ним делятся даже своими заботами: "Я не смотрела вашего последнего фильма – у меня вот уже целый месяц болен муж – язва желудка, врач говорит, что..." И он отвечает, как отвечают друзьям. Не рассыпается в любезностях, но и не задается, чувствует себя в этой толпе, среди своих друзей, словно на деревенском празднике, где знаешь чуть ли не всех и каждого.
То же самое происходит и когда он снимается "на натуре" -это всегда привлекает множество любопытных... Мне случилось побывать на съемке. Мы стоим, разговариваем, а посторонние люди ходят взад-вперед, вертятся поблизости, мало-помалу, осмелев, подходят вплотную и, установив первый контакт, заводят разговор. Те, кто не так смел, находят окольные пути: "Видишь, – говорит мать ребенку, – во-он там, вон тот дядя – это Бурвиль, ты его узнаешь?.." Ну, и разумеется, у него просят автографы, но чувствуется, что, скорее, это предлог лично выразить ему свою симпатию.
Я спросила Бурвиля, обременяет ли его эта популярность, от которой страдают многие кинозвезды. Оказывается, нет. Она ему не мешает, потому что не вынуждает его делать над собой усилие, ему достаточно быть самим собой.
В большинстве случаев к нему обращаются с разумными просьбами, и трудность заключается лишь в том, что их слишком много. Например, когда он снимается в небольшом городке, где его присутствие – событие, его разрывают на части, требуя автографы. Однажды я была свидетелем, как к нему обратились с десятком просьб за один день. Тамошняя почтальонша, которая всякий раз, вручая ему корреспонденцию, дружески приветствовала его, про прошествии нескольких дней попросила его заглянуть на почту – загруженность работой не позволяла ей отлучиться и увидеть его на съемке. И он зашел – ему было по пути. Вечером в отеле ему представили местного врача, пригласившего его поужинать, – он уже созвал на этот ужин коллег со всей округи. Ужинать – не ужинать, но Бурвиль зашел выпить кофе. Среди множества писем оказалось два: одно от винодела, который хотел бы угостить его своим вином, второе – от матери, ребенок которой уже несколько лет прикован к постели, – малыш так обрадовался бы его приходу! Директор приюта объяснил ему по телефону, какое удовольствие доставил бы визит Бурвиля его питомцам. Позднее мы застали в холле гостиницы организатора местного праздника, тот не представлял себе, как это Бурвиль в их краях и не будет на нем присутствовать.
Я рассмеялась и спросила Бурвиля, как он намерен выйти из положения. Он и сам не знал. И это его огорчало... Разве можно было разочаровать директора приюта, считавшего, что его приход доставил бы радость мальчикам-сиротам. Нечего думать и о том, чтобы огорчить мать больного ребенка. Дети -это священно... Но как трогательно, если виноградарь хочет поделиться с ним самым дорогим, что у него есть, вином своего изготовления. Он умудрился наведаться к нему между съемками.
Конечно же, найдутся злые языки, которые скажут: все это средство поддержать свою популярность, не более... Они не видели огорчение Бурвиля, который готов разорваться, лишь бы удовлетворить любую просьбу: "Люди рассчитывают на меня, я не могу их разочаровать". Потому что каждый, обратившийся к нему с просьбой, для него тоже немножко приятель, и он относится к нему с горячей симпатией. Если между ним и его публикой дистанции не существует, объясняется это тем, что не в его натуре устанавливать ее между собой и кем бы то ни было; не важно, кто вы, но раз вы обратились к нему, он отвечает вам приветливо, потому что так полагается среди цивилизованных людей.
И потом, он испытывает своего рода благодарность к этой публике: "Прежде всего она, – говорит Бурвиль, – сделала из меня то, что я есть", а главное, она дарит ему чудесный подарок – свою, любовь. Отсюда его озабоченность тем, как бы не разочаровать свою публику. Играя драматические роли, он поначалу испытывал чувство неловкости. Как актер он хотел этого, но как человек мучился угрызениями совести. "Понимаете, увидев мое имя на афише, люди идут посмеяться!.. Выходит, я их вроде бы подвожу. Теперь-то уже все знают, но откуда им было это знать вначале!"
Тактичное вторжение в личную жизнь
V U |– U U
Один давнии знакомый Бурвиля, который по роду занятии на короткой ноге со многими актерами, сказал мне: Я не знаю, с кем из актеров можно было бы его сравнить". И он начал рассказывать мне истории, проливающие свет на личность Бурвиля, не похожего ни на одного актера, потому что он еще и человек, как все. Из этих историй вытекало, что этот "человек как все", сформировавшийся в актера, сам по себе -человек особенного свойства...
Например, Бурвиль и деньги.
Зарабатывает он много, об этом нетрудно догадаться. И он доволен. Чего ему быть недовольным?
Он говорит о деньгах пренебрежительно и легко, но тратит их разумно. Он не из тех, кто закуривает сигарету крупной купюрой. Но он не дает деньгам оказывать влияние на свою жизнь, портить, коверкать ее. И свою профессию тоже. Не так давно ему предложили роль в фильме международного класса. Эта роль ему не понравилась, и он, не польстившись на миллионы, ответил отказом.
"Жаль все-таки, – сказал ему импресарио, – потерять столько денег!"
На это Бурвиль ему ответил: – Денег у меня хватает, они мне не нужны.
А другого резона не было. Его не было главным образом потому, что потребности актера не росли вместе с его возвышением. К этому человеку не пришли несоразмерные желания по мере того, как появилась возможность их удовлетворять. У него хорошая квартира, загородный дом, он одевается у первоклассного портного, у него в погребе хорошие вина... Вот и все.
Ни яхты, ни личного самолета у него нет. Он не приобрел себе средневекового замка, у него нет пятидесяти пар обуви и пятидесяти костюмов, он не съедает за завтраком миску черной икры лишь потому, что может это себе позволить. Он не приглашает на роскошные вечеринки по двести гостей, чтобы они завидовали его удаче (и злословили – у него же за спиной). Он прикупил земли к родительской ферме, которую продолжает возделывать один из его братьев, и здесь, в Нормандии, проводит большую часть отдыха. Не на Таити и не в Конго, занимаясь охотой.
И это тоже способ не дать деньгам себя испортить. Или вот еще. Бурвиль и другие люди.
Другие люди – это значит друзья, но также все те, с кем он встречается: мальчик, с которым он обменялся парой слов, и даже публика...
Я уже говорила: для него "человек это человек", что угадываешь по его взгляду, всегда одинаковому, независимо от того, на кого он направлен, на "сильного мира сего" или "зеваку" – безразлично. Взгляд, в котором сквозит всегда одинаковое любопытство, слагающееся из непроизвольной симпатии и желания знать. Взгляд, устремленный прямо, без боязни встретить взгляд другого.
Тем не менее бывает, что он отворачивается: например, когда перед ним льстец, извергающий комплименты, как фонтан воду. Тогда этот взгляд смущенно избегает взгляда собеседника. Глаза щурятся, чтобы лучше его замаскировать. Улыбка гаснет и заменяется вежливой сдержанностью. Затем Бурвиль, сухо рассмеявшись, отворачивается... Однажды такой льстец распинался в моем присутствии, и Бурвиль сказал мне потом в сердцах: "Просто не понимаю, как человек может быть настолько лишенным чувства собственного достоинства. Не выношу таких типов, потому что... потому что мне самому неудобно за них!"
Я почти никогда не слышала, чтобы он говорил о ком-нибудь равнодушно. При том, что провести его нелегко и он прекрасно подмечает чужие недостатки, он почти всегда сглаживает отрицательную характеристику оговоркой: "Он не слишком симпатичен, но ведь надо учесть и то, что..."
Вот почему беседы с ним доставляют истинное удовольствие. Его размышления свидетельствуют о поразительном знании человеческой натуры, о здравом смысле, которого у него не занимать стать. Ему присущи мысли без затей и своеобразный юмор, подчеркиваемый улыбкой, чуть приподнимающей уголки губ, чтобы отразиться в глазах. Он возвращает цену затасканному слову, возвращает цену тому, что добрые люди думают, не решаясь сказать из опасения, что недостанет ума -гораздо легче прослыть умником, изрекая злые парадоксы, нежели говоря правду избитыми фразами.
Бурвиль говорит без изысков. Но как человек искренний и прямой, ненавидящий страдание и несправедливость, он возмущается страданием и несправедливостью. На вопрос, доволен ли он пребыванием в такой-то стране третьего мира, где он снимался, Бурвиль отвечает, что не может хорошо чувствовать себя там, где всюду проглядывает нищета, и начинает рассказывать, как ему было там нестерпимо тяжко... Если его воспоминания касаются войны, звучит тот же протест против ее возмутительной нелепости.
Мои предварявшие книгу записи о Бурвиле заполнены его размышлениями – им не нашлось места ни в одной главе -вполне отвлеченными, и тем не менее они характеризуют его лучше тех рассказанных им историй по поводу которых возникли.
Например, когда мы говорили о его детстве, он, вспоминая своего учителя, рассказал, что это был за прекрасный человек и как он встретился с ним на официальном приеме в родных краях. Разговор зашел об этом приеме, и Бурвиль, напустив на себя чопорность, изобразил присутствовавших на нем особ -красивых господ при орденах и регалиях – и всю сцену приема, но в конце концов расхохотался: "Я не знаю, как вести себя в таких местах... Понимаете, у меня язык не поворачивается сказать "господин президент" или "мэтр"... Не могу – и все тут – назвать "мэтром" даже того, кем восхищаюсь, это ужасно смешно. И как сказать, например, "монсеньер" епископу?"
Он мне рассказывал, что фирма, занимавшаяся прокатом фильма "Через Париж", организовала в рекламных целях конкурс носильщиков парижских вокзалов, победитель которого награждался путешествием в спальном вагоне до Марселя, где сам Бурвиль должен был его встретить и целый день сопровождать с одной официальной церемонии на другую. И он вспоминает одно связанное с этим происшествие. "Победителем оказался североафриканец, но кое-кого это не устраивало, и того хотели обвинить в жульничестве. К счастью, другой носильщик из Нормандии, и это было мне приятно, хотя ложным патриотизмом я не страдаю, доказал, что победил именно североафриканец. Терпеть не могу расизма... А во время банкета в Марселе, все по той же причине, что он не француз, к нему обращались "на ты". Не понимаю, как люди позволяют себе кого-нибудь тыкать: лично я "на ты" только с тем, кто "на ты" со мной"...
Но еще в моих записях есть отдельные слова, смысл которых ясен лишь мне одной: "дети", "материнский день",
"присуждение наград", потому что в тот день мы разговаривали о наших детях и нашей семейной жизни...
На этом хочется ненадолго остановиться и рассказать о Бурвиле-семьянине.
Дело не только в том, что с именем Бурвиля не связаны светские сплетни. Он не единственное исключение. Дело в том, какое место в его жизни занимают жена и дети или, скорее, в том, что ему удалась личная жизнь, удалось найти равновесие между человеком и актером. Разумеется, если я расскажу вам о Бурвиле, который после рабочего дня просит детей показать отметки в дневниках, беспокоится о больном горле одного из них, обсуждает с женой предполагаемую покупку ковра, сходит на кухню и, приподняв крышку кастрюли, заглянет, что приготовлено на ужин, расскажет за столом о мелких происшествиях дня, велит младшему сынишке убрать локти со стола... а когда улягутся дети, ведет беседу с женой о трудной проблеме (например, о подписании очередного контракта – он не принимает решений, не посоветовавшись с ней) – вас это не удивит. Вы знаете, что так оно и должно быть...
Все это покажется вам в порядке вещей, разумеется, в отношении Бурвиля. Скорее, вас удивляют, наверное, те актеры, жизнь которых – серия светских скандалов, потому что они живут... как актеры, то есть их образ жизни полностью определен средой. Вот почему то, что покажется вам естественным в жизни Бурвиля, не так уж естественно, не так уж в порядке вещей. Чтобы жить, как он, нужна особая предрасположенность, весьма редкая у актеров. Если верно, что жизнь актера при нормальных обстоятельствах может распределяться, как и для всех нас, между семьей и профессией, верно и то, что эта профессия отличается требовательностью, полна соблазнов и готова поглотить целиком тех, кто к ней причастен. Но если Бурвиль не поддается дешевым соблазнам, когда они не отвечают его желаниям, – это не только вопрос нравственности, это вопрос вкуса.
Что поражает меня, так это жизнь Бурвиля – жизнь Человека Как Все, но посвятившего себя профессии, не похожей ни на одну, – всепоглощающей, всепожирающей, требующей полной самоотдачи, профессии, которая вынуждает актера почти ежедневно, включая воскресенье, уходить из дому часов в восемь и возвращаться, когда все спят.
Бурвиль редко снимается в летние месяцы или во время пасхальных каникул, эти периоды он посвящает семье. Он занимается зимним спортом не в феврале, как все, а в школьные каникулы, так как уезжает в горы с детьми... Все это и еще многое другое указывает, как он заботится о том, чтобы возможно лучше оберегать семейную жизнь.
Даже когда он в Париже, его редко застанешь дома. Но уж когда он дома, он дома весь, без остатка. Если его редко встретишь на вечеринках и других светских сборищах, то прежде всего потому, что они его не интересуют, и еще потому, что он стремится посвятить крохи свободного времени жене и детям. Главной темой наших бесед была его забота о том, чтобы воспитать детей настоящими людьми. И, как логическое следствие, – его восхищение женой, разделившей с ним тяжесть этой задачи, которая, вероятно, одному ему была бы не под силу.
Я расскажу немного о его жене, хотя бы потому, что она его подруга вот уже двадцать лет и его второе "я", и еще потому, что, думается мне, в семейном союзе, сохраняющем прочность уже столько времени, один супруг – отражение другого и помогает лучше понять другого. Будь подругой жизни Бурвиля очаровательная пустышка, это исказило бы его портрет. Но все дело в том, что его подруга – не очаровательная пустышка. Когда я встретила одного из самых давних друзей Бурвиля и попросила рассказать мне о нем, тот призадумался и потом заговорил о его жене, словно таким, окольным путем он мог лучше познакомить меня с ним самим.
Эта молоденькая девушка из Бурвиля в Нормандии, полюбившая ученика пекаря и ждавшая его, пока он искал свое место в жизни, приехала к нему в Париж, когда он получил возможность основать семейный очаг. И вдруг в ее жизни начались перемены, к которым она не была готова. С этого момента ей оставалось лишь одно – крепко держаться за свою судьбу и, несмотря на всю неподготовленность, нести ее бремя и решать соответствующие проблемы, как положено жене Бурвиля. А это значило, что, поскольку ее муж, вопреки своей профессии, хочет во что бы то ни стало оставаться человеком, как все, она должна быть женой, как другие жены. Но только в лучшем смысле этого слова. Что не так-то легко. Поначалу главная проблема для этой четы заключалась в том, чтобы сберечь свой союз, поскольку молодому человеку и молодой женщине, связанным общими планами (быть вместе счастливыми и, раз они любят друг друга, иметь детей, а со временем как можно лучше поставить их на ноги), многое угрожало из-за профессии мужа. Я думаю даже не о ревности, которая могла бы поселиться в душе молодой жены, чей муж постоянно сталкивается с великими соблазнительницами сцены и экрана. Но я думаю об опасении, что можешь оказаться не на высоте положения в среде, где судят о человеке по одному лишь внешнему впечатлению. Я думаю также о горести ожиданий, о чувстве одиночества и просто о мысли, что муж, который целиком, со всей страстью, отдается своему делу, принадлежит вам меньше, чем мог бы принадлежать на его месте другой.
И еще я думаю, что эта молодая женщина, наверное, задавалась вопросом, как не отставать от мужа, уже переставшего быть тем простым парнем, за которого она выходила замуж, как поспевать за ним в его росте и возвышении. И что ей для этого следовало делать? Копировать писаных красоток, с которыми он сталкивается повседневно? Это выглядело заманчиво... И для другого мужа, не Бурвиля, быть может, и следовало поступить именно так: стать светской львицей (что нетрудно, стоит на это решиться), уметь протягивать руку для поцелуя и проводить дни в косметических кабинетах, в гостиных за чаем...