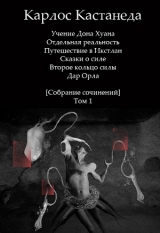
Текст книги "Собрание сочинений [Том 1]"
Автор книги: Карлос Кастанеда
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 103 страниц)
– Нет. Я счастлив оттого, что смотрю на вещи, делающие меня счастливым, а потом уже глаза схватывают их забавные стороны, и я смеюсь. Я говорил тебе это много раз. Чтобы быть на высоте, всегда нужно выбирать путь, подсказанный сердцем. Может быть, для кого-то это будет означать всегда смеяться.
Я решил, что он имеет в виду противоположность смеха и плача, или хотя бы то, что плач – это действие, которое нас ослабляет. Но дон Хуан заявил, что никакого принципиального различия нет. Просто ему лично больше подходит смех, потому что когда он смеется, тело его чувствует себя лучше, чем когда он плачет.
Тогда я заметил, что равнозначности здесь все же нет, поскольку есть предпочтение. Если он предпочитает смеяться, а не плакать, то смех – важнее. Но он упрямо твердил, что его предпочтение ничего не значит; они равноценны. Я заявил, что, доводя наш спор до логического конца, можно сказать: «Если все равнозначно, то почему бы не выбрать смерть?»
– Иногда человек знания так и поступает, – сказал дон Хуан. – И однажды он может просто исчезнуть. В таких случаях люди обычно думают, что его за что-то убили. А он просто выбрал смерть, потому что для него это не имело значения. Я выбрал жизнь. И смех. Причем вовсе не оттого, что это важно, а потому, что такова склонность моей натуры. Я говорю «выбрал», потому что вижу. Но на самом деле выбрал не я. Моя воля заставляет меня жить вопреки тому, что я вижу в мире. Ты сейчас не можешь меня понять из-за своей привычки думать так, как ты смотришь.
Последняя фраза меня заинтриговала. Я спросил, что он имеет в виду.
Дон Хуан несколько раз дословно повторил ее, а потом объяснил, что, говоря «думать», имеет в виду устойчивые постоянные понятия, которые есть у нас обо всем в мире. Он сказал, что видение избавляет от привычки к ним. Но пока я не научусь видеть, мне не удастся понять, о чем идет речь.
– Но если ничто не имеет значения, дон Хуан, то с какой стати должно иметь значение – научусь я видеть или нет?
– Я уже говорил тебе, что наша судьба как людей – учиться, для добра или зла. Я научился видеть, и говорю, что нет ничего, что имело бы значение. Теперь – твоя очередь. Вполне вероятно, что в один прекрасный день ты научишься видеть, и тогда сам узнаешь, что имеет значение, а что – нет. Для меня нет ничего, имеющего значение, но для тебя, возможно, значительным будет все. Сейчас ты должен понять: человек знания живет действием, а не мыслью о действии. Он выбирает путь сердца и следует по этому пути. Когда он смотрит, он радуется и смеется; когда он видит, он знает. Он знает, что жизнь его закончится очень скоро: он знает, что он, как любой другой, не идет никуда: и он знает, что все равнозначно. У него нет ни чести, ни достоинства, ни семьи, ни имени, ни родины. Есть только жизнь, которую нужно прожить. В таких условиях контролируемая глупость – единственное, что может связывать его с ближними. Поэтому он действует, потеет и отдувается. И взглянув на него, любой увидит обычного человека, живущего так же, как все. Разница лишь в том, что глупость его жизни находится под контролем. Ничто не имеет особого значения, поэтому человек знания просто выбирает какой-то поступок и совершает его. Но совершает так, словно это имеет значение. Контролируемая глупость заставляет его говорить, что его действия очень важны, и поступать соответственно. В то же время он прекрасно понимает, что все это не имеет значения. Так что, прекращая действовать, человек знания возвращается в состояние покоя и равновесия. Хорошим было его действие или плохим, удалось ли его завершить – до этого ему нет никакого дела.
С другой стороны, человек знания может вообще не совершать никаких поступков. Тогда он ведет себя так, словно эта отстраненность имеет для него значение. Так тоже можно, потому что и это будет контролируемая глупость.
В длинных и путаных выражениях я попытался объяснить дону Хуану, что меня интересуют мотивы, заставляющие человека знания действовать определенным образом вопреки пониманию того, что ничто не имеет значения. Усмехнувшись, он ответил:
– Ты думаешь о своих действиях, поэтому тебе необходимо верить, что действия эти важны настолько, насколько ты их таковыми считаешь. Но в действительности из всего, что человек делает, нет ничего, что имело бы значение. Ничего! Но как тогда я могу жить? Ведь ты об этом спрашивал? Проще было бы умереть; ты так говоришь и считаешь, потому что думаешь о жизни. Как, например, думаешь сейчас, на что похоже видение. Ты требуешь от меня описания. Такого, которое позволило бы тебе об этом думать, как ты думаешь обо всем остальном. Но в случае видения думать вообще невозможно. Поэтому мне никогда не удастся объяснить тебе, что это такое. Теперь по поводу моей контролируемой глупости. Ты хочешь услышать о причинах, которые побуждают меня действовать именно так, но я могу сказать лишь одно – контролируемая глупость очень похожа на видение. Ни о том, ни о другом думать невозможно.
Дон Хуан зевнул, лег на спину и потянулся, хрустнув суставами.
– Ты слишком долго отсутствовал, – сказал он, – и ты слишком много думаешь.
Он встал и направился в густой чаппараль за домом. Я остался сидеть у огня, подбрасывая хворост, чтобы варево в кастрюле кипело. Хотел было зажечь керосиновую лампу, но сумерки были очень успокаивающими. Света от огня в очаге было достаточно, чтобы писать. Красноватые отблески ложились повсюду. Я положил блокнот на землю и лег рядом. Я устал. Из всего нашего разговора в голове осталось только одно – дону Хуану нет до меня никакого дела. Это не давало мне покоя. Столько лет я ему верил! Если б не эта вера, меня давно бы уже парализовало от страха при встрече с тем, чему он меня учил. В основе этой веры была твердая убежденность в том, что дон Хуан заботится лично обо мне. По большому счету я всегда его побаивался, но страх этот мне удавалось подавлять благодаря глубокой вере. Теперь он сам полностью разрушил основу, на которой строилось мое к нему отношение. Мне не на что было опереться. Я чувствовал себя совершенно беспомощным.
Меня охватило какое-то странное беспокойство. Я вскочил и начал возбужденно ходить возле очага. Дон Хуан все не приходил, и я с нетерпением ожидал его возвращения.
Наконец он появился и уселся возле огня. Я выложил ему все о своих страхах: и то, что не могу менять направление, добравшись до середины потока: и то, что вера в него для меня неотделима от уважения к его образу жизни, который по своей сути рациональнее, вернее, целесообразнее моего; и то, что он загнал меня в угол, ввергнув в ужасающий конфликт, потому что его слова заставляют в корне изменить мое отношение и к нему, и ко всему, что с ним связано. В качестве примера я рассказал дону Хуану одну историю о старом американце, очень образованном и богатом юристе, консерваторе по убеждениям. Этот человек всю жизнь свято верил, что борется за правое дело. В тридцатые годы, когда администрацией Рузвельта были разработаны и начали претворяться в жизнь кардинальные меры по оздоровлению американской экономики, так называемый «новый подход», он оказался полностью втянутым в политическое противостояние. Он был убежден, что перемены приведут к развалу государства. Отстаивая привычный образ жизни и будучи убежденным в своей правоте, этот человек яростно ринулся в самую гущу борьбы с тем, что он считал политическим злом. Однако время перемен уже наступило, и волна новых политических и экономических реалий опрокинула его. Десять лет он боролся как на политической арене, так и в личной жизни, но вторая мировая война добила его окончательно и в политическом, и в идеологическом отношении. С чувством горечи он ушел от дел и забрался в глушь, добровольно обрекая себя на ссылку. Когда я познакомился с ним, ему было уже восемьдесят четыре, он вернулся в родной город, чтобы дожить оставшиеся годы в доме престарелых. Мне было непонятно, что он жил так долго, учитывая испытываемые на протяжении десятилетий горечь и жалость к себе. Я ему чем-то понравился, и мы часто и подолгу беседовали.
Заканчивая разговор, который состоялся у нас перед моим отъездом в Мексику, он сказал: – У меня было достаточно времени, чтобы оглянуться назад и разобраться в происходившем. Главные события моей жизни уже давно стали историей, причем далеко не лучшими ее эпизодами. И возможно, что я потратил годы своей жизни в погоне за тем, чего просто не существовало. В последнее время я чувствую, что верил в какой-то фарс. Ради этого не стоило жить. Теперь-то я это знаю. Но потерянных сорока лет уже не вернуть…
Я сказал дону Хуану, что причиной моего внутреннего конфликта были его слова о контролируемой глупости.
– Если нет ничего, что имело бы значение, – рассуждал я, – то тогда, став человеком знания, неизбежно придешь к такой же опустошенности, как этот старик, и окажешься не в лучшем положении.
– Это не так, – возразил дон Хуан. – Твой знакомый одинок, потому что так и умрет, не умея видеть. В своей жизни он просто состарился, и сейчас у него больше оснований для жалости к себе, чем когда бы то ни было. Он чувствует, что потеряно сорок лет, потому что он жаждал побед, но потерпел поражение. Он так никогда и не узнает, что быть победителем и быть побежденным – одно и то же.
Теперь ты боишься меня, потому что я сказал тебе, что ты равнозначен всему остальному. Ты впадаешь в детство. Наша судьба как людей – учиться, и идти к знанию следует так, как идут на войну. Я говорил тебе об этом много раз. К знанию или на войну идут со страхом, с уважением, с осознанием того, куда идут, и с абсолютной уверенностью в себе. В себя ты должен верить, а не в меня!
Ты боишься пустоты, в которую превратилась жизнь твоего знакомого? Но в жизни человека знания не может быть пустоты. Его жизнь заполнена до краев.
Дон Хуан встал и вытянул перед собой руки, как бы ощупывая что-то в воздухе.
– Все заполнено до краев, – повторил он, – и все равнозначно. Я не похож на твоего знакомого, который просто состарился. И, утверждая, что ничто не имеет значения, я говорю совсем не о том, что имеет в виду он. Для него его борьба не стоила усилий, потому что он потерпел поражение. Для меня нет ни побед, ни поражений, ни пустоты. Все заполнено до краев и все равно, и моя борьба стоила моих усилий.
Чтобы стать человеком знания, нужно быть воином, а не ноющим ребенком. Бороться не сдаваясь, не жалуясь, не отступая, бороться до тех пор, пока не увидишь. И все это лишь для того, чтобы понять, что в мире нет ничего, что имело бы значение.
Дон Хуан помешал содержимое кастрюли деревянной ложкой. Суп был готов. Он снял кастрюлю с огня и поставил на прямоугольное кирпичное сооружение возле стены, которым пользовался как столом и полкой, и ногой придвинул к столу два низких ящика, служивших стульями. Сидеть на них было довольно удобно, особенно если прислониться спиной к вертикальным брусьям стены. Налив мне полную миску, дон Хуан знаком пригласил меня к столу. Он улыбался, глаза его сияли, словно мое присутствие доставляло ему море радости. Аккуратным движением он пододвинул мне миску. В том, как он это сделал, было столько тепла и доброты, что я воспринял этот жест как предложение восстановить свою веру в него. Я почувствовал себя идиотом и, чтобы как-то развеять это ощущение, начал разыскивать свою ложку. Ее нигде не было. Суп был слишком горячим, чтобы пить прямо из миски, и, пока он остывал, я спросил у дона Хуана, означает ли контролируемая глупость то, что человек знания никого не может любить.
Дон Хуан перестал есть и расхохотался.
– Ты слишком озабочен тем, чтобы любить людей, и тем, чтобы тебя любили. Человек знания любит, и все. Он любит всех, кто ему нравится, и все, что ему по душе, но он использует свою контролируемую глупость, чтобы не заботиться об этом. Что полностью противоположно тому, чем сейчас занимаешься ты. Любить людей или быть любимым ими – это еще далеко не все, что доступно человеку.
Он посмотрел на меня, слегка склонив голову набок, и добавил:
– Подумай об этом. – Дон Хуан, есть еще один момент, о котором я хотел бы спросить. По твоим словам, для того, чтобы смеяться, нужно смотреть глазами; но мне кажется, что мы смеемся потому, что думаем. Возьми слепого – он тоже смеется.
– Нет. Слепые не смеются. Они могут производить звуки, похожие на смех, и тела их при этом будут вздрагивать, как при смехе. Но они никогда не смотрели на смешные стороны мира, им приходится их воображать. Поэтому по-настоящему хохотать слепые не могут.
Больше мы не разговаривали. Я чувствовал себя счастливым. Сначала мы ели молча; а потом дон Хуан начал смеяться – я использовал сухой прутик, чтобы подносить овощи ко рту.
4 октября 1968
Сегодня днем, выбрав время, я спросил дона Хуана, не будет ли он возражать, если мы немного поговорим о видении. Он сначала вроде согласился, но потом, усмехнувшись, сказал, что я вновь взялся за свое – пытаюсь подменить разговорами действие.
– Если ты хочешь видеть, ты должен позволить дымку вести себя, – сказал он с ударением. – Разговаривать же об этом я не желаю.
Я помогал ему очищать какие-то сухие растения. Довольно долго мы работали в полном молчании. От долгого молчания мне всегда становилось не по себе, особенно в присутствии дона Хуана. Наконец я не выдержал и задал вопрос, вырвавшийся у меня чуть ли не самопроизвольно:
– Как человек знания применяет контролируемую глупость, если умирает тот, кого он любит?
Вопрос застал дона Хуана врасплох. Он удивленно взглянул на меня.
– Возьмем Лусио, – развил я свою мысль. – Если он будет умирать, останутся ли твои действия контролируемой глупостью?
– Давай лучше возьмем моего сына Эулалио. Это – более подходящий пример, – спокойно ответил дон Хуан. – На него свалился обломок скалы, когда мы работали на строительстве Панамериканской магистрали. То, что я делал, когда он умирал, было контролируемой глупостью. Подойдя к месту обвала, я понял, что он уже практически мертв. Но он был очень силен, поэтому тело еще продолжало двигаться и биться в конвульсиях. Я остановился перед ним и сказал парням из дорожной бригады, чтобы они его не трогали. Они послушались и стояли вокруг, глядя на изуродованное тело. Я стоял рядом, но не смотрел, а сдвинул восприятие в положение видения. Я видел, как распадается его жизнь, расползаясь во все стороны подобно туману из мерцающих кристаллов. Именно так она обычно разрушается и испаряется, смешиваясь со смертью. Вот что я сделал, когда умирал мой сын. Это – единственное, что вообще можно сделать в подобном случае. Если бы я смотрел на то, как становится неподвижным его тело, то меня бы изнутри раздирал горестный крик, поскольку я бы чувствовал, что никогда больше не буду смотреть, как он, красивый и сильный, ступает по этой земле.
Но я выбрал видение. Я видел его смерть, и в этом не было печали, не было вообще никакого чувства. Его смерть была равнозначна всему остальному.
Дон Хуан замолчал: он казался печальным. Вдруг он улыбнулся и потрепал меня по затылку.
– Другими словами, когда умирает тот, кого я люблю, моя контролируемая глупость заключается в смещении восприятия, – сказал он.
Я вспомнил тех, кого любил сам, и сердце защемило от приступа жалости к себе.
– Счастливый ты, дон Хуан. Умеешь сдвигать восприятие. А я могу только смотреть…
Мои слова его рассмешили.
– Счастливый… Осел! – произнес он. – Это – тяжкий труд.
Мы засмеялись. После длительной паузы я снова начал его расспрашивать, видимо для того, чтобы развеять собственную печаль.
– Дон Хуан, если я правильно понимаю, в жизни человека знания контролируемой глупостью не являются только действия в отношении союзников и Мескалито? Верно?
– Верно, – кивнул он. – Союзники и Мескалито – существа совершенно иного плана. Моя контролируемая глупость распространяется только на меня и на мои действия по отношению к людям.
– Да, но логически можно предположить, что человек знания мог бы рассматривать как контролируемую глупость также и свои действия в отношении союзников и Мескалито, не так ли?
Какое-то время он молча смотрел на меня.
– Снова ты начинаешь думать. Человек знания не думает, поэтому возможность такого логического предположения для него исключена. Возьмем, к примеру, меня. Я говорю, что практикую контролируемую глупость по отношению к людям, и говорю так потому, что способен их видеть. Однако я не могу увидеть, что скрывается за союзником, поэтому он для меня непостижим. Как, скажи на милость, могу я контролировать свою глупость, сталкиваясь с тем, чего не понимаю? По отношению к союзнику и Мескалито я всего лишь человек, который знает как видеть, человек, который поражен тем, что он видит; человек, которому никогда не будет дано постичь все, что его окружает.
Теперь возьмем, к примеру, тебя. Мне безразлично, станешь ты человеком знания или нет, а Мескалито это почему-то не безразлично. Ясно, что для него это имеет какое-то значение, иначе он не стал бы столько раз и так явно демонстрировать свою заинтересованность в тебе. Он позволил мне это заметить, и я иду ему навстречу хотя причины, заставляющие Мескалито действовать таким образом, для меня непостижимы.
Глава 6
5 октября 1968
Мы с доном Хуаном садились в машину, собираясь ехать в Центральную Мексику. Неожиданно он меня остановил.
– Я уже не раз говорил тебе, что нельзя раскрывать настоящих имен магов и рассказывать, где они живут. Думаю, ты понял, что мое истинное имя и место, в котором находится мое тело, всегда должны оставаться в тайне. Сейчас я хочу попросить тебя о том же в отношении моего друга. Ты будешь называть его Хенаро. Сейчас мы поедем к нему и немного у него погостим.
Я заверил дона Хуана, что никогда не нарушал этого условия.
– Я знаю, – сказал он по-прежнему серьезно. – Но меня беспокоит то, что временами ты становишься рассеянным и очень уж беспечным.
Я было запротестовал, но дон Хуан сказал, что хотел только напомнить мне о том, что неосторожность в магии – это игра со смертью, бесчувственной и готовой в любой момент стереть с лица земли совершившего ошибку. Но внимательность и осознание каждого шага могут предотвратить такой исход.
– Больше мы к этому возвращаться не будем, – сказал он. – Как только мы отъедем от моего дома – ни слова о Хенаро, более того – ни одной мысли о нем. А сейчас – приведи, пожалуйста, свои мысли в порядок. Когда ты с ним встретишься, тебе нужно будет отбросить все сомнения и стать чистым.
– О каких сомнениях ты говоришь, дон Хуан?
– О любых. К моменту встречи ты должен быть кристально чист. Он увидит тебя.
Его странные предостережения сильно меня обеспокоили. Я заметил, что, может быть, мне вообще не стоит знакомиться с его другом. Я мог бы просто отвезти дона Хуана туда и высадить где-то неподалеку от его дома.
– Я лишь предупредил тебя, – сказал дон Хуан. – Ты уже однажды познакомился с магом, и он чуть не убил тебя. Я имею в виду Висенте. Так что в этот раз будь осторожней. Приехав в один из городков Центральной Мексики, мы оставили машину на стоянке и пешком отправились в горы, туда, где жил друг дона Хуана. Переход занял два дня. Наконец, показалась маленькая хижина, прилепившаяся к склону горы. Хозяин стоял в дверях, словно ожидая нас. Я сразу же его узнал – мы, оказывается, уже встречались, правда, мимоходом, в тот день, когда я привез дону Хуану свою книгу. Тогда я не обратил на него особого внимания. Мне казалось, что он примерно одного возраста с доном Хуаном. Однако сейчас, когда он стоял в дверях, я заметил, что он значительно моложе – где-то чуть больше шестидесяти. Он был ниже дона Хуана ростом, тоньше, очень жилистый и темнокожий. Довольно длинные и очень густые черные с проседью волосы закрывали уши и лоб. Выражение округлого лица было жестким. Длинный нос и маленькие темные глаза придавали ему сходство с какой-то хищной птицей.
Сначала он обратился к дону Хуану. Тот утвердительно кивнул. Они перекинулись несколькими фразами, но говорили не по-испански, так что я ничего не понял. Потом дон Хенаро обратился ко мне. – Добро пожаловать в мою скромную маленькую лачугу, – извиняющимся тоном произнес он по-испански.
Это была стандартная вежливая формула, которую мне неоднократно доводилось слышать в сельских районах Мексики. Но произнося ее, он без видимой причины засмеялся так радостно, что я понял – это его контролируемая глупость. Ему было в высшей степени безразлично, что дом его – лачуга. Мне дон Хенаро очень понравился.
Первых два дня мы бродили по горам, собирая растения. Отправлялись мы на рассвете. Старики уходили вдвоем – у них в горах было какое-то особое место, – а меня оставляли в лесу. Чувствовал я себя там замечательно. Время пробегало незаметно, одиночество меня ничуть не угнетало. Оба дня я находился в состоянии удивительной собранности. Мне удалось добиться необычайной для себя сосредоточенности на поиске определенных видов растений, которые поручил мне собирать дон Хуан.
Возвращались мы поздно вечером. Я так уставал, что засыпал практически мгновенно.
Но на третий день мы работали вместе. Дон Хуан попросил дона Хенаро научить меня собирать некоторые растения. Вернулись мы к полудню; оба старика уселись перед домом и неподвижно просидели несколько часов, словно в трансе. Но они не спали. Я дважды проходил перед ними, и оба раза они провожали меня глазами.
– Прежде чем сорвать растение, с ним нужно поговорить, – сказал дон Хуан. Он произнес это очень размеренно и трижды повторил, как будто пытаясь завладеть моим вниманием. До этого никто не произнес ни слова.
– Чтобы увидеть растения, с ними нужно разговаривать, – продолжал он. – И с каждым из них необходимо познакомиться. Тогда они расскажут все, что ты захочешь о них узнать.
Вечерело. Дон Хуан сидел на плоском камне, лицом на запад – в сторону гор, дон Хенаро – рядом с ним на соломенной циновке, лицом на север. В первый же день после нашего приезда дон Хуан объяснил мне, что это – – «их положения», и что мне следует садиться на землю в любом месте напротив них. Еще он добавил, что когда мы втроем сидим в «своих положениях», я должен располагаться лицом на юго-восток, и на них не смотреть, а только изредка поглядывать.
– Да, именно так обстоит дело с растениями, верно я говорю? – дон Хуан повернулся к дону Хенаро, и тот ответил утвердительным кивком.
Я сказал, что не выполняю его указаний насчет разговоров с растениями, так как, занимаясь этим, я чувствую себя глупо.
– Ты не понял. Маги не шутят, – сурово произнес дон Хуан. – Попытка мага видеть – это попытка овладеть силой.
Дон Хенаро с недоумением уставился на меня: его, видимо, сбивало с толку то, что я непрерывно пишу. Улыбнувшись мне, он тряхнул головой и что-то сказал дону Хуану. Дон Хуан пожал плечами. Дону Хенаро непрерывно пишущий ученик мага, должно быть, казался явлением весьма странным, по крайней мере, смотреть на это без смеха он не мог. Дон Хуан уже давно привык к тому, что я постоянно что-то записываю, и не обращал на это никакого внимания, продолжая говорить как ни в чем не бывало. Однако реакция дона Хенаро несколько нарушала общий настрой беседы, поэтому я отложил блокнот. Дон Хуан еще раз подчеркнул, что маги не шутят, поскольку для них каждый поворот пути – это игра со смертью. Потом он рассказал дону Хенаро об огнях смерти, которые я видел ночью за спиной на шоссе среди пустынных холмов. В этой истории, видимо, было что-то очень смешное – дон Хенаро от хохота буквально катался по земле.
Дон Хуан извинился передо мной, сказав, что его друг бывает подвержен приступам смеха. Я взглянул на дона Хенаро, ожидая увидеть его все еще катающимся по земле, но взору моему предстало нечто такое, что я невольно подскочил от изумления. Это было немыслимо и даже противоестественно – он стоял на голове без помощи рук. Ноги его при этом были спокойно сложены крест-накрест, как он их складывал, сидя на своей циновке. Но когда до меня, наконец, дошло, что с точки зрения законов механики человеческого тела дон Хенаро проделал нечто попросту невозможное, тот уже снова как ни в чем не бывало сидел в исходном положении. Дон Хуан, похоже, был в курсе происходящего, потому что приветствовал поразительный трюк своего друга взрывом раскатистого хохота.
Дон Хенаро вроде бы заметил, что я потрясен. Он похлопал в ладоши, приглашая меня следить за тем, что делает, и снова начал кататься по земле. Теперь я заметил, что в действительности он не катался по земле, а раскачивался из стороны в сторону, постепенно увеличивая амплитуду этих маятникообразных движений. В конце концов крутящий момент становишься достаточным для того, чтобы тело, перевернувшись, оказывалось в том противоестественном положении, которое я видел, и несколько мгновений дон Хенаро «сидел на собственной голове».
Когда они успокоились и перестали хохотать, дон Хуан продолжил. Тон его был очень суровым. Я немного подвинулся, сев поудобнее, чтобы не отвлекаться и полностью сосредоточиться на его словах. Обычно он говорил с улыбкой, особенно тогда, когда я слушал очень внимательно. Но сейчас улыбки не было. Дон Хенаро смотрел на меня, как бы ожидая, что я вот-вот возьмусь за карандаш. Но я решил больше не записывать. Дон Хуан устроил мне форменный разнос за то, что я не разговариваю с растениями, которые собираю, хотя он и велел мне это делать. Он говорил, что убитые мною растения вполне могли бы прикончить меня и что рано или поздно я неизбежно заболею из-за того, что обошелся с ними без должного уважения.
– Правда, ты никогда не согласишься с тем, что твоя болезнь – следствие неправильного обращения с растениями, – сказал дон Хуан, – и наверняка предпочтешь считать ее гриппом.
Они снова засмеялись, а потом дон Хуан очень серьезно и очень жестко добавил, что если не думать о своей смерти, то жизнь так и останется не более, чем личным хаосом.
– Что вообще может быть у человека, кроме его жизни и смерти? – задал он мне риторический вопрос.
Я почувствовал, что нужно записывать, и снова взялся за блокнот. Дон Хенаро уставился на меня, улыбаясь во весь рот. Потом он склонил голову набок и раздул ноздри. Мимикой он владел в совершенстве – ноздри увеличились в диаметре чуть ли не вдвое.
Но комичнее всего были не жесты дона Хенаро, а его собственная реакция на них. Раздув ноздри, он наклонился и снова встал в свою фантастическую стойку на голове.
Дон Хуан хохотал до слез. Я почувствовал раздражение и нервно засмеялся.
– Хенаро не любит, когда пишут, – объяснил дон Хуан.
Я отложил блокнот, но дон Хенаро заверил меня, что все нормально и он нисколько не возражает. Я снова взял блокнот и начал писать. Дон Хенаро повторил представление, и они опять хохотали до упаду.
Все еще смеясь, дон Хуан сказал, что его друг изображает меня – когда я пишу, то раздуваю ноздри. А по мнению дона Хенаро, пытаться стать магом, записывая поучения, – такое же трудное и нелепое занятие, как сидение на голове.
– Как это ни смешно, но вы с Хенаро очень похожи, – сказал дон Хуан. – Кроме него, никто не умеет так «сидеть на голове», а ты единственный, кто думает, что можно стать магом, записывая в блокнот поучения. Они снова засмеялись, и дон Хенаро опять повторил свой невероятный трюк: Этот человек мне определенно нравился. В его движениях были непревзойденная грация и точность.
– Прошу прощения, дон Хенаро, – сказал я, указывая на блокнот.
– Все о'кей, – усмехнулся он.
Больше записывать я не решался. Они долго говорили о способности растений убивать и об использовании магами этого свойства. Все время оба пристально смотрели на меня, как бы ожидая, что я начну записывать.
– Карлос у нас – как необъезженная лошадка. С ним нужно обращаться деликатно. Видишь, Хенаро, ты испугал его, и теперь он не может писать.
Дон Хенаро раздул ноздри, вытянул губы и сказал: – Ну что ты, Карлитос, пиши. Пиши, дорогой! Пока пальцы не отвалятся.
Дон Хуан встал и потянулся всем телом, подняв руки и выгнув спину. Несмотря на возраст, тело его выглядело очень сильным и гибким. Он ушел в кусты за дом, и я остался наедине с доном Хенаро. Тот посмотрел на меня. Я почувствовал смущение и отвел взгляд.
– Ах, и глядеть в мою сторону не хочет, – сказал он шутовским тоном.
Он снова раздул ноздри и сделал так, что они задрожали. Потом встал и, повторяя движение дона Хуана, потянулся, выгнув спину и подняв руки. Тело его при этом невероятным образом изогнулось и приняло совершенно немыслимое положение. В этом движении странным образом сочетались грация, гармония и какая-то шутовская нелепость – это была мастерски исполненная пародия на дона Хуана.
Как раз в этот момент дон Хуан появился из-за дома, заметил эту сцену, явно уловив ее значение, и с усмешкой сел на свое место.
– Куда дует ветер? – многозначительно спросил дон Хенаро.
Дон Хуан кивнул в сторону запада. – Ага… Схожу-ка я туда, куда ветер дует, – очень серьезно произнес дон Хенаро. Повернувшись, он погрозил мне пальцем:
– Не пугайся, если вдруг услышишь странные звуки. Запомни, Хенаро срет – земля дрожит!
Одним прыжком он скрылся в кустах, и спустя несколько мгновений я услышал странный звук – глубокий неземной грохот. Не зная что и думать, я взглянул на дона Хуана. Но тот катался по земле, корчась от хохота.
17 октября 1968
Не помню уже, по какому поводу дон Хенаро пустился в объяснение устройства того, что он называл «другим миром». Он сказал, что по-настоящему великий маг – это орел, вернее, он может превращаться в орла. Черный маг – «теколот», то есть сова. Он – порождение ночи, поэтому ему наиболее подходят горный лев и другие дикие кошки, а также ночные птицы, и в особенности – сова. «Брухос лирикос» – лирические маги, то есть маги-дилетанты, предпочитают других животных, например, ворону. Дон Хуан засмеялся.
Дон Хенаро повернулся к нему и сказал:
– Правда, Хуан, ты же сам знаешь…
Потом он объяснил, что маг может взять своего ученика с собой в путешествие сквозь десять слоев другого мира. Маг, если он действительно орел, начинает с самого нижнего слоя и последовательно проходит все десять до самого верха. Черные маги и дилетанты способны с огромным трудом добраться лишь до третьего снизу.
Дон Хенаро описал прохождение слоев другого мира так:
– Ты – в самом низу. Вот учитель берет тебя в полет, и скоро – бах – пролетаешь первый слой. Потом – бах – пролетаешь второй. Бах – третий…
Он методически «бахнул» десять раз, проведя меня таким образом сквозь все слои. Когда он закончил, дон Хуан посмотрел на меня и сочувственно улыбнулся.
– Разговоры не являются предрасположенностью Хенаро, но, если ты не против, он может преподать тебе практический урок равновесия. Дон Хенаро важно кивнул, подтверждая его слова. При этом он слегка выпятил губы и прикрыл глаза. Мне его жест показался замечательным.








