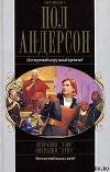Текст книги "Война с саламандрами (сборник)"
Автор книги: Карел Чапек
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 41 страниц)
Украденное убийство
– Это напоминает мне одно преступление, – сказал Гоудек, – которое было тоже хорошо задумано и подготовлено. Боюсь только, что мой рассказ вам не понравится, так как у него нет конца, и тайна остается нераскрытой. Если будет неинтересно, скажите, я не стану рассказывать.
Вы, кажется, знаете, что я живу на Круцембурской улице на Виноградах. Это одна из тех коротких поперечных улиц, на которых нет ни трактира, ни прачечной, ни даже угольной лавки. Обитатели этой улицы ложатся спать в десять часов, кроме тех прожигателей жизни, которые слушают радио и поэтому залезают в постель около одиннадцати. Живут здесь большей частью тихие налогоплательщики и мелкие чиновники (не выше седьмого класса табели о рангах), среди них несколько любителей-ихтиологов, один музыкант, играющий на цитре, два филателиста, один вегетарианец, один спирит и один коммивояжер – разумеется, приверженец теософии. Остальное население улицы – это квартирохозяйки, у которых все эти жильцы занимают «чистые, элегантно обставленные комнаты с подачей утреннего завтрака» – как пишется в объявлениях. Раз в неделю, по четвергам, коммивояжер-теософ возвращался домой около полуночи, так как посещал какие-то душеспасительные беседы. По вторникам поздно возвращались два натуралиста – у них бывали собрания кружка «Аквариум» – и обычно, остановившись под фонарем, спорили о живородках и золотых рыбках. Три года назад на нашей улице даже видели пьяного, но, говорят, он был из Коширж и просто заблудился.
Зато ежедневно в четверть двенадцатого возвращался домой какой-то русский, по фамилии не то Коваленко, не то Копытенко, человек небольшого роста, с реденькой бородкой. Снимал он комнату у пани Янской в доме номер семь.
На что жил этот русский, никто не знал, но до пяти часов вечера он обычно валялся дома, потом брал портфель, шел к ближайшей остановке трамвая и ехал в центр города. Вечером, ровно в четверть двенадцатого, он выходил из трамвая на той же остановке и сворачивал на Круцембурскую улицу. Кто-то потом рассказывал, что все это время он просиживал в кафе и ругался с другими русскими. Говорили еще, что это не мог быть русский, потому что русские никогда не возвращаются домой так рано.
В прошлом году, в феврале, я уже дремал, как вдруг слышу за окном пять резких ударов. Сквозь сон мне показалось, будто я еще мальчишка и щелкаю на дворе бичом и радуюсь, что он так здорово хлопает. Потом я вдруг сразу проснулся и осознал, что это стрельба из револьвера. Подбегаю к окну, отворяю его и вижу – внизу, на тротуаре, перед домом номер семь лежит ничком мужчина с портфелем в руке. Тут послышался топот ног, из-за угла появился полицейский, подбежал к лежащему, приподнял его, но, пробормотав: «Эх, черт!» – снова опустил его на землю и засвистел. Из-за другого угла тотчас же показался второй полицейский и поспешил к первому.
Я, конечно, быстро сунул ноги в туфли, накинул пальто и устремился вниз. Из других домов выбежали вегетарианец, музыкант, один из ихтиологов, дворники и филателист. Остальные глядели из окон, стуча от страха зубами и думая: «Ну его к черту, еще впутаешься в историю». Тем временем полицейские перевернули человека навзничь.
– Ведь это тот русский, Копытенко или Коваленко, что живет у пани Янской, – говорю я дрожащим голосом. – Он мертв?
– Не знаю, – мрачно отвечает полицейский. – Надо вызвать врача.
– Н-н-неужели вы оставите его лежать здесь? – возмущенно спросил музыкант, заикаясь. – Отвезите его в больницу.
На улице собралось уже человек двенадцать, все тряслись от холода и страха, а полицейские, опустившись на колени рядом с пострадавшим, зачем-то расстегивали ему воротник. В это время на углу главной улицы остановилось такси, и шофер вышел посмотреть, что случилось. Наверное, думал, что это пьяный и можно заработать, отвезя его домой.
– В чем дело, братцы? – приятельски спрашивает он нас.
– З-з-застрелили человека, – стуча зубами, говорит вегетарианец. – П-п-положите его в машину и отвезите в «Скорую помощь», может, он еще жив.
– Вот чертовщина! – проворчал шофер. – Не очень-то я люблю такие истории. Ну ладно, погодите, я сюда подъеду.
Он не торопясь пошел к своей машине и подогнал ее к мертвому.
– Кладите его в машину, – сказал он.
Двое полицейских подняли этого русского и с большим трудом погрузили в такси. Он, правда, был не тяжел, но ведь с мертвыми трудно управляться.
– Вы поезжайте с ним, коллега, а я запишу свидетелей, – сказал один полицейский другому. – Шофер, поезжайте в «Скорую помощь», да побыстрее.
– Побыстрее, – проворчал шофер. – А если у меня тормоза не в порядке?
И уехал.
Оставшийся полицейский вынул из кармана блокнот и говорит:
– Сообщите мне свои имена, господа. Это только для свидетельских показаний.
И записал нас одного за другим. Копался он страшно, видно, у него пальцы окоченели, и мы тоже замерзли как проклятые. Когда я вернулся в свою комнату, было двадцать пять минут двенадцатого. Стало быть, все происшествие длилось десять минут.
Я знаю, вы скажете, что во всем этом нет ничего особенного. Но послушайте, пан Тауссиг, в такой тихой улице, как наша, это – великое событие. Соседние улицы греются в лучах нашей славы, ибо могут сказать: «Это случилось здесь, за углом». Жители улиц, которые подальше от нас, прикидываются равнодушными, но это, если хотите знать, только по злобе и от зависти – ведь происшествие было не у них. А живущие еще дальше отмахиваются, говоря: «Кажется, там кого-то пристукнули, да черт его знает, так это или нет». Но это – лишь черная зависть.
Представляете себе, как на другой день все жители нашей улицы накинулись на вечерние газеты? Во-первых, нам хотелось узнать что-нибудь новое о нашем убийстве. Во-вторых, все предвкушали удовольствие читать о происшествии на своей улице. Ведь известно, что люди всего охотнее читают в газетах о том, что они видели, как говорится, собственными глазами. Предположим, на Уезде свалилась лошадь, в результате чего движение было нарушено на десять минут. Если об этом не написано, очевидец сердится и швыряет газету на стол: дескать, там и читать-то нечего. Его почти оскорбляет, что эти журналисты не увидели ничего важного в происшествии, в котором он принял самое непосредственное участие. Я думаю, что отдел происшествий существует специально для таких очевидцев, чтобы они от обиды не перестали покупать газеты.
Мы были просто оскорблены, когда ни в одной из газет не нашли ни слова об убийстве. «Черт возьми, – ворчали мы, – расписывают тут всякие политические события, разные аферы и сообщают даже о том, что трамвай наскочил на ручную тележку, а о нашем убийстве – ни слова. До чего продажны эти газеты!»
Потом филателисту пришло в голову, что, наверное, полиция попросила газеты до окончания расследования не писать об убийстве. Это нас и успокоило, и еще больше взволновало. Мы гордились, что живем на такой улице и, несомненно, будем вызваны свидетелями по этому таинственному делу. Но и на второй день в газетах не было ничего об убийстве и никто из полиции не приходил произвести следствие, а самое удивительное – никто не явился к хозяйке убитого, чтобы осмотреть или опечатать его комнату.
Это уже задело за живое. Музыкант сказал, что, может, полиция хочет замять дело – бог весть, кто в нем замешан.
Когда и на третий день газеты молчали об убийстве, вся улица начала возмущаться и твердить, что мы этого так не оставим, что в конце концов убитый был наш сосед и мы добьемся того, что все эти махинации будут разоблачены. Нашу улицу и без того явно третируют – у нас и мостовая никуда не годится, и освещение скверное, а небось живи здесь какой-нибудь парламентарий или газетчик, было бы совсем другое дело. Этакая порядочная улица, а за нее некому заступиться.
Короче говоря, возникло стихийное недовольство, и соседи обратились ко мне – как к пожилому, солидному человеку – и попросили пойти в участок и рассказать полицейскому комиссару о безобразном отношении к убийству.
Вот я и пошел к комиссару Бартошеку, которого немного знал. Это такой мрачный человек. Говорят, он все еще страдает из-за какой-то несчастной любви. Будто бы только с горя он и пошел служить в полицию.
– Пан комиссар, – говорю ему, – я пришел спросить у вас, как обстоит дело с убийством на Круцембурской улице? Нас удивляет, что это дело так упорно замалчивают.
– Какое убийство? – спрашивает комиссар. – Там не было никакого убийства. Я точно знаю, ведь это наш район.
– Ну как же, а этот самый русский, Коваленко или Копытенко, которого застрелили на улице? – напоминаю я. – Там было двое полицейских, и один записал свидетелей, а другой отвез убитого в «Скорую помощь».
– Это невозможно, – объявил комиссар. – У нас никакого убийства не зарегистрировано. Наверное, это ошибка.
– Ах, пан комиссар, – говорю я, начиная сердиться, – очевидцами этого происшествия были по меньшей мере пятьдесят человек, и все могут подтвердить. Мы лояльные граждане, пан комиссар, и если надо держать язык за зубами, вы нам так и скажите. Но игнорировать убийство просто так, за здорово живешь – это никуда не годится. Мы напишем в газеты.
– Постойте! – говорит комиссар, сделав такое серьезное лицо, что мне даже страшно стало. – Расскажите, пожалуйста, все по порядку.
Я принялся рассказывать ему все по порядку, и он так заволновался, что прямо позеленел, но когда я дошел до того места, как один полицейский сказал другому: «Вы с ним поезжайте, коллега, а я запишу свидетелей», – он облегченно вздохнул и воскликнул:
– Господи, да ведь это были не наши люди! Мать честная, почему вы не вызвали полицейских против таких «полицейских»?! Неужели вы не сообразили, что полицейские никогда не говорят друг другу «коллега»? Сыщик еще может так сказать, но полицейский – никогда! Эх вы, наивный шпак, вы, «коллега», почему вы не приняли мер для ареста этих людей?
– А за что же? – пробормотал я сокрушенно.
– За то, что они застрелили вашего соседа! – закричал комиссар. – Или, по крайней мере, были соучастниками убийства. Сколько лет вы живете на Круцембурской улице?
– Девять, – сказал я.
– Так вам следовало бы знать, что в одиннадцать часов пятнадцать минут вечера ближайший полицейский патруль находится около Крытого рынка. Еще один патруль в это время должен быть на углу Силезской и Перуновой улиц, а третий следует строевым шагом мимо дома с порядковым номером тысяча триста восемьдесят восемь. Из-за того угла, откуда выбежал ваш полицейский, наш полицейский может выбежать или в десять часов сорок восемь минут, или только в двенадцать часов двадцать три минуты, и ни в какое другое время, потому что в другое время его там нет. Это же, черт возьми, знает каждый вор, а вот честные обыватели не имеют об этом представления! Вы, может, думаете, что мои полицейские торчат за каждым углом? Если бы в то время, о котором вы говорите, выбежал из-за вашего проклятого угла наш полицейский, это бы уже было чрезвычайное происшествие. Прежде всего, потому, что в одиннадцать часов пятнадцать минут он должен был, согласно приказу, шагать у Крытого рынка, а во-вторых, потому, что он нам своевременно не доложил об убийстве. Это был бы, разумеется, весьма серьезный проступок.
– Господи боже мой! – сказал я. – Так как же с убийством?
– Темное дело, – сказал комиссар, явно успокоившись, – это, пан Гоудек, очень неприятный случай. За всем этим кроется ловкий преступник и какая-то крупная афера. Все было хитроумно задумано: во-первых, они знали, в котором часу их жертва приходит домой, во-вторых, знали маршрут и время следования полицейских патрулей, в-третьих, им надо было, чтобы полиция по крайней мере два дня не знала об убийстве. Видимо, этот срок был им необходим, чтобы скрыться или замести следы. Теперь вы все понимаете?
– Не совсем, – говорю я.
– Дело было так, – терпеливо объяснял мне полицейский комиссар. – Двое преступников оделись полицейскими и подстерегали этого русского за углом. Они застрелили его, или это сделал кто-то третий. Вы же, конечно, успокоились, видя, что наша образцовая полиция немедленно прибыла на место происшествия. Вспомните-ка, как звучал свисток того первого полицейского?
– Как-то глуховато, – сказал я. – Я думал, что это оттого, что он запыхался.
– Ага, – удовлетворенно заметил комиссар. – Короче говоря, они хотели устроить так, чтобы вы не сообщали об этом убийстве в полицию. Таким путем они выиграли время, чтобы скрыться за границу. Понимаете? Шофер тоже явно был из их шайки. Не помните номер машины?
– На номер мы, признаться, не обратили внимания, – смущенно сознался я.
– Не беда, все равно номер был фальшивый… Так что им удалось убрать и труп этого русского. Кстати, он был не русский, а какой-то македонец, и фамилия у него другая, Протасов. Ну ладно, спасибо вам, сударь. А теперь действительно прошу вас в интересах следствия молчать обо всем этом. Безусловно, это – политическое убийство. Его организатор, наверное, очень ловкий человек, потому что обычно, пан Гоудек, политические убийства совершаются из рук вон плохо. Там, где замешана политика, не жди даже порядочного преступления, там обычно бывает только грубая драка, – заметил комиссар с отвращением.
Позднее дело немного прояснилось. Причина убийства, правда, осталась неизвестной, но имена трех убийц полиция узнала. Все трое к этому времени уже давно были за границей. Так вот и получилось, что у нашей улицы попросту украли убийство. Вроде как вырвали из ее истории славнейшую страницу. Когда к нам иногда забредает чужак, кто-нибудь с проспекта Фоша или из Вршовиц, то небось думает: «Что за скучная улица!» И никто не верит нам, когда мы говорим, что у нас произошло столь загадочное преступление. Сами понимаете – другие улицы нам завидуют…
История дирижера Калины
– Кровоподтек или ушиб иногда болезненнее перелома, – сказал Добеш, – особенно если удар пришелся по кости. Уж я-то знаю, я старый футболист, у меня и ребро было сломано, и ключица, и палец на ноге. Нынче не играют с такой страстью, как в мое время. В прошлом году вышел я раз на поле; решили мы, старики, показать молодежи, как раньше играли. Стал я за бека, как пятнадцать – двадцать лет назад. И вот, как раз когда я с лета брал мяч, мой же собственный голкипер двинул меня ногой в крестец, или иначе cauda eguina. В пылу игры я только выругался и забыл об этом. Только ночью началась боль! К утру я не мог пошевелиться. Такая боль, что рукой двинешь – больно, чихнешь – больно. Замечательно, как в человеческом теле все связано одно с другим. Лежу я на спине, словно дохлый жук, даже на бок повернуться, даже пальцем ноги пошевелить не могу. Только охаю да кряхчу – так больно.
Пролежал я целый день и целую ночь, не сомкнул глаз ни на минуту. Удивительно, как бесконечно тянется время, когда не можешь сделать ни одного движения. Представляю себе, как мучительно лежать засыпанным под землей… Чтобы убить время, я складывал и умножал про себя, молился, вспоминал какие-то стихи. А ночь все не проходила.
Был, наверно, второй час ночи, как вдруг я услышал, что кто-то со всех ног мчится по улице. А за ним вдогонку человек шесть, и раздаются крики: «я тебе задам», «я тебе покажу», «ишь сволочь ты этакая», «паршивец» и тому подобное. Как раз под моими окнами они его догнали, и началась потасовка – слышно, как бьют ногами, лупят по физиономии, кряхтят, хрипят… В комнату доносятся глухие удары, словно бьют палкой по голове. И никаких криков. Черт возьми, это никуда не годится – шестеро колотят одного, словно это мешок с сеном. Хотел я встать и крикнуть им, что это свинство. Но тут же взревел от боли. Проклятие! Не могу пошевелиться! Ужасная вещь бессилие! Я скрежетал зубами и мычал от злости. Вдруг что-то со мной произошло, я вскочил с кровати, схватил палку и помчался вниз по лестнице. Выбежал на улицу – ничего не вижу. Наткнулся на какого-то парня и давай его дубасить палкой. Остальные – бежать, я этого балбеса лупцую, ах, как лупцую, никого в жизни еще так не лупцевал. Только потом я заметил, что у меня от боли текут слезы. По лестнице я подымался не меньше часа, пока добрался до постели, но зато утром мог не только двигаться, но и ходить… Просто чудо…
Хотел бы я знать, – задумчиво добавил Добеш, – кого я дубасил? Кого-нибудь из той шестерки или того, за кем они гнались? Во всяком случае, один на один – это честная драка.
– Да, беспомощность – страшная вещь, – согласился дирижер и композитор Калина, качая головой. – Я однажды это испытал. Дело было в Ливерпуле, меня туда пригласили дирижировать оркестром. Английского языка я совершенно не знаю, но мы, музыканты, всегда понимаем друг друга, особенно когда на помощь приходит дирижерская палочка. Постучишь по пульту, крикнешь что-нибудь, повращаешь глазами, взмахнешь рукой – значит начать все сначала… Таким способом удается выразить даже самые тонкие нюансы: например, покажу руками вот так, и всякий понимает, что это мистический взлет души, избавление ее от всех тягот и житейской скорби…
Так вот, приехал я в Ливерпуль. Меня уже ждали на вокзале и отвезли в гостиницу отдохнуть. Я принял ванну, пошел осмотреть город и… заблудился.
Когда мне случается попасть в новый город, я прежде всего иду к реке. У реки человеку слышна, так сказать, оркестровка города. С одной стороны, уличный шум – барабаны и литавры, трубы, горны и медь, а с другой – река, то есть струнная группа, пианиссимо скрипок и арф. И вы слышите всю симфонию города. Но в Ливерпуле река – не знаю, как она называется, – бурая, неприглядная, и на ней шум, грохот, треск, звонки, гудки, всюду пароходы, буксиры, пакетботы, склады, верфи, краны. Я очень люблю всякие корабли, и толстопузые смолистые баржи, и красные грузовые суда, и белоснежные океанские лайнеры. «Океан, наверно, где-нибудь тут за углом», – сказал я себе и, решив, что надо на него посмотреть, зашагал вниз по реке. Иду час, иду два – вижу только сараи, склады и доки, изредка корабли, то высокие, как собор, то с тремя толстыми скошенными дымовыми трубами. Всюду пахнет рыбой, конским потом, джутом, ромом, пшеницей, углем и железом… Вы заметили, что, когда много железа, оно издает ясно ощутимый своеобразный запах?
Я брел словно во сне. Но вот стемнело, настала ночь, и я оказался один на каком-то песчаном берегу. Напротив светил маяк, вдали двигались огоньки – должно быть, там и был океан. Я сел на груду досок, охваченный сладким чувством одиночества и затерянности. Долго я слушал шелест прибоя и вздохи океана и чуть не заскулил от грусти.
Потом подошла какая-то парочка, мужчина и женщина, и, не заметив меня, уселись ко мне спиной и тихо заговорили. Понимай я по-английски, я бы, конечно, кашлянул, чтобы они знали, что их слышат. Но так как я на их языке знал только слова «отель» и «шиллинг», то остался сидеть молча.
Сперва они говорили очень staccato[117]117
Отрывисто (ит.).
[Закрыть]. Потом мужчина начал тихо и медленно что-то объяснять, словно нехотя и с трудом. И вдруг сорвался и сразу все выложил. Женщина вскрикнула от ужаса и возмущенно затараторила. Но он сжал ей руку так, что она застонала, и стал сквозь зубы ее уговаривать. Это не был любовный разговор, для музыканта в этом не могло быть сомнения. Любовные темы имеют совсем другой каданс и не звучат столь сдавленно. Любовный разговор – это виолончель. А здесь был почти контрабас, игравший presto rubato[118]118
Быстро, в свободном темпе (ит.).
[Закрыть], в одном тоне, словно мужчина все время повторял одну и ту же фразу. Мне стало не по себе: этот человек говорил что-то дурное. Женщина начала тихо плакать и несколько раз протестующе вскрикнула, словно сопротивляясь ему. Голос у нее был похож на кларнет, чуть-чуть глуховатый, видимо, она была не очень молода. Потом мужской голос заговорил резче, словно приказывая или угрожая. Женщина начала с отчаянием умолять, заикаясь от страха, как человек, которому наложили ледяной компресс. Слышно было, как у нее стучали зубы. Мужчина ворчал низким голосом, почти любовно, в басовом ключе. Женский плач перешел в отрывистое и покорное всхлипывание. Я понял, что сопротивление сломлено. Потом влюбленный бас зазвучал снова, теперь выше и отрывистей. Обдуманно, категорически он произносил фразу за фразой. Женщина лишь беспомощно всхлипывала и стонала, но это уже было не сопротивление, а безумный страх, не перед собеседником, а перед чем-то ужасным, что предстоит в будущем. Мужчина снова понизил голос и начал что-то успокоительно гудеть, но в его тоне чувствовались угрожающие интонации. Рыдания женщины перешли в покорные вздохи. Ледяным шепотом мужчина задал несколько вопросов. Ответом на них, видимо, был кивок головы, так как он больше ни на чем не настаивал.
Они встали и разошлись в разные стороны.
Я не верю в предчувствия, но верю в музыку. Слушая этот ночной разговор, я был совершенно убежден, что контрабас склонял кларнет к чему-то преступному. Я знал, кларнет вернется домой и безвольно сделает все, что велел контрабас. Я все это слышал, а слышать – это больше, чем понимать слова. Я знал, что готовится преступление, и даже знал какое. Это было понятно из того, что слышалось в обоих голосах, тревога была в их тембре, в кадансе, в ритме, в паузах, в цезурах… Музыка – точная вещь, точнее речи! Кларнет был слишком простодушен, чтобы совершить что-нибудь самому. Он будет лишь помогать: даст ключ или откроет дверь. Тот грубый, низкий бас совершит задуманное, а кларнет будет в это время задыхаться от ужаса. Не сомневаясь, что готовится злодеяние, я поспешил в город. Надо что-то предпринять, надо помешать этому! Ужасная вещь – сознавать, что ты запаздываешь, когда творится такое…
Наконец я увидел на углу полисмена. Запыхавшись, подбегаю к нему.
– Мистер, – кричу я, – здесь, в городе, замышляется убийство!
Полисмен пожал плечами и произнес что-то непонятное. «О господи, – вспомнил я, – ведь он меня не понимает».
– Убийство! – кричу я ему, словно глухому. – Понимаете? Хотят убить какую-то одинокую леди. Ее служанка или экономка – сообщница убийцы. Черт побери, сделайте же что-нибудь!
Полисмен только покачал головой и сказал по-английски что-то вроде «да, да».
– Мистер, – твердил я возмущенно, содрогаясь от бешенства и страха, – эта несчастная женщина откроет дверь своему любовнику, головой за это ручаюсь. Надо действовать, надо найти ее!
Тут я сообразил, что даже не знаю, как она выглядит. А если бы и знал, то не сумел бы объяснить.
– О господи! – воскликнул я. – Но ведь это немыслимо – ничего не сделать!
Полисмен внимательно глядел на меня и, казалось, хотел успокоить. Я схватился за голову.
– Глупец! – воскликнул я в отчаянии. – Ну так я сам ее найду.
Конечно, это было нелепо, но, зная, что дело идет о человеческой жизни, я не мог сидеть сложа руки. Всю ночь я бегал по Ливерпулю в поисках дома, в который лезет грабитель. Удивительный это был город, такой мертвый и страшный ночью… К утру я сидел на обочине тротуара и стонал от усталости. Полисмен нашел меня там и отвел в гостиницу.
Не помню, как я дирижировал в то утро на репетиции. Но наконец отшвырнул палочку и выбежал на улицу. Мальчишки продавали вечерние газеты. Я купил одну и увидел крупный заголовок: «Murder», а под ним фотографию седовласой леди. По-моему, «murder» значит по-английски «убийство»…