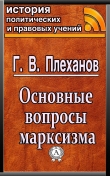Текст книги "Димитров. Сын рабочего класса"
Автор книги: Камен Калчев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
ПОЕДИНОК
На процессе, который продолжался свыше трех месяцев, Димитров сделал все, чтобы доказать перед всем светом преступные деяния гитлеровцев. Из обвиняемого он превратился в обвинителя. Он задавал вопросы на суде, писал письма председателю д-ру Бюнгеру, навязанному ему адвокату д-ру Тейхерту, требовал вызова свидетелей, ставил в тупик полицейских свидетелей, а в вопросах к свидетелям-рабочим старался доказать, что Германская коммунистическая партия не готовилась в то время к революции и поэтому ей не нужен был такой сигнал, как поджог рейхстага. Он давал характеристики свидетелям обвинения, показывал всему миру, что эти свидетели были национал-социалистами, уголовными преступниками, ненормальными людьми, убийцами, фальсификаторами.
– Я вас поздравляю с такими свидетелями, господин председатель! – бросал он саркастически Бюнгеру.
Самой драматичной страницей суда был допрос свидетеля Геринга, премьер-министра Германии, человека-господина, как его называли в Германии, убийцы тысяч невинных рабочих. Того Геринга, который, будучи также министром внутренних дел, говорил;
– Если на улицах нет коммунистов с отрезанными носами и ушами, нет причины волноваться… Я заявил моей полиции: когда вы стреляете – стреляю я! Если кто упал мертвым – убил его я! Только одного требую от вас – не палите в воздух, а стреляйте в людей!
Так вот, этот самый Геринг, самоуверенный властелин, любитель морфия, орденов, славы и денег, явился в суд, чтобы нанести смертельный удар коммунизму. Явился в сопровождении огромной свиты. В зале воцарилась гробовая тишина. Геринг встал, подбоченившись, широко расставив ноги. Он чувствовал себя как дома. Д-р Бюнгер всем своим существом ощущал присутствие министра. Полицейские на балконе и публика в партере словно окаменели.
Геринг начал с иронии:
– Утверждают, что мой друг Геббельс внушил мне план поджога рейхстага и что я с радостью выполнил этот план. Утверждают, что я любовался пожаром. Вероятно, закутанный в синюю шелковую тогу. Остается еще сказать, что я играл на лире, как Нерон на пожаре в Риме…
Полицейские на балконе заулыбались, глаза их засияли: им хотелось аплодировать, но это был не театральный зал. Геринг говорил, не меняя позы, слегка раскачиваясь, отчего ордена его иногда позвякивали.
Димитров внимательно вслушивался в каждое его слово. Геринг быстро закончил показания и взглядом победителя окинул зал.
Медленно поднялся Димитров. Опершись руками на стол, впившись глазами в Геринга, он спросил:
– 28 февраля премьер-министр Геринг дал интервью о поджоге рейхстага, где говорилось: у «голландского коммуниста» Ван дер Люббе был при обыске отобран, помимо паспорта, и членский билет коммунистической партии. Откуда знал тогда господин премьер-министр Геринг, что у Ван дер Люббе был с собой партбилет?
– Нужно сказать, – пренебрежительно ответил Геринг, – что я до сих пор очень мало интересовался этим процессом…
Димитров чуть подался вперед. В прищуренных глазах его забегали лукавые искорки. Геринг еще не понял смысла его вопроса. Но, встретившись со взглядом Димитрова, Геринг стал говорить раздраженно:
– Я слышал, что вы большой хитрец. Поэтому я предполагаю, что вопрос, который вы задали, давно ясен для вас, а именно, что я вообще не занимался расследованием этого дела. Я не хожу туда-сюда и не проверяю карманы людей. Если вам это еще неизвестно, я говорю вам: полиция обыскивает всех опасных преступников и сообщает мне, что ею найдено.
– Но трое чиновников уголовной полиции, арестовавшие и первые допросившие Ван дер Люббе, единодушно заявили, что у Люббе не было найдено партбилета. Откуда же взялось это сообщение о партбилете, хотел бы я знать? – отчеканивая каждое слово, спросил Димитров.
Геринг надменно бросил:
– Сообщение это было мне сделано официально… Я на следующий же день, до обеда, передал это сообщение в печать… Возможно, в ту ночь ходило много слухов. Все, естественно, не могло быть проверено…
Димитров продолжал задавать вопросы.
– Я спрашиваю: что сделал господин министр внутренних дел 28 и 29 февраля или в последующие дни для того, чтобы в порядке полицейского расследования выяснить путь Ван дер Люббе из Берлина в Геннингсдорф, его пребывание в ночлежном доме в Геннингсдорфе, его знакомство там с двумя другими людьми и, таким образом, разыскать его истинных сообщников? Что сделала ваша полиция?
Геринг попытался отделаться от вопроса.
– Само собой разумеется, что мне, как министру, незачем было бегать по следам, как сыщику. Для этого у меня есть полиция.
Но отделаться Герингу не удалось. Димитров следующим же вопросом припер его к стенке:
– После того как вы, как премьер-министр и министр внутренних дел, заявили, что поджигателями являются коммунисты, что это совершила Коммунистическая партия Германии с помощью Ван дер Люббе, коммуниста-иностранца, не направило ли это ваше заявление полицейское, а затем и судебное следствие в определенном направлении и не исключило ли оно возможности идти по другим следам в поисках истинных поджигателей рейхстага?
Этот вопрос окончательно вывел Геринга из равновесия.
– Я не чиновник уголовной полиции, – раздраженно и зло бросал он слова в зал, – а ответственный министр, и поэтому для меня было важно не столько установить личность отдельного мелкого преступника, сколько ту партию, то мировоззрение, которое за это отвечает… С моей точки зрения это было политическое преступление, и я точно так же был убежден, что преступников надо искать в вашей партии.
Потрясая кулаками в сторону Димитрова, Геринг уже не говорил, а кричал:
– Ваша партия – это партия преступников, которую надо уничтожить!
Когда смолкли крики разъяренного Геринга, Димитров все так же спокойно спросил:
– Известно ли господину премьер-министру, что эта партия, которую «надо уничтожить», является правящей на шестой части земного шара, а именно в Советском Союзе, и что Советский Союз поддерживает с Германией дипломатические, политические и экономические отношения, что его заказы приносят пользу сотням тысяч германских рабочих?
Председатель суда прерывает Димитрова:
– Я запрещаю вам вести здесь коммунистическую пропаганду!
Димитров отвечает:
– Господин Геринг ведет здесь национал-социалистскую пропаганду! – И тут же, обращаясь к Герингу, продолжает: – Это коммунистическое мировоззрение господствует в Советском Союзе, в величайшей и лучшей стране мира, и имеет здесь, в Германии, миллионы приверженцев в лице лучших сынов германского народа. Известно ли это…
Геринг взбешен. Геринг кричит:
– Я здесь не для того, чтобы позволить вам себя допрашивать, как судье, и бросать мне упреки! Вы в моих глазах мошенник, которого надо просто повесить!
Председатель, желая спасти положение и выручить самого Геринга, обращается к Димитрову:
– Я вам уже сказал, что вы не должны вести здесь коммунистическую пропаганду. Поэтому пусть вас не удивляет, что господин свидетель так негодует. Я строжайшим образом запрещаю вам вести такую пропаганду. Вы можете лишь задавать вопросы, относящиеся к делу.
Димитров одной фразой, полной едкой иронии, окончательно добивает Геринга.
– Я очень доволен ответом господина премьер-министра! – звучит в зале.
– Мне совершенно безразлично, довольны вы или нет. Я вас лишаю слова! – обрывает Димитрова председатель суда.
– У меня есть еще вопрос, относящийся к делу.
– Я лишаю вас слова!
Резкий окрик председателя покрывает рык озверевшего Геринга:
– Вон, подлец!
Бюнгер, склонившись над столом, упавшим голосом обращается к полицейским:
– Прошу, выведите его поскорее!
У Бюнгера лицо стало мертвецки бледным, руки его трясутся. Какой ужас! Завтра весь мир узнает об этой дикой сцене, разыгравшейся в зале имперского суда Германии!
Полицейские хватают Димитрова. Геринг, потрясая кулаками, продолжает кричать:
– Вон, подлец!
Димитров, которого уже тащат к выходу, успевает обернуться и ответить Герингу:
– Вы, наверное, боитесь, моих вопросов, господин премьер-министр?
Побагровевший от бешенства Геринг кричит ему вслед:
– Смотрите, берегитесь, я с вами расправлюсь, как только вы выйдете из зала суда! Подлец!
Только когда Димитрова вытолкали за дверь, Бюнгер облегченно вздохнул. Он вытер с лица пот и объявил:
– Полчаса перерыва, господа!
Поднялись красные мантии, поднялась со своих мест публика, а журналисты бросились к телефонным кабинкам.
Тот день остался памятным для всех. Корреспонденты разнесли весть о разыгравшемся поединке между Димитровым и Герингом. Молодая американка, дочь американского посла в Германии, Марта Додд, непосредственная свидетельница процесса, в тот день записала в своем дневнике;
«Димитров – блестящий, привлекательный темноволосый мужчина – излучал изумительную силу и мужество, каких я никогда не встречала ни у одного человека. Все в нем было полно жизни и огня… Это динамическая личность. Никогда я не забуду то полное внутреннего жара спокойствие, с которым он стоял против Геринга, весь его облик, пламя презрения, пылавшее в его взоре. Это была настоящая борьба, настоящая битва… А вот Геринг – страшно опухший, с надутым, колышущимся животом, нервный, невоздержанный, мелодраматичный. Он кричал хрипло, ужасно, будто задыхался перед блестящим убедительным голосом другого… Нацисты с большим трудом справились с положением»[36]36
Поведение Геринга на суде возмутило мировую общественность. Западная пресса, в том числе и буржуазная, резко критиковала германский фашизм, сфабрикованный им процесс, на котором нарушались все правовые нормы, восхищалась поведением коммуниста Димитрова. Яркое описание поединка Димитрова с Герингом дала венская социал-демократическая газета «Арбейтерцейтунг»:
«Человек, который там, в Лейпциге, гордо, отважно, неустрашимо стоит перед подлым судилищем, будет жить как один из героев этого мрачного времени: Димитров, болгарский коммунист. Каждый его вопрос пробивает брешь в стене глупости, подлости и низости, которую германские властители воздвигли вокруг разваливающегося капитализма. Сквозь эти бреши веет дуновение будущего, полного свободы, величия и человеческого достоинства. Каждый его вопрос – это атака, и не один из его вопросов не служит его личной защите: этот обреченный на смерть борется не за свою жизнь, он борется за высокое дело, которому подчиняет свою жизнь, за социализм, который наполняет его самосознанием, уверенностью в победе.
Редко случалось видеть что-нибудь такое же потрясающее, что-нибудь такое же встряхивающее и окрыляющее, как борьба этого человека против германских властителей. У них, у этих обагренных кровью завоевателей, есть министерство пропаганды, у них есть гигантские фейерверки и гигантские демонстрации, у них громкоговорители и пулеметы, залы собраний и суды, – а этот обвиняемый болгарин, этот одинокий Димитров не имеет ничего, кроме своих уст, своего мужества, своего фанатизма. И все же германские диктаторы, скрежеща зубами, чувствуют, что этот обреченный на смерть сильнее» чем весь их аппарат власти, что каждый его вопрос оказывает более сильное действие, чем вся их дьявольски функционирующая пропаганда.
Все это разрядилось вчера, вылившись в сцену, в которой сущность пролетарской революции столкнулась с гнусностью фашистской диктатуры. Геринг, убийца, поджигатель и морфинист, всемогущий министр по делам террора и смерти, выступил вчера свидетелем на суде…
Нервы морфиниста не выдержали… Самый могущественный человек в Пруссии, человек, которого в Германии страшатся больше всех, потерял самообладание, стал реветь и визжать, как сумасшедший».
[Закрыть].
После злополучного выступления Геринга был вызван для показаний министр пропаганды Геббельс. Явился он с твердым намерением сгладить плохое впечатление от показаний своего коллеги. Он цитировал Шопенгауэра, называл Димитрова ничтожным коммунистическим агитатором, жонглировал красноречием, но от ответов на острые разоблачительные вопросы Димитрова уклонялся.
Оценивая показания Геббельса, французская газета «Тан» писала: «Речи г-на Геббельса были, несомненно, интересные, живые, иногда иронические и часто достаточно ловкие, хитрые. – Однако министр пропаганды ошибается, если воображает, что внес нечто новое в судебное следствие».
Геббельс, этот маленький, тщедушный человечек, на весь мир нашумевший своей теорией о чистоте германской расы, призванной спасти человечество, покинул зал, полный уверенности в своем остроумии. Но он не знал, что предстоит еще один удар, самый сокрушительный удар на этом процессе.
ПОСЛЕДНИЙ УДАР
Над каналами стелились холодные зимние туманы. Каменные берега и голые деревья по обеим сторонам широкого бульвара покрылись инеем. Прохожие, поспешно раскрывая газеты, искали сообщений с процесса. Сегодня день «последнего слова обвиняемых». Жители Лейпцига с волнением ждали, что же сегодня, 16 декабря 1933 года, услышат они из зала имперского суда.
…Приготовив блокноты, беспокойно оглядываются журналисты. Полицейские следят за каждым движением Димитрова. Ничего хорошего они от него не ждут. А он и в самом деле принесет им сегодня неприятности и тревоги.
Урочный час наступил. Красные мантии вошли в зал. Они вскидывают руки в фашистском приветствии, публика отвечает им тем же. Они рассаживаются за длинным столом. Выглядят строгими, неподкупными.
В зале – тишина. Несколько формальностей, мелкая канцелярская суета. Д-р Бюнгер встал, поглядел на Димитрова и сказал:
– Вам предоставляется последнее слово.
Димитров поднялся, держа в руках какую-то книгу. Посмотрел на председателя, окинул взглядом всех судей и начал:
– На основании параграфа двести пятьдесят восемь процессуального кодекса я имею право говорить как защитник и как обвиняемый.
У д-ра Бюнгера это сразу же вызвало плохие предчувствия.
– Вы имеете право на последнее слово, – сказал он, – оно вам предоставляется.
– На основании процессуального кодекса я имею право полемизировать с прокуратурой, а потом уже приступить к последнему слову.
И Димитров обращается к судьям и адвокатам:
– Господа судьи, господа обвинители, господа защитники! Еще в начале этого процесса, три месяца назад, я как обвиняемый обратился к председателю суда с письмом. В нем я выразил сожаление по поводу того, что мои выступления приводили к столкновениям. Но я решительно возражал против того, чтобы мое поведение было истолковано как преднамеренное злоупотребление в целях пропаганды правом задавать вопросы и делать заявления. Понятно, что, раз я был обвиняем, будучи невиновным, я стремился защищаться всеми имеющимися в моем распоряжении средствами.
Димитров вынул из книги, что лежала перед ним на столе, лист бумаги и начал читать;
– «Я признаю, – писал я, – что некоторые вопросы ставились мною не всегда правильно с точки зрения юридической формы. Это, однако, объясняется лишь тем, что я не знаком с германским правом. Кроме того, я в первый раз в своей жизни участвую в подобном судебном процессе. Если бы я имел защитника по своему выбору, я, безусловно, мог бы избежать таких неблагоприятных для моей собственной защиты инцидентов».
Читал Димитров медленно и четко, подчеркивая главное. В письме говорилось о том, как суд отклонил предложенные Димитровым кандидатуры защитников, объяснялось, почему он отказался от официального адвоката д-ра Тейхерта, рассказывалось, как он в последний раз обратился к суду с просьбой разрешить французскому адвокату Марселю Виллару участвовать в его защите.
– После того как и это предложение было отклонено, – сказал Димитров, кладя на стол только что прочитанное письмо, – я решил сам себя защищать. Не нуждаясь ни в меде, ни в яде красноречия навязанного мне защитника, я все время защищал себя без помощи адвоката.
Значение в моей защите, – продолжал Димитров, обращаясь к д-ру Тейхерту, – имеет лишь то, что до сих пор я сам говорил перед судом, и то, что я сейчас буду говорить. Я не хотел бы обижать Торглера – по-моему, его уже достаточно оскорблял его защитник, – но я должен прямо сказать: я предпочитаю быть невинно осужденным на смерть имперским судом, чем добиться оправдания благодаря такой защите, с которой доктор Зак выступил в пользу Торглера.
– Не ваше дело заниматься здесь критикой! – прерывает Димитрова председатель.
Димитров, не задумываясь, отвечает ему:
– Я допускаю, что я говорю языком резким и суровым. Моя борьба и моя жизнь тоже были резкими и суровыми. Но мой язык – язык откровенный и искренний. Я имею обыкновение называть вещи своими именами. Я не адвокат, который по обязанности защищает здесь своего подзащитного.
Голос Димитрова с каждым словом крепчал и вот уже зазвенел, как сталь, когда он, расправив плечи, окинул своим орлиным взором публику и стал чеканить слово за словом:
– Я защищаю себя самого, как обвиняемый коммунист.
Я защищаю свою собственную коммунистическую революционную честь.
Я защищаю свои идеи, свои коммунистические убеждения.
Я защищаю смысл и содержание своей жизни.
Поэтому каждое, произнесенное мною перед судом слово – это, так сказать, кровь от крови и плоть от плоти моей. Каждое слово – выражение моего глубочайшего возмущения против несправедливого обвинения, против того факта, что такое антикоммунистическое преступление приписывается коммунистам.
Взоры присутствовавших в зале прикованы к Димитрову. Д-р Бюнгер чувствует, что он опять потерял инициативу. Мелкие капли пота покрывают его голое темя;
– Димитров! – говорит он наконец. – Я не потерплю, чтобы вы здесь, в этом зале, занимались коммунистической пропагандой. Это вы делали все время. Если вы будете продолжать в том же духе, я лишу вас слова.
Димитров спокойно отвечает:
– Я должен решительно возразить против утверждения, что я преследовал цели пропаганды. Возможно, что моя защита перед судом имела известное пропагандистское действие. Допускаю, что мое поведение перед судом может также служить примером для обвиняемого-коммуниста. Но не это было целью моей защиты. Моя цель состояла в том, чтобы опровергнуть обвинение, будто Димитров, Торглер, Попов и Танев, Коммунистическая партия Германии и Коммунистический Интернационал имеют какое-либо отношение к пожару.
Если говорить о пропаганде, – гремел голос Димитрова, – то многие выступления здесь носили такой характер. Выступления Геббельса и Геринга также оказывали косвенное пропагандистское действие в пользу коммунизма, но никто не может их сделать ответственными за то, что их выступления имели такое пропагандистское действие.
В зале движение, смех. Димитров, удовлетворенный реакцией зала, продолжает:
– Меня не только всячески поносила печать – это для меня безразлично, – но в связи со мной и болгарский народ называли «диким» и «варварским», меня называли «темным балканским субъектом», «диким болгарином», и этого я не могу обойти молчанием.
Верно, что болгарский фашизм является диким и варварским. Но болгарский рабочий класс и крестьянство, болгарская народная интеллигенция отнюдь не дикари и не варвары… Народ, который пятьсот лет жил под иноземным игом, не утратив своего языка и национальности, наш рабочий класс и крестьянство, которые боролись и борются против болгарского фашизма, за коммунизм, – такой народ не является варварским и диким. Дикари и варвары в Болгарии – это только фашисты. Но я спрашиваю вас, господин председатель: в какой стране фашисты не варвары и не дикари?
Председатель прерывает Димитрова:
– Вы ведь не намекаете на политические отношения в Германии?
– Конечно, нет, господин председатель… – отвечает ему Димитров, иронически улыбаясь. – Задолго до того времени, – продолжает Димитров, – когда германский император Карл V говорил, что по-немецки он беседует только со своими лошадьми, а германские дворяне и образованные люди писали только по-латыни и стеснялись немецкой речи, в «варварской» Болгарии Кирилл и Мефодий создали и распространяли древнеболгарскую письменность.
Это, может статься, неизвестно и самому Бюнгеру. Просто удивительно, до чего этот болгарин хорошо знает и немецкую историю!
– Болгарский народ, – продолжает Димитров, – всеми силами и со всем упорством боролся против иноземного ига. Поэтому я протестую против нападок на болгарский народ. У меня нет основания стыдиться того, что я болгарин. Я горжусь тем, что я сын болгарского рабочего класса.
Публика слушает с явным интересом. Димитров говорит о всем том, о чем уже нельзя говорить в Германии, говорит о том, за что в Германии осуждают на смерть. Он поднялся на трибуну имперского суда, чтобы проповедовать свои коммунистические убеждения. Председатель суда то и дело прерывает Димитрова:
– Это не относится к процессу. Нет нужды читать весь обвинительный акт. Не употребляйте таких выражений против обвинений. Я не допущу оскорблений верховного прокурора. За границей и так говорят, что не я, а вы ведете процесс…
Димитрова это не смущает. Он продолжает говорить все то, что он считает нужным сказать, доказывает, что коммунистические партии не занимаются авантюрой и не играют в восстания, когда им этого захочется. Он разъяснял тактику Коммунистического Интернационала, читал отдельные параграфы из устава его, анализировал политическое положение в Германии. При этом Димитров постоянно обращался к людям, сидящим в зале, а не к суду. Он забыл, что он подсудимый. Это уже переходило все границы. Этого председатель не мог стерпеть.
– Вы должны говорить, обращаясь к судьям, а не к залу, иначе ваша речь может рассматриваться как пропаганда.
Но Димитров продолжал анализировать политическое положение в Германии, обращаясь уже к суду. И все же Бюнгер его прервал:
– Вы всегда подчеркивали, что вы интересуетесь только политическим положением в Болгарии, но ваши теперешние высказывания доказывают, что вы проявили очень большой интерес к политическим вопросам Германии.
Димитров ответил:
– Господин председатель, вы делаете мне упрек. Я вам на это могу возразить следующее: я, как болгарский революционер, интересуюсь революционным движением во всех странах, я интересуюсь, например, южноамериканскими политическими вопросами и знаю их, пожалуй, не хуже германских, хотя я никогда не был в Америке. Впрочем, это не означает, что если в Южной Америке сгорит здание какого-нибудь парламента, то это будет моя вина.
В зале вновь поднялся шум.
– Национал-социалистам нужен был диверсионный маневр, чтобы отвлечь внимание от трудностей внутри национального лагеря и сорвать единый фронт рабочих.
– Димитров, – раздраженно говорит Бюнгер, – вы дошли до крайнего предела, вы делаете намеки!
– Я хочу лишь осветить политическую ситуацию в Германии накануне пожара рейхстага так, как я ее понимаю.
– Здесь не место для намеков по адресу правительства и для утверждений, которые давно уже опровергнуты.
Димитров отбросил прядь волос, упавших ему на глаза, и как ни в чем не бывало вернулся к поджогу рейхстага:
– Я уже раньше заявил, что в одном пункте согласен с обвинительным актом. Теперь я должен подтвердить это свое согласие. Оно относится к вопросу о том, устроил ли Ван дер Люббе поджог один, или у него были сообщники… Я считаю, что Ван дер Люббе действительно не один поджег рейхстаг. На основании экспертизы и данных судебного разбирательства я прихожу к выводу, что поджог в пленарном зале рейхстага был другого рода, чем поджог в ресторане, в нижнем этаже и т. д… Пленарный зал подожжен другими людьми и другим способом. Поджоги Люббе и поджог в пленарном зале совпадают только по времени, а в остальных отношениях они в корне различны. Вероятнее всего, что Люббе – бессознательное орудие этих людей, орудие, которым злоупотребили… Ван дер Люббе был не один, но с ним были не Торглер, не Попов, не Танев, не Димитров.
Повернувшись к Ван дер Люббе, Димитров сказал:
– Глупый Ван дер Люббе не мог знать, что, когда он делал свои неловкие попытки поджога в ресторане, в коридоре и в нижнем этаже, в это же самое время неизвестные, применив горючую жидкость, о которой говорил доктор Шатц, совершили поджог пленарного зала.
Ван дер Люббе начал смеяться. Вся его фигура сотрясалась от беззвучного смеха. Внимание всего зала, судей и обвиняемых обратилось на Люббе. Председатель явно смущен. Что с Люббе, может быть, наступает просветление в его помраченном сознании? Может быть, завтра всему миру станет известно, что несчастному Люббе действительно давали специальное наркотическое средство, как это утверждала «Коричневая книга»?[37]37
«Коричневая книга о пожаре в рейхстаге и гитлеровском терроре» была издана летом 1933 года в Париже немецкими антифашистами. В ней были собраны документы, изобличавшие германский фашизм и свидетельствовавшие о полной непричастности Г. Димитрова и Компартии Германии к поджогу рейхстага. «Коричневая книга» сыграла большую роль в кампании за освобождение Димитрова. Книга была переведена на 17 языков. В ряде стран она распространялась нелегально. Для Германии, например, было выпущено специальное издание карманного формата под названием «Герман и Доротея», Вольфганг Гете».
[Закрыть]
Димитров, указывая на сотрясающегося в идиотском смехе Ван дер Люббе, заканчивает свою мысль:
– Неизвестный провокатор позаботился обо всех приготовлениях к поджогу. Этот Мефистофель сумел бесследно исчезнуть. И вот здесь присутствует глупое орудие, жалкий Фауст, а Мефистофель исчез.
Вновь повернувшись к суду, Димитров воскликнул:
– Кто такой Ван дер Люббе? Коммунист? Отнюдь нет! Анархист? Нет! Он деклассированный рабочий, он бунтующий люмпен-пролетарий, тварь, которой злоупотребили, которую использовали против рабочего класса. Нет, он не коммунист. Он не анархист. Ни один коммунист в мире, ни один анархист не будет вести себя на суде так, как ведет себя Ван дер Люббе. Подлинные анархисты совершают бессмысленные дела, но на суде они держат ответ и объясняют свои цели. Если бы какой-нибудь коммунист сделал что-либо подобное, он не молчал бы на суде, когда на скамье подсудимых сидят невинные. Нет, Ван дер Люббе не коммунист, не анархист; он орудие, которым злоупотребил фашизм'.
Бюнгер посмотрел на часы.
– Когда вы намерены кончить свою речь?
– Я хочу говорить еще полчаса. Я должен высказать свое мнение по этому вопросу…
– Нельзя же говорить бесконечно!
– В течение трех месяцев процесса вы, господин председатель, бесчисленное множество раз вынуждали меня к молчанию, обещая, что в конце процесса я смогу подробно говорить в свою защиту. И вот пришел этот конец, но вопреки вашему обещанию вы снова ограничиваете меня в моем праве говорить.
Ответив председателю, Димитров сразу перешел к делу:
– Поджигателей искали не там, где они были, а там, где их не было. Их искали в рядах компартии, и это было неправильно. Это, дало возможность истинным поджигателям исчезнуть. Решили: раз не схватили и не посмели схватить истинных виновников поджога, то надо схватить других, так сказать, эрзац-поджигателей рейхстага…
– Я запрещаю вам это! – обрывает Димитрова председатель. – Я даю вам еще десять минут.
– Я имею право вносить и мотивировать предложения по поводу приговора, – возражает Димитров. – Верховный прокурор в своей речи рассматривал все показания коммунистов как незаслуживающие доверия. Я не занимаю подобной позиции. Я не могу утверждать, например, что все национал-социалистские свидетели – лжецы…
– Я запрещаю вам подобные злобные выпады!
– Но разве не знаменательно, что все главные свидетели обвинения – национал-социалистские депутаты, журналисты и сторонники национал-социализма?
Бюнгер вновь поглядел на часы. Ну, разве можно с этим человеком справиться? Вот он опять говорит:
– Полицейский чиновник Гелер цитировал здесь коммунистическое стихотворение из книги, изданной в 1925 году, чтобы доказать, что в 1933 году коммунисты подожгли рейхстаг.
В зале послышался смех. Димитров переждал и продолжал:
– Я позволю себе также процитировать стихотворение величайшего поэта Германии Гете:
В пору ум готовь же свой.
На весах великих счастья
Чашам редко дан покой:
Должен ты иль подыматься,
Или долу опускаться;
Властвуй – или покоряйся,
С торжеством – иль с горем знайся,
Тяжким молотом взвивайся —
Или наковальней стой.
Вскинув руку с крепко сжатым кулаком, Димитров властно кинул в зал:
– Да, кто не хочет быть наковальней, тот должен быть молотом!
Эту истину германский рабочий класс в целом не понял ни в 1918 году, ни в 1923, ни 20 июня 1932, ни в январе 1933 года…
– Это не относится к теме. Вы должны сделать ваши предложения, – в который раз прервал Димитрова председатель.
Димитров понимал, что его так или иначе скоро лишат слова, и он перешел к подведению итогов:
– Верховный прокурор предложил оправдать обвиняемых болгар за отсутствием доказательств их виновности. Но меня это отнюдь не может удовлетворить. Вопрос далеко не так прост. Это не устраняло бы подозрений. Нет, во время процесса было доказано, что мы ничего не имеем общего с поджогом рейхстага, поэтому нет места для каких-либо подозрений. Мы, болгары, так же как и Торглер, должны быть оправданы не за отсутствием улик, а потому, что мы, как коммунисты, не имеем и не могли иметь ничего общего с этим антикоммунистическим актом.
Я предлагаю вынести следующее решение:
1. Верховному суду признать нашу невиновность в этом деле, а обвинение – неправильным; это относится к нам: ко мне, Торглеру, Попову и Таневу.
2. Ван дер Люббе рассматривать как орудие, использованное во вред рабочему классу.
3. Виновных за необоснованное обвинение против нас привлечь к ответственности.
4. За счет этих виновных возместить убытки за потерянное нами время, поврежденное здоровье и перенесенные страдания.
Председатель уже вышел из себя, но, чтобы все-таки показать, что он еще владеет собой, снисходительно-насмешливо говорит Димитрову:
– Эти ваши так называемые предложения суд при обсуждении приговора будет иметь в виду.
Димитров понимает это и отвечает:
– Настанет время, когда такие предложения будут выполнены с процентами. Что касается полного выяснения вопроса о поджоге рейхстага и выявления истинных поджигателей, то это, конечно, сделает всенародный суд грядущей пролетарской диктатуры.
Зал замер. Что еще скажет этот бесстрашный человек? А он, полный веры;в торжество дела, которому самоотверженно служит, провозглашает:
– В семнадцатом веке основатель научной физики Галилео Галилей предстал перед строгим судом инквизиции, который должен был его приговорить как еретика к смерти. Он с глубоким убеждением и решимостью воскликнул:
«А все-таки Земля вертится!»
И это научное положение стало позднее достоянием всего человечества.
Председатель не выдерживает, резко прерывает Димитрова, встает, собирает бумаги и готовится уйти.
Димитров продолжает:
– Мы, коммунисты, можем сейчас не менее решительно, чем старик Галилей, сказать:
«И все-таки она вертится!»
Колесо истории вертится, движется вперед, в сторону советской Европы, в сторону Всемирного союза советских республик.
И это колесо, подталкиваемое пролетариатом под руководством Коммунистического Интернационала, не удастся остановить ни истребительными мероприятиями, ни каторжными приговорами, ни смертными казнями. Оно вертится и будет вертеться до окончательной победы коммунизма.
– Уберите его с трибуны! – кричит Бюнгер.
Полицейские хватают Димитрова и силой усаживают на скамью подсудимых. В зале начинается суматоха. Некоторые встают, чтобы лучше разглядеть Димитрова.
Председатель пригласил членов суда на краткое совещание, после которого он объявляет:
– По решению суда подсудимый Димитров окончательно лишается слова.
Заседание закрывается. Подсудимых выводят из зала суда. Бюнгеру думается, что он достиг своей цели. Но ни он, ни его хозяева ничего не выиграли. Они только проиграли.
На другой день мир жадно читал «последнее слово» Димитрова и черпал в нем новые силы для борьбы против фашизма. Восторг всего прогрессивного человечества был беспредельным.
Советская газета «Правда» писала:
«Речь Димитрова несомненно займет, выдающееся место в истории борьбы международного пролетариата против гнусностей и преступлений господствующего класса. Она является не только обвинительной речью против «прославившихся» на весь мир провокаторов, но и страстным призывом к борьбе… Со своего места в зале суда Димитров высоко поднял знамя Коммунистического Интернационала над всей Германией, над всей Европой, над всем миром».