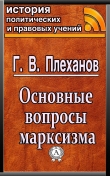Текст книги "Димитров. Сын рабочего класса"
Автор книги: Камен Калчев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
ВОЗМУЩЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Каждое утро рабочие Москвы спешили просмотреть газеты. Как и рабочие Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Рима, Праги, Варшавы, Будапешта, Белграда, Софии. Рабочие мира! И не только рабочие, но и крестьяне, интеллигенция – все люди мира с напряжением ждали начала большого процесса, который затеяли гитлеровцы.
Видные писатели, ученые, юристы, политики – люди мировой совести поднимали голос в защиту плененных гитлеровцами борцов. Имена Димитрова и Торглера не сходили со страниц печати. В Париже был создан комитет в защиту подсудимых. В городах Европы устраивались грандиозные митинги, на которых выступали известные миру деятели.
В то время мать Димитрова жила в маленьком горном городке Самокове с дочерью Магдалиной. Парашкева Димитрова потеряла уже троих сыновей: Костадина, Николая и Тодора. Смерть готовилась похитить и четвертого ее сына.
Болгарские газеты мало писали о том, что происходит там, где ее сын. Но из писем, которые она получала, она видела, что надо и ей что-то предпринимать. Грешно, думала она, оставаться здесь, в тишине и покое, когда ее сын, а вместе с ним и весь свет поднялись на борьбу против озверелых фашистов. И она сказала дочери:
– Магдалина, собирайся, поедем в Германию.
Магдалина не возразила. Она только высказала сомнение:
– Пустят ли нас, мама?
– Будем ходить, будем хлопотать, пока пустят… Нельзя сидеть сложа руки. Будем требовать, пока не надоедим им…
Партия поддержала Парашкеву Димитрову в ее желании поехать в Берлин.
Решено – сделано. В одно утро из Самокова направилась в Софию старая, согбенная горем женщина в черной одежде. Прибыв в Софию, она тотчас пошла в германское посольство просить визу. Чиновник, лишь услышав ее фамилию, не дал ей переступить и порога посольства. Тогда Парашкева пошла в полицию, но и там ей сказали:
– Куда тебе, бабка, в Германию? Потеряешься там. Даже говорить по-немецки не можешь.
– Могу ли я по-немецки говорить или нет, это дело не ваше. Я хочу ехать к сыну.
– Откуда возьмешь столько денег? Дорого обойдется поездка в Германию, – отговаривали полицейские чиновники.
– Найду. Вы мне только дайте документы.
С большим трудом Парашкева и Магдалина добились паспорта во Францию. В одно прекрасное утро они отправились в далекий путь.
Париж. Вот он какой, Париж!
Зал «Ваграм» переполнен. Тут собрались тысячи парижан, чтобы послушать, что скажет прибывший с Корсики известный адвокат Моро-Джиаффери об этом «неслыханном юридическом скандале».
На трибуне невысокий полный корсиканец. Микрофон торчит над его головой, но Джиаффери справился с этим неудобством, повысив голос.
– Фашизм угрожает всему миру, – говорил Моро-Джиаффери. – Фашизм несет войну, отбрасывает мир в средневековье. Фашизм не гнушается никакими средствами на пути к власти. Гитлеровские палачи использовали психопата Ван дер Люббе в целях своей подлой провокации…
Публика слушала напряженно. Время от времени неслись крики то одобрения, то возмущения, зал дрожал от аплодисментов. Под конец оратор схватил микрофон обеими руками и закричал так, будто хотел, чтобы его услышал весь свет:
– Убийца и поджигатель – это ты, Геринг!
Публика поднялась в едином порыве, слова эти попали в самое сердце.
– Да здравствует Корсика! – крикнул кто-то.
Моро-Джиаффери усмехнулся: «При чем тут Корсика?» – и сошел с трибуны. В зале постепенно стихло.
Тогда председатель собрания объявил:
– Господа, хочу сообщить вам радостную весть. Среди нас находится мать одного из подсудимых. Здесь госпожа Парашкева Димитрова.
Он повернулся и кивнул: из глубины сцены поднялась маленькая скромная старая женщина, одетая в черное. Она улыбалась горькой улыбкой.
Люди встали. Грохот аплодисментов потряс зал. Люди кричали:
– Да здравствует Димитров! Да здравствует Болгария! Да здравствует мать Димитрова!
А она, мать Димитрова, молча глядела на людей. Теперь она уже не боялась за своего сына.
Когда в зале стихло, председатель объявил:
– Госпожа Парашкева Димитрова скажет вам несколько слов о сыне…
В зале снова вспыхнула овация, а когда она прекратилась, все услышали тихий голос Парашкевы Димитровой:
– Дорогие французы! Мне очень дорого, что я вижу столько рабочих, собравшихся в одном месте. У нас в Болгарии это давно запрещено. Радуюсь также тому, что все вы собрались здесь, чтобы защитить не только моего сына, но и поруганную правду. Я старая женщина, но, сколько смогу, отдам для победы нашего дела, нашей правды. Мой сын Георгий Димитров не может быть поджигателем, он не может быть преступником, потому что я и народ, которому он служит всю свою жизнь, учили его делать только добро…
Она задумалась. Что им еще сказать? А зал опять залили возгласы:
– Да здравствует Димитров! Да здравствует Болгария!
Скрестив руки, старая женщина взволнованно слушала и улыбалась счастливо.
Собрание в зале «Ваграм» закончилось поздно. Димитрова с дочерью, сопровождаемые болгарами Милко Тарабановым и Бояном Дановским, вернулись в гостиницу. На другой день два немецких товарища вызвали Дановского и сказали ему:
– Вам поручается сопровождать мать Димитрова и ее дочь в Германию в качестве переводчика. Имейте в виду, что поездка будет сопряжена с риском. Но знайте: за вами следит все прогрессивное человечество, за вами стоит мировой пролетариат. Не бойтесь ничего.
– Я согласен, – ответил Дановский.
– О паспортах, валюте и прочем вам не надо беспокоиться. Это остается за нами.
Попрощались и разошлись.
Через несколько дней парижане провожали своих гостей в Германию. Парашкева Димитрова, глядя из окна вагона, расспрашивала дочь:
– А это кто там в чалме?
– Индиец.
– А вот тот?
– Китаец.
– Мужчина или женщина?
– Мужчина, хоть у него и коса.
Димитрова смотрела долго, удивленно. Ее очаровал этот пестрый мир, который шумел и волновался на парижском вокзале вокруг нее – простой женщины из далекой и маленькой Болгарии. И радость и гордость наполнили ее душу, гордость и за сына и за свою родину.
Поезд тронулся. Тысячи рук со сжатыми кулаками взметнулись вверх. Крики «Рот фронт!», «Виват!» неслись вслед медленно удалявшемуся поезду, а у окна вагона стояла старая женщина и задумчиво махала рукой.
ЛЕЙПЦИГ
До начала процесса в Лейпциге мировая общественность организовала контрпроцесс в Лондоне. Председатель Международной следственной комиссии по делу о поджоге рейхстага известный английский адвокат Д. Н. Притт на заседании 20 сентября 1933 года огласил доклад следственной комиссии. В заключении этого доклада утверждалось, «что есть серьезные основания для подозрения, что рейхстаг был подожжен руководящими лицами национал-социалистской партии или же по их поручению». Следовательно, уже с 20 сентября 1933 года имелся только один обвиняемый – гитлеризм. Но битва только еще начиналась…
21 сентября 1933 года начиналось большое сражение. К зданию имперского суда в Лейпциге неслась большая закрытая автомашина, охраняемая полицейскими. Вслед за ней летел автобус, полный штурмовиков. Каски их зловеще горели под короткими лучами осеннего солнца. По улицам города патрулировали гитлеровские отряды. Перед входом в здание имперского суда торчали военные и штатские, они проверяли документы у желавших войти в здание.
Девять часов утра. Машина с заключенными остановилась у главного входа. Охрана мигом окружила машину. Из нее медленно вышел молодой человек с безвольно повисшими руками. Лицо его, понуро опущенное к земле, было бледно, с синеватым оттенком на скулах, глаза мутные, пустые. Этот живой труп был голландцем Ван дер Люббе, арестованным 27 февраля в здании рейхстага в момент возникновения пожара.
Следом за Ван дер Люббе вышел худой и тихий человек с бледным печальным лицом. Это был депутат германского парламента, член Германской коммунистической партии Эрнст Торглер, обвиненный в соучастии в поджоге. После Торглера из автомашины вышли болгары Попов и Танев и, наконец, Димитров. Арестованных ввели в здание имперского суда. Там в небольшой комнате их обыскали, а потом ввели в судебный зал.
В зале царила тишина. Журналисты и официальные лица тихо переговаривались, поглядывая на балкон, где суетились штурмовики. Всюду висели знамена с переломленными крестами, фашистская свастика красовалась и на одежде штурмовиков. Казалось, на всем зале лежала тень большого переломленного креста. Штурмовики молча смотрели с балкона, оглядывая каждого входящего в зал.
Торжественно, один за другим проследовали к судейскому столу девять членов суда в длинных красных мантиях. «Красные мантии» выбросили вперед правую руку. Присутствовавшие в зале ответили тем же жестом гитлеровского приветствия. Образовался лес вытянутых рук, грозно направленных на подсудимых, безучастно стоявших во время этой церемонии.
Члены суда заняли свои места. Уселась публика. Председатель суда д-р Вильгельм Бюнгер поднялся и, положив руки на кафедру, начал свою речь:
– Господа, огромное значение события, которое лежит в основе этого процесса, приведет к тому, что судебное следствие будет страстно и энергично комментироваться печатью всего мира. Уже предпринимались многократные попытки сделать поспешные предсказания относительно еще неизвестного хода процесса. Недопустимо, однако, приступать к такому процессу с предварительно составленным мнением…[33]33
Председатель суда Бюнгер произнес вступительную речь вопреки общепринятой практике; в своей речи он всячески старался опровергнуть утверждения Международной следственной комиссии и иностранной печати о том, что фашистские власти сфабриковали лживое обвинение и провокационный процесс.
[Закрыть]
В голосе Бюнгера звучала неуверенность, чувствовалось стремление оправдаться. Казалось, он сам сомневается в ловко скроенном обвинительном акте, который лежал у него на столе в виде пухлого тома в двести тридцать пять страниц. Страшное и трудное дело – доказать вину невинных людей, выполнить приказ фюрера, Геринга, Геббельса, приказ нацистской партии!
Бюнгер не верил тому, что говорил. Но что иное мог сказать он, покорный слуга и блюститель законов третьего райха?
Первый и второй день судебного следствия были посвящены Ван дер Люббе. Полубезумный голландский каменщик беспомощно сидел перед судом, глядя в пол помутневшими глазами, и вяло отвечал на вопросы председателя суда. Около него стоял адвокат и время от времени вытирал ему нос, так как подзащитный был не в состоянии себя контролировать. Он потерял память.
На третий день допросу был подвергнут Георгий Димитров.
С самого того момента, когда он предстал перед имперским судом гитлеровской Германии, он не думал защищать только свое личное дело, оно было для него на втором плане. Самым важным в данный момент он считал защиту правого дела коммунизма, против которого ополчился гитлеризм.
Лишь только Димитров поднялся, председатель суда Бюнгер обратился к нему с предупреждением:
– Димитров, я имею сведения, что во время следствия вы держались очень недисциплинированно. Должен вас предупредить, что вы находитесь перед верховным имперским судом и что вам необходимо, сообразуясь с этим, изменить свое поведение.
Неожиданно для председателя и публики Димитров ответил:
– Если бы вы были невиновным и гнили семь месяцев в тюрьме, из которых пять месяцев – в кандалах, вы бы поняли, что человек может лишиться спокойствия.
Публика зашевелилась. Некоторые в последних рядах поднялись, чтобы лучше увидеть этого дерзкого человека. Полиция забеспокоилась. Как можно так отвечать председателю имперского суда?
Димитров подался вперед, оперся руками о стол, впился глазами в людей в красных мантиях и начал излагать, как того требовал установленный порядок, свою биографию.
Внимание всех сидящих в зале было захвачено тем, о чем говорил Димитров. Это не была обыкновенная биография человека, это была жизнь, переплетенная с историей народа, класса, партии.
– Я сын рабочего класса Болгарии. Вырос и получил воспитание в рядах революционного рабочего движения… В течение тридцати лет я член Болгарской коммунистической партии. В течение двадцати трех лет – член Центрального Комитета Коммунистической партии Болгарии.
Журналисты едва успевали записывать то, что слышали. Это было изумительно.
Бюнгер, склонив голову, слушал с нескрываемой досадой.
– Верно, что я большевик, пролетарский революционер, – продолжал Димитров. – Я должен подчеркнуть: пролетарский революционер, так как ведь сейчас все идет навыворот, даже германский кронпринц объявляет себя революционером, а попадаются даже и такие сумасшедшие «революционеры», как, например, Ван дер Люббе! – Димитров окинул взглядом судей: – Также верно, что я, как член Центрального Комитета Болгарской коммунистической партии и член Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала, являюсь ответственным и руководящим коммунистом.
Прокурор д-р Вернер писал что-то в блокноте. Увидев это, Димитров повысил голос, будто хотел чтобы господин прокурор лучше его слушал:
– И я вполне готов нести полную ответственность за все решения, документы и действия моей болгарской партии и Коммунистического Интернационала. Но именно поэтому я не авантюрист, не заговорщик и не поджигатель.
Передохнув, Димитров вновь обратился к красным мантиям:
– Далее, также совершенно правильно, что я – за пролетарскую революцию и за диктатуру пролетариата. Я глубоко убежден, что в этом спасение и единственный выход из экономического кризиса и военной катастрофы капитализма. И борьба за диктатуру пролетариата и за победу коммунизма, бесспорно, составляет содержание моей жизни. Я желал бы еще по крайней мере двадцать лет прожить для коммунизма и затем спокойно умереть. Но именно поэтому я решительный противник методов индивидуального террора и путчизма.
Некоторое время Димитров продолжал еще говорить спокойно, а потом, повысив голос, бросил в зал:
– К поджогу рейхстага я не имею абсолютно никакого – ни прямого, ни косвенного – отношения. Поджигателя рейхстага Ван дер Люббе я вижу впервые здесь, в этом зале.
Подняв руку, внимательно глядя в глаза Бюнгера, точно пытаясь ему внушить, Димитров далее сказал:
– Теперь я более склонен предположить, что поджог рейхстага – это антикоммунистическое деяние – возник на почве союза политической провокации и политического сумасшествия.
– На кого вы намекаете, Димитров? – встрепенулся Бюнгер и постучал карандашом по столу.
– Моим утешением было и остается лишь то, что мои болгарские соратники, товарищи по классу за границей, революционные пролетарии в Германии и все те, кто меня хоть сколько-нибудь знает, ни на одну минуту не могли усомниться в моей невиновности. Я могу спокойно сказать, что к поджогу рейхстага я имел такое же отношение, как, например, и любой иностранный корреспондент, сидящий в этом зале, или сами господа судьи. Я хочу со всей силой подчеркнуть, что я не имел абсолютно никакого, даже случайного или совершенно отдаленного, отношения к этому преступлению.
Димитров прищурился, поглядел в сторону иностранных журналистов и, казалось, только для них сказал:
– Все предварительное следствие против меня велось с предвзятостью и с явным намерением любой ценой, вопреки всем противоречащим этому фактам сфабриковать из меня для имперского суда поджигателя рейхстага, после того как длившееся месяцами предварительное следствие оказалось не в состоянии, как это теперь для меня ясно, найти настоящих виновников.
Бюнгер не вытерпел, отложил папку, которую только что листал, и снова постучал по столу.
– Говорите суду, Димитров… Как вы думаете, для чего вы здесь?
– Я здесь для того, чтобы защищать коммунизм и себя самого, – ответил Димитров и опять повернулся к публике.
Бюнгер встал. Он был бледен,
– Говорите по существу, Димитров, иначе я вас лишу слова!
Но Димитров продолжал бросать в зал свои такие убедительные доводы.
Иностранные корреспонденты – враги и друзья – были ошеломлены революционной энергией этого человека. Уже на другой день иностранная печать заговорила о Димитрове.
«У этого болгарина, – писал лондонский «Таймс», – как бы врожденное достоинство». Реакционная газета «Пти паризьен» заявляла: «Димитров не отвечает на вопросы. Он нападает». Другая реакционная газета, выходившая в Варшаве, добавляла: «Димитров – человек блестящей интеллигентности и дарования, он превратил скамью подсудимых в скамью обвинителя».
А гитлеровская печать отмечала:
«Он настоящий психолог. Не легко было д-ру Бюнгеру справиться с этим вулканическим человеком на скамье подсудимых. Он злоупотреблял микрофоном для своих целей и никогда не забывал косвенно обратиться к иностранным корреспондентам. Это – эхо, которое он ищет и которое найдет».
Димитров действительно нашел это эхо. Мир заговорил о его первой речи в имперском суде. «Человек, который горд тем, что руководил революционным восстанием, который кричит в лицо каждому буржуа, что он борется против него, который отметает от себя всякую сентиментальность, вызывает аплодисменты буржуазных корреспондентов из-за границы», – писала «Нейе Лейпцигер Цейтунг».
Это был очень печальный день для д-ра Бюнгера. Его хозяева сделали ему строгое внушение за то, что он потерял инициативу. Он должен это хорошо запомнить и обуздать коммуниста[34]34
Георгий Димитров первым же своим выступлением спутал карты постановщиков Лейпцигского процесса. Фашисты, желая придать своей судебной инсценировке массовый пропагандистский антикоммунистический характер, решили транслировать заседание суда по радио. Заседания первых двух дней, 21–22 сентября, как и было задумано, передавались по радио, но с третьего дня радиопередачи из зала лейпцигского имперского суда прекратились. Почему? Суд неожиданно для его организаторов пошел не по их сценарию, а так, как повел его подсудимый коммунист Димитров. Газета «Правда» в свое время хорошо передала этот перелом в ходе процесса:
«Так проходит два дня, а на третий – процесс с оглушительным треском сходит с рельсов. Дальше нет накатанной насыпи. Дальше нет «списка действующих лиц», заблаговременно напитанных и назубок вытверженных ролей. Председатель суда Бюнгер и болгарский коммунист Димитров выступают перед всем миром, каждый представляет свой класс, свой мир, свою партию, свою мораль… Моральное мужество т. Димитрова производит огромное впечатление не только на миллионные массы пролетариев во всех странах, куда доносится его голос, но и в самой Германии, где не в силах заглушить этот голос печать палачей. В основе этого морального мужества – политическая сила и цельность пролетарского революционера.
…Колоссальная аудитория перед т. Димитровым, и, затаив дыхание, каждое его слово слушает международный пролетариат. И как всякий боец-коммунист, схваченный врагами, Димитров не думает о себе, о своей жизни, о своей безопасности. Он продолжает делать дело своей партии, зная, что не только речью своей, но всем своим поведением он дает урок революционной борьбы миллионам пролетариев. Димитров не оправдывает себя от обвинения в поджоге рейхстага. Он обвиняет фашистский суд и фашистские власти…»
[Закрыть].
ВСТРЕЧИ
Режим в тюрьме стал еще более тяжелым. Попытки Димитрова получить юридическую защиту не достигли цели. Суд отклонил просьбу Димитрова допустить к участию в суде иностранных адвокатов Моро-Джиаффери, Канпинки, Брантинга, Виллара, Галахера, болгар Григорова и Дечева. Суд назначил официального защитника, д-ра Тейхерта. Этот гитлеровский адвокат вместо того, чтобы помогать Димитрову, делал все возможное, чтобы ухудшить его положение. Димитров был вынужден отказаться от навязанного ему адвоката и взять свою защиту на себя.
Хотя Димитров и был изолирован от внешнего мира, он знал, что мировая общественность с ним. В письмах, которые он получал, правда с большим опозданием, он чувствовал тепло рук тех многочисленных друзей, кто следил за его судьбой. Большое участие в международной кампании в его защиту принял и старый его товарищ и друг Васил Коларов.
Письма, которыми они обменивались, документы, которые посылал Коларов в Моабит, чтобы Димитров использовал их на суде, говорили о верности дружбе. Еще в сентябре Коларов выехал в Париж, чтобы принять участие в заседаниях Международной следственной комиссии.
Да, мировая общественность была с ним, с Димитровым. Он чувствовал это и по взглядам журналистов, присутствовавших на процессе, даже по глазам тюремных стражников…
После долгого одиночества неожиданно наступил день, когда Димитров увидел близкого человека. В зал суда вошла дама. Сначала она робко огляделась, а затем, увидев подсудимого, широко и ласково ему улыбнулась. Улыбнулся и подсудимый, радостно закивал. Это обратило внимание сидящих в зале. Д-р Бюнгер ударил по звонку.
– Знаете, госпожа, здесь имперский суд и потому следует держаться серьезней!
Женщина покраснела и сказала про себя: «Знаю, что это фашистский суд, ну и что же? Ведь подсудимый-то – мой брат».
Это была Елена Димитрова, прибывшая из Москвы повидать брата и засвидетельствовать перед судом его невиновность, как она это уже сделала на контрпроцессе в Лондоне.
Бюнгер распорядился начать ее допрос. «Что сейчас произойдет, если она растеряется, потеряет присутствие духа среди этих взглядов, со всех сторон пронизывающих ее, среди этих озлобленных людей?» Елена поглядела на брата и облегченно вздохнула: он был спокоен, и его спокойствие укрепило в ней силы. Неожиданно для всех Димитров обратился к сестре:
– Знает ли свидетель, что я, находясь в Берлине в 1930–1933 годах, занимался исключительно делами, связанными с борьбой в Болгарии?
– Да, – ответила она, – подсудимый Димитров был в Берлине с 1930 по 1933 год, и занимался он делами болгарского революционного движения. Он подготовлял общественное мнение к поддержке борьбы за полную и безусловную амнистию болгарских заключенных и эмигрантов.
– Знает ли свидетель, – продолжал Димитров, – что я писал статьи в «Импрекор» о положении в Болгарии и что я жил на деньги, получаемые за эти статьи?
– Подсудимый Димитров был одним из редакторов «Импрекора» и принимал в нем деятельное участие как публицист. Он…
– Довольно! – прервал Бюнгер. – Вопросы буду задавать я. Вам, Димитров, я не давал слова.
Лысая голова Бюнгера покраснела. Он понял, что его опять провели. Зло поглядывая то на подсудимого, то на его сестру, он рылся в огромном деле, а потом, хотя и с опозданием, начал задавать вопросы. Наконец он сказал с досадой;
– Свидетельница свободна! – и подал знак вывести ее.
Елена покинула зал глубоко взволнованная. В коридоре она задержалась, чтобы дождаться конца заседания и попросить о свидании с братом.
Свидание произошло в маленькой и пустой комнате в присутствии официального адвоката д-ра Тейхерта, переводчика и полицейского. Тейхерт, пожевывая бутерброд, внушал Елене:
– Скажите брату, чтобы он держался вежливее и внимательнее к суду, иначе не могу отвечать за его голову.
Елена восторженно глядела на брата, у нее не было ни времени, ни желания прислушиваться к словам фашистского адвоката. Она рассказывала брату, какие большие размеры приняла борьба за его освобождение и что говорят о нем его товарищи.
Переводчик настороженно слушал, боясь пропустить какое-либо недозволенное, опасное слово, от которого может зависеть судьба третьего райха. Он сидел, вытянув шею, широко раскрыв бегающие глаза профессионала шпиона.
– Говорили тебе что-нибудь, когда посылали тебя сюда?
– Нет, они полагаются на тебя… они восхищены тобой.
Переводчик недоумевал, о ком идет речь. Кто эти «они»? И на всякий случай сказал:
– Прошу, не говорите на политические темы.
– Имеешь ли сведения из Болгарии? – продолжал Димитров.
– Нет.
– Мама скоро приедет?
– Предполагаю, скоро.
– Ты что думаешь делать?
– Поеду по Европе и буду рассказывать, как могу и о чем знаю…
Наступила короткая пауза. Затем Димитров спросил о смерти Любы, вспомнил о ее мученической жизни. Потом опять заговорил о прошлом, о матери.
Вмешался полицейский:
– Время истекло, госпожа. Прошу!
Елена взглянула на часы и вздохнула. Сказала еще несколько слов, обняла брата, поцеловала, и глаза ее наполнились слезами.
– Не срами меня, – сказал Димитров и нежно, по-отцовски похлопал ее по плечу. – Не срами!
– До свидания, брат! Прости за слабость…
Елена вышла из здания суда, а затем уехала из Германии так же внезапно, как и приехала.
Стояла глубокая осень. По бульварам Лейпцига гулял холодный ветер, вода в каналах потемнела, с деревьев тихо опадали последние листья.
В один из таких коротких осенних дней в Лейпциг прибыла Парашкева Димитрова со своей дочерью Магдалиной. Остановились они в гостинице «Регина». Гитлеровцы немедленно установили наблюдательные посты у гостиницы: их пугало даже присутствие семидесятидвухлетней женщины.
Мать Димитрова до конца процесса не пропустила ни одного заседания. Ее место было известно всем – четвертая скамья в рядах для публики. Она сидела молча, сложив руки на коленях, и напряженно слушала все, что говорил ее сын. Она ничего не понимала в его речах на немецком языке[35]35
Мать Димитрова причиняла гитлеровцам много хлопот. Начальник гестапо Дильс говорил болгарскому послу в Берлине, что их беспокоит ее деятельность, ее беседы с иностранными корреспондентами, грозился выслать ее с дочерью из Германии. Но, боясь новых разоблачений, гитлеровцы не рискнули нанести прямой удар по родственникам Димитрова. Гитлеровцы предприняли обходный маневр – они лишили мать Димитрова переводчика, рассчитывая таким образом ограничить ее деятельность в защиту сына.
[Закрыть], но она знала, что ее Георгий говорит только правду, и не отрывала глаз от него.
После долгих и настойчивых ходатайств фашисты, наконец, разрешили ей свидание с сыном. На д-ра Тейхерта возложили задачу – воздействовать на Димитрова через мать. Тейхерт решил попробовать. Он вызвал к себе мать Димитрова и сказал ей:
– Вам разрешено свидание с сыном при одном условии…
Димитрова поглядела вопросительно: что задумали они?
Тейхерт продолжал:
– Скажите ему, чтобы он не говорил так много, потому что голова его в опасности.
Димитрова задумалась, не сказала «да», не сказала «нет». Тейхерт решил, что его совет был очень убедительным. Жестом он пригласил Димитрову следовать за ним.
Свидание произошло в той же голой, неприветливой комнате. Были здесь и тот же полицейский итог же переводчик. И опять д-р Тейхерт уплетал свои бутерброды.
Димитров обнял мать, поцеловал ее, пристально вгляделсях в ее лицо: действительно, она очень постарела.
– Понимаешь ли меня, мама, когда я говорю? – спросил он, улыбаясь. – Ты так на меня глядишь, что, кажется, все понимаешь…
– Ничего не понимаю, Георгий, – ответила она, но когда вижу, как ты говоришь с председателем, с адвокатом, прокурором, понимаю, что эти люди тебя не освободят…
Димитров вздрогнул, поглядел на мать удивленно. Д-р Тейхерт, которому переводили все, также недоумевал: что хочет этим сказать старуха? А мать, похлопав сына по плечу, сердечно улыбаясь, сказала:
– Говори, сын, говори! У тебя дар Павла! Ты говоришь, как апостол Павел.
Тейхерт тревожно поглядел на переводчика. Мать продолжала:
– Говори, сын, так, как ты считаешь нужным. Держись правды, не бойся никого!
Тейхерт взорвался. Изо рта его выпал кусок бутерброда.
– Разве я вас для этого привел, бабушка?
– Вы не ошиблись, что привели меня сюда. Я сказала сыну то, что должна была сказать ему. Теперь могу и уйти…
Тейхерт вскочил.
– Выгоните ее! – крикнул он полицейскому. И, не дожидаясь, пока полицейский этим займется, сам стал выталкивать старую женщину.
– Вы можете выгнать меня, – сказала спокойно мать, – но правду не выгоните. Она везде пробьет себе дорогу, даже сквозь ваши тюрьмы…
Полицейский выругал ее и с треском захлопнул за ней дверь. Мать оказалась на улице. Огляделась и впервые с тех пор, как приехала в Лейпциг, почувствовала, как полегчало у нее на душе. Сердце заполнила радость. Магдалина восторженно слушала ее.
– Да ты, мама, настоящая святая! – вырвалось у дочери.
В тот же день под вечер мать с дочерью вышли погулять по Лейпцигу, купить сигареты для Георгия. В городе стоял обычный шум: позванивали трамваи, гудели автомобильные сирены, с грохотом неслись грузовики. В вечернем полумраке неоновым светом кричали тысячи реклам. Обе женщины шли молча, глухие к шуму и суете большого города. Когда им надоело толкаться в толпе на главном бульваре, они
удалились на небольшую боковую улочку, где было и светло и тихо. Прохожие останавливались, оглядывали их. Никогда здесь не видели так странно одетую старую женщину, прибывшую из какой-то далекой страны. Слух о ней проносился как молния: «Мать Димитрова!»
По дороге им встретился табачный магазин. Чуточку поколебавшись, решили здесь купить сигареты. Продавец с любопытством разглядывал старую женщину. Его восхищала ее одежда, черная шаль, покрывавшая голову и плечи, удивляло ее живое, подвижное лицо. Хотелось ему о чем-то ее спросить… Но теперь в Германии и стены имеют уши. Приготовив старательно пакет, он вежливо вручил его.
– Сколько? – спросила Магдалина.
Продавец опасливо поглядел в окно. Магдалина повторила вопрос. Продавец наклонился к ней и тихо сказал:
– Ничего не стоит, знаю, для кого это…
Открыв покупательницам дверь, он поклонился и сказал:
– До свидания!
Женщины вышли смущенные, растерянные, они не успели даже поблагодарить. Перейдя улицу, направились обратно в гостиницу.
Недалеко от гостиницы их догнал молодой человек в синем промасленном комбинезоне. Быстро наклонившись, он взял руку матери, поцеловал ее старческие пальцы и мигом скрылся в толпе. Женщины остановились пораженные и долго глядели туда, где исчез этот странный молодой человек.
Это был один из тех тысяч, которые следили за каждым словом Димитрова, прислушивались к каждому его призыву из зала лейпцигского суда.
В тот же вечер Парашкева Димитрова нашла в своей гостиничной комнате пакет с продуктами и букет цветов. «Для Георгия Димитрова». Радость залила ее. Казалось, что это он сам пришел навестить ее. На другой день она нашла в комнате шелковую рубаху и обувь с надписью: «Для героя и обличителя». Мать заплакала от радости и горя.
В Лейпциге, Берлине, в Германии – во всем мире, всюду человеческая любовь стремилась к человеку, чье слово было сильнее огня и железа.