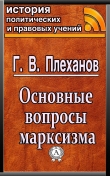Текст книги "Димитров. Сын рабочего класса"
Автор книги: Камен Калчев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
«КОРИЧНЕВАЯ ЧУМА»
Поезд стремительно мчался из Мюнхена в Берлин. В этот зимний день было мало пассажиров. В вагонах просторно, уютно, тепло. В коридоре вагона третьего класса у окна стоял мужчина лет пятидесяти. Из кармана его пальто торчали газеты. Пассажир задумчиво глядел на заснеженное поле, фабричные трубы, густой дым, стелющийся над индустриальным районом.
«Значит, это произошло вчера, 27 февраля, в девять часов вечера, – промолвил про себя пассажир. – Это же явная провокация. Нет сомнения, что это дело гитлеровцев. Только они способны на такое. Теперь начнется свистопляска».
Из полуоткрытой двери соседнего купе донесся тревожный голос;
– Боюсь за судьбу Германии, пугают меня эти непродуманные поступки.
Пассажир в коридоре прислушался.
– Как бы это не обернулось войной нацистов против германского народа, – слышалось из купе.
– Да, это, бесспорно, сигналы к войне с народом, – поддержал другой голос.
Голоса на некоторое время смолкли, а затем до пассажира в коридоре донесся из купе все тот же голос:
– …Я вам расскажу про один случай, который ярко иллюстрирует их мораль. Он поможет вам иметь ясное представление о том, что такое гитлеризм, что значит «коричневая чума». 29 ноября мой друг Розенфельд, торговец кондитерскими изделиями в Берлине, получил письмо такого содержания:
«Грязный еврей, вы уже пять раз были предупреждены о необходимости закрыть свой магазин, прекратить торговлю. Если и после этого нашего предупреждения вы будете продолжать торговлю, мы выбьем стекла у вас, чтобы вы поняли, что это серьезно. Если же и это не подействует, мы подожжем ваш магазин, а потом и вас убьем… Это наше последнее предупреждение. Полицию мы пошлем ко всем чертям. Мы не боимся ее. Если вы позвоните в полицию, вы не сотрете своего имени в черном списке. Дни ваши сочтены. Закройте магазин!»
В купе замолкли. Люди ушли в свои мысли. Задумался и пассажир в коридоре. Он невольно связал услышанное с тем, что прочитал утром в газетах.
Поезд приближался к Берлину. На маленькой станции в вагон поднялись полицейские.
– Просим господ пассажиров не покидать своих мест! Полицейская проверка.
Полицейские заполнили все купе, требовали документы. Пассажир, стоявший в коридоре, предъявил паспорт. Полицейский прочел:
– «Доктор Рудольф Гидегер из Швейцарии, писатель…» – Полицейский недоверчиво поглядел и процедил сквозь зубы: – Пи…сэ…тель?
– Да, писатель! – ответил пассажир и взял паспорт, а про себя пустил полицейскому вслед: «Бандиты! Сами подожгли рейхстаг, а теперь ищут виновного…»
Пассажир, который ехал 28 февраля 1933 года из Мюнхена в Берлин с паспортом на имя д-ра Рудольфа Гедигера, был Георгий Димитров.
После короткого отсутствия он возвращался в Берлин. Известие о поджоге рейхстага его поразило. Но ему с первого же момента было ясно, что поджог не мог быть делом коммунистов, как это пытались представить официальные германские власти. Он понимал, что поджог организовали сами гитлеровцы – с тем чтобы разгромить Германскую коммунистическую партию и удушить все демократические силы германского народа. Как воспримет народ эту фашистскую провокацию? Этого Димитров еще не представлял. Но он понимал, что предстоит жестокая, упорная борьба с надвигающимися темными силами гитлеризма, «коричневой чумой».
В Берлине, по дороге на квартиру, Димитрова оглушили радиовопли;
– Коммунистический поджог рейхстага! Поджигатели-коммунисты схвачены в рейхстаге! Загадочное молчание Ван дер Люббе! Связи с Третьим Интернационалом!.. Читайте газеты «Фелькишер беобахтер»! Читайте «Ангриф»!
Пробыв недолго дома, Димитров поспешил в ресторан «Байернгоф» на Потсдамерштрассе, 11, где у него была назначена встреча с друзьями болгарами Василом Таневым и Благоем Поповым. Димитров не узнавал Берлина: по улицам мчались закрытые полицейские машины с арестованными, молодые люди в коричневых рубахах громили витрины еврейских магазинов, такие же молодчики орали: «Коммунисты напали на рейхстаг! Германия, куда ты идешь?» На одной из улиц задержали женщину, а когда она что-то возразила, то получила удар прикладом в спину и кулаком в зубы…
Коричневая свистопляска началась раньше, чем предполагал Димитров…
Ресторан «Байернгоф» помещался в низком длинном зале; на стенах его – старинная роспись, оленьи рога. За тяжелыми столами немецкие бюргеры пили пиво из больших деревянных кружек.
Димитров, поздоровавшись с уже знакомыми официантами, прошел в угол и сел за стол. Друзей его еще не было. Димитров заказал пиво и углубился в газету.
Через несколько минут появился Попов и сразу, с ходу, сообщил:
– Арестован депутат рейхстага от Германской коммунистической партии…
– Кто?
– Торглер… Эрнст Торглер…
– Так, – раздумчиво проговорил Димитров, – очевидно, хотят сфабриковать процесс…
– Против Германской коммунистической партии…
– Против коммунизма вообще…
Димитров подозвал глазами официанта.
– Гельмер, кружку для друга!
Официант поклонился и поспешил к стойке.
– Тебе знаком этот официант? – спросил Попов.
– Да.
– Наш товарищ?
– Черт его знает! Теперь и национал-социалисты называют друг друга товарищами, и они говорят о социализме, и они носят красные знамена… только с переломленным крестом. И они называют свою партию рабочей партией – с той только маленькой разницей, что их рабочей партией командуют такие крупные капиталисты, как Тиссен, Крупп и другие. Да, да, и это тоже социалисты… Черт бы их взял, и тех и других, и их вождя-маляра! Многое сейчас поставлено с ног на голову, даже германский кронпринц стал «социалистом»… Но никого это не обманет. Надо быть чуточку внимательным, чтобы различить, где маска, а где подлинное лицо, чтобы увидеть волка в овечьей шкуре…
Пришел официант Гельмер, поставил перед Поповым кружку с пивом, отошел чуть в сторону и остановился ровно на таком расстоянии, чтобы можно было слушать разговор этих иностранцев.
– Подслушивает, – сказал Попов.
– Гад! – махнул рукой Димитров. – Что он хочет услышать?
– Берлин кишит гитлеровскими шпионами.
Димитров не ответил. Молча подняв кружку, он допил пиво и подозвал официанта:
– Получите, Гельмер!
Официант, раболепно согнувшись, принял деньги и с глубоким поклоном проводил клиентов до выхода из бара.
Димитров и Попов медленно шли по городу. Из громкоговорителей несся хриплый голос диктора:
– Преступники, которые по приказу иностранной державы, по приказу Москвы, убивают, опустошают, лишают спокойствия мирный народ и сами заявляют, что не хотят быть немцами, а хотят быть подданными Третьего Интернационала, такие преступники не могут рассматриваться как наши соотечественники…
Димитров с досадой махнул рукой.
– Они всерьез взялись за уничтожение своего народа…
АРЕСТ
9 марта 1933 года Димитров, Танев и Попов, как обычно, зашли в ресторан «Байернгоф». Был тот послеобеденный час, когда бар пустовал. Димитров выбрал стол и, не увидев знакомого официанта Гельмера, подозвал другого. Тот принял заказ и удалился.
– Так, значит, в данный момент поджигателем называется только Ван дер Люббе? – продолжал прерванный разговор Димитров.
– Ван дер Люббе и Торглер.
– Торглер – как моральный поджигатель, так ведь кажется? Надо же как-то направить следствие к Германской компартии…
– Говорят, Ван дер Люббе коммунист.
– Коммунист?! – воскликнул Димитров. – Это невероятно! Никогда ни один коммунист не вмешался бы в такую глупую террористическую аферу! Терроризм не входит в наши принципы. Нет! Нет! Это доказывает лишь то, насколько запутались гитлеровцы. Всем, кем угодно, может быть Ван дер Люббе, только не коммунистом…
– У него найден партийный билет, – сказал Танев.
– Это еще ничего не значит.
На другом конце бара, у самого входа, послышался шум, затем раскрылась тяжелая дубовая дверь, и в бар ворвались полицейские, сильно вооруженные. Находившийся среди них человек в штатском, оглядевшись, указал пальцем в сторону Димитрова. Это был официант Гельмер. Димитров его сразу узнал.
С пистолетами в руках полицейские окружили болгар.
– Руки вверх! Именем закона вы арестованы!
Трое болгар сначала заколебались, но потом встали, подняли руки и позволили себя обыскать.
– Здесь они встречались с Ван дер Люббе? – спросил полицейский.
– Да, – ответил Гельмер. – Я уже говорил об этом и готов подтвердить, где это потребуется.
Димитров, который хорошо понимал немецкий язык, взглянул на полицейского и кельнера и мрачно спросил:
– Какой Ван дер Люббе?
– Узнаете, когда придете в зал Бисмарка, господин Рудольф Гедигер, – злобно усмехнулся полицейский и поторопил своих подчиненных: – Быстрей! Быстрей!
Полицейские собрали вещи, отобранные у арестованных, и повели их к выходу. Димитров обратился к старшему полицейскому:
– Прошу вас, распорядитесь вернуть мне очки, они мне крайне необходимы.
– В Моабите очки не потребуются, там все равно темно, господин писатель, – съязвил полицейский.
– А для поджога рейхстага вам нужны были очки? – глупо сострил парень в коричневой рубахе.
– Тогда ему было светло… – подхватил такой же молодчик.
Димитров на них не взглянул.
Арестованных посадили в закрытую полицейскую машину и отвезли в рейхстаг, в зал Бисмарка, где заседала следственная комиссия.
Арестованных болгар встретил комиссар уголовной комиссии д-р Брашвиц. В резкой форме он объявил им, что полиция имеет неопровержимые доказательства об их связи с Ван дер Люббе и участии в поджоге рейхстага. Димитров ответил, что это чудовищная ложь. Брашвиц настаивал на своем и требовал подписать протокол.
Димитров заявил:
– Я отрицаю все обвинения и не подпишу никаких протоколов! Я не питаю доверия ни к какой полиции и тем более к вашей, германской полиции. Все, что я сочту нужным, я изложу письменно.
Брашвиц побагровел от злобы и приказал немедленно отвезти арестованных в тюрьму предварительного заключения при берлинском полицей-президиуме.
В тюрьме Димитров дал письменные показания, в которых, кратко обрисовав свою жизнь и деятельность, доказывал, что с поджигателями он не имеет ничего общего. О найденном у него при обыске фальшивом паспорте дал такое объяснение;
«Мои политические противники угрожали мне убийством и за границей, поэтому я не мог жить в Европе под своим настоящим именем и был вынужден проживать под другими фамилиями. К ним относится и фамилия д-ра Рудольфа Гедигера, под которой я и был арестован».
Вслед за этим Димитров написал о своей деятельности как политического эмигранта;
«В конце июня 1932 года я прибыл в Берлин и отсюда предпринял поездки в Вену, Прагу, Амстердам, Париж и Брюссель, где я старался заинтересовать этим вопросом [31]31
Вопросом об амнистии осужденных в связи с сентябрьскими событиями 1923 года в Болгарии.
[Закрыть] выдающихся лиц, таких, как Цвейг и др. в Австрии, профессор Неедлы и др. в Чехословакии, Барбюс, Ромен Роллан во Франции и др., редакции разных газет и журналов, разные организации – культурные, научные и др., и обеспечить их моральную и политическую поддержку в пользу требования амнистии… Написал ряд статей об экономическом и политическом положении в Болгарии, о ее внутренней и внешней политике и др.».
Наконец он заявлял:
«Во время своего пребывания в Германии я не вмешивался во внутренние германские дела. Я не принимал ни непосредственного, ни косвенного участия в политической борьбе в этой стране. Я целиком посвятил себя задаче, которая для меня, как болгарского политического деятеля, является вопросом жизни, – помочь, насколько мне позволяют силы, скорейшему завоеванию полной политической амнистии в Болгарии, чтобы я мог свободно вернуться после десятилетней эмиграции в свою страну и там служить моему народу согласно моим убеждениям и моему идеалу».
Относительно обвинения в поджоге рейхстага Димитров писал:
«С глубочайшим возмущением я отвергаю всякое подозрение в каком бы то ни было моем прямом или косвенном участии в этом антикоммунистическом действии, в этом со всех точек зрения предосудительном злодеянии и решительно протестую против неслыханной несправедливости, которую совершили по отношению ко мне, арестовав меня в связи с этим преступлением».
«Я протестую также против того, что со мной обращаются как с военнопленным, которому не оставлено из его собственных средств ни пфеннига для самых необходимых нужд и который лишен даже самой элементарной юридической помощи».
В конце своих показаний Димитров писал:
«Что касается книг, найденных в моей квартире, то я безусловно своими могу признать только те из них, которые были бы зафиксированы в моем личном присутствии. Обыск в моей квартире был произведен в мое отсутствие».
Свои показания Димитров передал следователю, но они не были приняты во внимание. 28 марта Димитров вместе с двумя товарищами был отправлен в тюрьму Моабит, что на окраине Берлина.
Началась тяжкая тюремная эпопея Димитрова, пленника фашизма.
ДАЛЕКО ОТ МИРА
У серых стен тюрьмы Моабит день и ночь стояли часовые. Через решетчатые оконца чуть проникал дневной свет, но долетал городской шум и напоминал затворникам, что где-то есть люди, есть жизнь.
Камера Георгия Димитрова была высокой и, как гроб, узкой; в ней едва помещалась койка, которую днем убирали. По настоянию Димитрова в камере поставили маленький стол. Димитров проводил за ним целые дни, поглощенный то чтением, то обдумыванием предстоящей защиты.
Прошло два дня, как он получил обвинительный акт от судебного следователя Фогта, и два дня с тех пор, как его руки заковали в стальные наручники.
Тюремная пища состояла из жидкого кофе, фасоли, иногда гороха или манной каши и небольшого куска хлеба.
Димитров не упускал случая выразить следователю Фогту протест против нетерпимого режима, подчеркивая при этом, что ни он, ни его друзья ни в чем не повинны.
– Кладу голову об заклад, – говорил Димитров, – что я и мои товарищи не виновны.
Фогт отвечал ему иронически;
– Вы и без того голову свою сложите…
По утрам тюремщики открывали двери камеры, передавали кусок хлеба и молча выслушивали требования заключенного. Он каждый день что-нибудь требовал. Никогда еще тюремщикам не встречался такой настойчивый, такой беспокойный заключенный. Каждый день он забивал им голоьы требованием то книг: истории Германии, учебника немецкого языка, свода законов, – то газет… Дайте ему, видите ли, книги господина Гете, книгу о господине Гамлете, книги какого-то лорда Байрона… То он хочет писать, то он хочет читать… На руках у него стальные наручники, а он сидит за столом и пишет, пишет… А иногда заговаривает с тюремщиками, подбрасывает им опасные мысли, беседует с пастором тюремной церкви, расспрашивает его об отношениях между протестантами и католиками, о философии христианства и философии гитлеризма… Очень неспокойный человек. Иногда станет у окна и долго-долго вслушивается. Что ему там слышится? О чем он думает? Может быть, вспоминает свободу? Может быть, думает о своих друзьях, разбросанных по всему свету?
В этот день, как и всегда, он сел за стол, развернул лист чистой бумаги и написал:
«Дорогой друг Барбюс!
Я вынужден сообщить вам печальную весть. Начиная с девятого марта, я нахожусь под арестом…»
Поскрипывает перо, пошатывается стол под тяжестью его тела, позванивают наручники, и острая боль режет запястье рук.
«…Меня, к несчастью, обвинили в том, что я предпринял попытку насильственным путем изменить государственное устройство Германской империи, преднамеренно поджег здание рейхстага… причем совершил поджог с целью вызвать восстание… Прошу вас, сообщите о моем настоящем положении также Ромену Роллану, так как я не знаю его теперешнего адреса…»
Димитров оторвался от письма, поглядел в окно, за которым лежал весь мир, в душу его нахлынули воспоминания о прошлом и тяжелые мысли о настоящем, и это настоящее вылилось из-под его пера в таких словах:
«…Мои личные деньги конфискованы… Я не получаю газет… не получил защитника… ко мне никого не допускают… отобрали даже мои очки».
Димитров вложил письмо в конверт и написал адрес:
«Анри Барбюсу. Париж. Редакция газеты «Юманите».
Затем поднялся, постучал в дверь и сказал появившемуся тюремщику:
– Передайте, пожалуйста, в дирекцию, пусть перешлют немедленно…
День сменила ночь, наступил новый день.
Мир с его радостями и тревогами лежал где-то далеко-далеко, глухой и недосягаемый. Что там произошло со знакомыми людьми? Доходят ли его письма до них?
Димитров написал новое письмо, адресованное депутату Марселю Кашену, в Париж:
«Дорогой Марсель Кашен!
…Я никогда в моей жизни не видел, не встречался и не разговаривал с поджигателем рейхстага Ван дер Люббе и, конечно, не имел никакого – ни прямого, ни косвенного – отношения к поджогу рейхстага, к этому безумному, преступному поступку, враждебному народу и явно антикоммунистическому. Для меня особенно важно, чтобы это мое категорическое заявление стало известно в самой Болгарии и чтобы болгарские соотечественники и друзья за границей узнали о нем».
Димитров передал тюремщикам и это письмо, но получит ли его адресат, не знал.
Никто не желал с ним говорить. Держали его в изоляции от людей, от мира. И только книги, которые ему приносили из тюремной библиотеки, давали силы переносить невзгоды и страдания.
Расхаживая по камере, он читал Байрона:
«Я так беспомощен, как только может пожелать сам черт.
Им уже ничего не стоит вытащить меня на сушу, как попавшуюся на удочку рыбу.
Или как ягненка, который не сумел спастись от мясника, потащить на бойню.
Но я не очень-то подхожу для такой изысканной трапезы.
И еще меньше желаю попасть на сковороду».
Иногда обуревали душу тяжелые мысли. Дни шли, и никаких вестей о дальнейшем ходе судебного следствия.
Чего они еще ждут? Чего хотят от него?
30 апреля 1933 года Димитров записал в дневнике:
«Пятая неделя! Сколько еще?»
А на другой день, рано утром Первого мая, он слышал далекий грохот Берлина, крики и вопли гитлеровского сброда, пытавшегося превратить день Первого мая в свой праздник, чтобы обмануть рабочих, ввести их в заблуждение.
Димитров с болью в сердце вспомнил те далекие времена на своей родине, когда он праздновал Первое мая среди тысяч своих товарищей рабочих, когда выступал на митингах, когда на улицах и площадях звенели песни. Вспомнил о стране, в которой свободно и торжественно празднуют этот день труда. Вспомнил и записал в дневнике:
«Москва – Берлин: два исторических антипода. А я сижу в Моабите закованный! Достаточно скверно и грустно. Но… Дантон: «Никакой слабости!»
Димитров вновь зашагал по камере, в такт шагам читая стихи Гете:
Трусливые мысли,
Боязливое колебание,
Женская робость,
Боязливая жалоба
Не избавят тебя от нищеты
И не сделают свободным!
Устоять вопреки насилию,
Никогда не сгибаться, быть сильным.—
Вот о чем бедные взывают к легиону богов!
Тяжело ступая, к двери камеры подошел тюремщик, долго и внимательно рассматривал через глазок в двери, что там делается.
– Сам с собой разговаривает. Должно быть, с ума сошел, – сказал, недоумевая, тюремщик и опять побрел по длинному, как само тюремное время, коридору. Шел и думал: «Хорошо, что его превосходительство господин Геббельс сжег книги на площадях Берлина. От книг человек действительно может помешаться и даже, поджечь рейхстаг!»
Димитров сел за стол, раскрыл книгу и тотчас перенесся в иной мир. В камере тишина, слышится иногда лишь шелест переворачиваемой страницы. Но вот что-то привлекло его внимание, он прочитал раз, еще раз, взял карандаш и подчеркнул повторяя:
Богатство потерять – немного потерять,
Честь потерять – много потерять,
Мужество потерять – все потерять!
Строки Гете взволновали. Димитров встал и опять зашагал по камере.
– Да, потеряешь мужество – все потеряешь!
Дни в Моабитской тюрьме были заполнены напряженной работой. Работал Димитров по десять часов в сутки, готовясь к публичной встрече с теми, кто заковал его в цепи и бросил в тюрьму. Он требовал от судебного следователя Фогта, ссылаясь на германские законы, снять наручники. Требовал допустить к нему защитников, которым он мог бы изложить свое дело. Следователь упорствовал, но и Димитров не отступал от своего.
Были и светлые минуты, когда он писал письма матери и сестре Магдалине в Болгарию.
«Мои дорогие мама и сестра! Я всегда гордился нашей матерью, благородным ее характером, стойкостью и самоотверженной любовью, и сейчас еще больше горжусь ею… Само собой разумеется, что я, «подобно апостолу Павлу», как пишет мама, буду нести свой крест с необходимым мужеством, терпением и стойкостью. Только не подвело бы здоровье – все остальное будет хорошо! От Лены я еще не получил ответа на мое письмо. Не знаю также, что случилось с Любой. По сообщению, полученному незадолго до моего ареста, бедняжка при смерти. Вы хорошо знаете, что означала бы для меня эта потеря. Это было бы величайшей потерей и самым большим ударом за всю мою жизнь…»
Удар этот Димитров получил 27 мая 1933 года – Любица Ивошевич умерла в Москве, вдали от своего друга. Он узнал об этом из письма, полученного с большим опозданием[32]32
Узнав о смерти жены, Г. Димитров написал из фашистской тюрьмы своей матери: «Хотя я уже давно был подготовлен к получению печальной вести, все же она глубоко взволновала меня. Люба, как жена и друг, как пролетарская поэтесса и революционерка, человек большой души и твердого характера, обладающий многогранным талантом и способностями, была человеком, какие редко встречаются. Она неизмеримо много помогала мне в моей жизни и в моей борьбе». А к сестре Магдалине он обращается с просьбой: «Позаботьтесь о том, чтобы найти и собрать все стихотворения Любы, опубликованные в разное время, а также неизданные, и издать сборник ее стихов. Это будет лучшим памятником нашей незабвенной Любе и некоторым утешением мне за то горе, которое я пережил еще при ее роковом заболевании несколько лет тому назад. Как революционер, милая моя сестра, я переношу все смело и до последнего дыхания не утрачу своего мужества; но как человек я глубоко и постоянно страдаю в связи с этим чрезвычайно тяжелым ударом в моей жизни…»
[Закрыть].
Теперь самой близкой к сердцу его оставалась только мать. И он не переставал писать ей:
«Дорогая, любимая мама!
…Сообщение болгарских газет о том, что Лена и Лиза выехали в Германию по моему делу, меня очень удивило. Я не имел понятия об этом… Обе последние посылки (с сыром) я не мог получить, ибо, как я уже писал вам, в тюрьме не разрешается выдавать продукты, полученные из-за границы… Пиши мне, прошу тебя, чаще. Горячие приветы всем домашним, особенно Лине, Стефану, Любе и Любчо. Тебе, моя милая мама, тысячу поцелуев. Твой сын Георгий».
Письма, которые он получал, хотя и с большими задержками и лишь после тюремной цензуры, напоминали ему о мире, от которого он был оторван насильственно. Но мир жизни смелой, жизни, полной борьбы, не забывал своего друга и своего сына. Это наполняло Димитрова верой в близкую победу, а иногда уносило в прекрасные мечты. Склонившись над столом, он закрывал книгу и уходил <в воспоминания о Болгарии, Вене, Москве. Придется ли еще побывать в этих краях? Будет ли он опять среди близких и друзей?
В том мире жили люди – сотни, миллионы людей, которых он должен быть достоин. Люди, которые не должны краснеть за него. Люди, перед которыми он должен высоко пронести все то, что ему доверил рабочий класс.