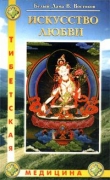Текст книги "Дикость (ЛП)"
Автор книги: К. Вебстер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц)
Глава 2
Девон
Я смотрю на экран телефона, где застыл значок «Нет сети». Сигнал исчез несколько дней назад. Мы действительно сделали это – теперь живём вне зоны досягаемости, отрезанные от всего. Возможно, я и вправду найду себе какого-нибудь беззубого деревенского дикаря и нарожаю ему кучу ребятишек, лишь бы заполнить эту новую, оглушительную тишину.
Мой смешок привлекает внимание папы. В зеркале заднего вида его добрые карие глаза на мгновение находят мои – они всегда действовали на меня успокаивающе.
– Что там смешного?
– Просто представила, как найду себе парня-лесоруба. И мы заведём кучу детей, – объясняю я.
– Нет, никогда, – звучит его мгновенный, почти рефлекторный ответ.
Бадди, как на подхвате, лает в знак согласия. Глупый пёс всегда встаёт на сторону папы в этом вопросе.
– Похоже, мои планы по обзаведению потомством придётся отложить до колледжа, – вздыхаю я с наигранной тоской.
Если честно, я не представляю, что бы я делала с парнем, будь он у меня. Вся моя жизнь прошла в школе для девочек, а единственные юноши, которых я знала, были сыновьями соседей. Меня никто никогда не целовал. Уж точно ничего дальше этого не происходило.
Папа хрипло ворчит, а мама тихо смеётся. Сегодня она кажется немного более похожей на себя – ту, что я почти забыла. Она улыбается в ответ на наши шутки, а по дороге даже подпевала старым песням с диска. Я не видела папу таким счастливым уже целую вечность. Однажды я помогу маме вспомнить, что мы – её семья. Что мы нуждаемся в ней. Она снова будет смеяться, улыбаться и любить нас так же сильно, как мы любим её.
И папа снова сможет быть счастливым. По-настоящему.
Рид Джеймисон держится молодцом, но я видела его в самые тёмные минуты. Видела, как он рыдал, содрогаясь всем телом, как раненый зверь. Это разбивало мне сердце на тысячу осколков. Когда умер Дрю, я плакала. Но когда заплакал мой отец, мне показалось, что мир потерял последнюю опору.
Мама всегда была грустной. Отстранённой. Потерянной. Мы с Дрю всегда чувствовали себя для неё обузой. А когда его не стало, она просто рассыпалась в прах, и не осталось никакой надежды, что из этих обломков можно собрать что-то целое. Папа, кажется, этой надежды не теряет. И я цепляюсь за неё вместе с ним.
Я дала себе клятву – всегда быть его помощницей. Его лучшим другом. Его маленькой девочкой. Я буду хорошо учиться, буду вести себя безупречно и никогда не стану спорить по пустякам. Папа сделал для нашей семьи так много. Это самое малое, что я могу сделать для него.
– Не ешьте белые ягоды, – в миллионный раз напоминаю я всем в салоне.
Бадди рявкает в знак солидарности.
Папа подмигивает мне в зеркало. – Сохраним их для твоего деревенского ухажёра.
Я с головой погружаюсь в один из своих любовных романов, когда фургон внезапно начинает сбавлять ход.
– Вот чёрт. Это большое, – срывается у папы раздражённое восклицание, и мы останавливаемся перед огромным поваленным деревом, перегородившим дорогу.
– Я рада, что мы остановились, – говорит мама своим отстранённым, ледяным голосом, который я знаю слишком хорошо. – У меня начинает болеть голова.
От воспоминаний о прошлой ночи у меня к горлу подступает ком. Они занимались сексом. И это звучало не как любовь. В этом была какая-то злоба. Папа, казалось, был полон ярости. Мама не издала ни звука. Я слышала только тяжёлое, прерывистое дыхание, влажные шлепки и его глухое, звериное ворчание.
Весь фургон ходил ходуном и дребезжал. Мне было невыносимо стыдно. Да, я видела секс в кино, читала о нём в книгах, но слышать его так близко, чувствовать эти звуки всем телом – это было впервые.
Когда я поднимаю глаза, папа смотрит на меня. Снова. «Извини», – читаю я в его взгляде. Мне хочется крикнуть ему, что он не виноват в том, какая она стала, но он мне не поверит. Он, как и я, всё ещё верит, что однажды мы сможем её «починить».
– Ладно, Пип. Твоей маме нездоровится, так что мне нужна твоя пара рук, – говорит он сквозь стиснутые зубы, бросая на неё взгляд, полный немого укора.
Она остаётся невозмутимой и лишь пожимает плечами.
Проклиная что-то себе под нос, он распахивает дверь и выходит. Дверь захлопывается с таким грохотом, что я вздрагиваю до самых костей.
– Иди помоги отцу, пока у него не случился инфаркт, – произносит мама скучающим, равнодушным тоном.
***
– Жарко, – жалуюсь я, вытирая капли пота, стекающие с висков.
Папе тоже жарко – он уже давно скинул рубашку. И он зол. Последние три часа он вымещает свою злость на этом несчастном дереве. Я сбегала только затем, чтобы принести нам воды.
– Иди в фургон, к матери, – рявкает он, прежде чем пнуть ствол в порыве бессильной ярости.
Я вздрагиваю от внезапности этой вспышки. – Пап…
Он бросает на меня взгляд, полный огня. Обычно мой папа – это сама доброта и мягкость. Но сегодня, из-за маминого поведения, его лицо застыло в суровой, незнакомой маске. Мне нужно, чтобы она исчезла.
Я подбегаю к нему и обнимаю за талию, вжимаясь в его мокрый от пота бок. Сначала он напрягается, застывает, но потом, кажется, его тело смягчается под моим прикосновением. Сквозь ткань футболки я чувствую, как его пальцы бессознательно запутываются в моём хвосте. Его губы касаются макушки – беззвучное обещание, что всё будет хорошо.
Я верю ему.
От него пахнет солёным потом и тяжёлой работой под майским солнцем. Я вдыхаю этот запах, пытаясь запечатлеть его в памяти. Немногое в этом мире способно успокоить меня так, как он.
Прижав ухо к его груди, я слышу громкий, уверенный стук его сердца. Мне нравится слушать этот ритм. В детстве я сочиняла под него песенки.
– Всё будет хорошо, – обещаю я, сжимая его крепче.
Он тяжело, с надрывом вздыхает. – Обещаешь, Пип?
– Обещание на мизинчике.
***
Мама проспала весь день на заднем сиденье. Обычно это ранит меня, но сегодня – нет. Сегодня мы находим наш новый дом. Мы с папой – настоящие исследователи.
Я украдкой смотрю на него. На носу красуются солнцезащитные очки-авиаторы, плечи расслаблены. На губах играет лёгкая, почти неуловимая улыбка. Он взволнован не меньше моего. На его подбородке и щеках пробивается щетина, придавая лицу суровый, диковатый вид. Перед отъездом из Сан-Франциско он в шутку говорил, что отрастит бороду. Я не могу сдержать улыбку, представляя обычно безукоризненно выбритого отца с такой же жёсткой щетиной, как у мистера Боббитта, нашего старого учителя химии.
– Чему улыбаешься? – спрашивает он, на секунду отрывая взгляд от дороги.
Я пожимаю плечами и закидываю босые ноги на торпедо. – Просто думаю о том, как мы наконец доберёмся до места. Не могу дождаться.
Он протягивает руку и сжимает мою ладонь. Это короткое, сильное прикосновение моментально успокаивает меня, прежде чем он снова возвращает руку на руль. Дорога, кажется, подходит к концу, и папа ведёт машину медленнее, осторожнее. И вот мы выезжаем из-под смыкающегося полога деревьев на небольшую поляну на самом краю чего-то высокого.
Дорога просто обрывается.
– Папа! – вырывается у меня крик, и я указываю пальцем вперёд, сквозь лобовое стекло. – Мы на месте!
Он нетерпелив не меньше моего. Мы выскакиваем из машины почти одновременно.
Папа первым подбегает к краю обрыва. Я осторожно подхожу сзади. Край уходит вниз на добрых двести футов. Внизу, в зелёном хаосе деревьев, бурлит и пенится река.
– Это невероятно, – выдыхаю я, прижимая руку к груди. – Фотографии не передавали и десятой доли.
Он притягивает меня к себе в объятия. – Мы здесь, Пип. Наконец-то. В его голосе звучит та самая надежда – хрупкая, но живая. Надежда на то, что всё вернётся на круги своя. Что мы снова станем семьёй.
Он целует меня в макушку, прежде чем отпустить. Я подхожу к самому краю. – Как нам спуститься вниз? Я хочу туда!
– Пока не знаю, но утром займёмся разведкой, – обещает он.
Мне не нужно его мизинца, чтобы знать – он сдержит слово.
– Я собираюсь поставить фургон параллельно этому участку, – говорит он, указывая на край поляны. – Так мы сможем укрыться от северного ветра, если решим развести костёр. Что скажешь, Дэв? Хот-доги и зефир? Возможно, в последний раз, пока не навестим бабушку с дедушкой.
Мой желудок предательски урчит. – Да!
Я помогаю папе направлять, пока он с виртуозным упрямством паркует фургон. Это требует терпения и маневров; в какой-то момент он громко ругается, когда одно из колёс застревает, но в итоге всё получается как надо.
Пока папа возится снаружи, я бегу внутрь, чтобы поделиться новостями с мамой. Нахожу её сидящей у бокового окна их комнаты, из которого открывается тот самый вид на ущелье. Ни улыбки. Ни волнения. Ничего.
– Мама…
Она отмахивается, даже не оборачиваясь. – Девон, у меня адская мигрень. Иди помоги отцу.
Слёзы боли и отвержения наполняют мои глаза. Я киваю, покорная, и ухожу помогать папе.
***
Мы жарим сосиски на открытом огне, а потом наслаждаемся зефиром. Мама остаётся в спальне.
– Холодно, – говорю я, засовывая руки в глубокие карманы толстовки. – Лето почти наступило. Почему так холодно?
Папа усмехается и делает большой глоток пива. – А ещё утром ты жаловалась, что жарко. Так чего же ты хочешь, Пип?
Я показываю ему язык, но протягиваю ноги поближе к огню.
– Иди сюда, – он хлопает себя по колену, как делал, когда я была совсем маленькой.
С глупой, счастливой улыбкой я пользуюсь приглашением и усаживаюсь к нему на колени. У него тепло и безопасно. Он сильный, как скала. Он обнимает меня, и я прижимаюсь ухом к его груди. Знакомый ритм его сердца заглушает все звуки леса. Он гладит меня по волосам, а потом снова целует в макушку.
Должно быть, я заснула, потому что просыпаюсь от того, что он заносит меня внутрь. Огонь давно погас. Он укладывает меня на диван-кровать и накрывает моим любимым одеялом. Проводит пальцами по моей щеке, потом встаёт и гасит свет в фургоне. Несмотря на сонливость, я прислушиваюсь к каждому звуку.
Шорох раздвижной перегородки, когда он её закрывает.
Металлический звяк его ремня.
Невнятное бормотание голосов.
А потом – хриплое, тяжёлое кряхтение.
Меня бросает в жар, когда фургон начинает подрагивать уже вторую ночь подряд. Мама, кажется, на этот раз участвует – я слышу её приглушённые стоны. Неловкое, тёплое чувство разливается у меня внизу живота. Я сбрасываю одеяло и стягиваю джинсы.
Ворчание. Шёпот. Ещё ворчание.
Снова приглушённые голоса. Это папин голос. Он звучит сердито.
Резкий звук, похожий на шлепок.
И фургон начинает трястись по-настоящему.
Она осыпает его отборной бранью.
Он что-то рычит ей в ответ, неразборчиво и низко.
Затем доносится звук, похожий на влажные поцелуи.
Они целуются.
Меня охватывает внезапная, обжигающая волна ревности, и я тут же ужасаюсь самой себе. Меня просто бесит, что она весь день игнорирует нас, а теперь получает его безраздельное внимание и ласку. Она не заслуживает этого после того, как с ним обращается.
Ещё один громкий стон.
Стыд накрывает меня с головой, когда мои пальцы сами находят дорогу между бёдер. Я трогала себя и раньше, но у меня никогда хорошо не получалось. Я знаю лишь, что одно конкретное место приносит странное, смутное облегчение. Сейчас я тру его жадно, отчаянно, жаждая того всплеска, который иногда приходил сам. Добиться его было трудно, а порой и вовсе невозможно.
В ушах начинает звенеть, заглушая их звуки, пока я яростно, почти зло трогаю себя. Я больше не смотрю на их перегородку, а отдаюсь электрическим волнам, пробегающим по моему телу. Мне жарко, я вся покрываюсь испариной. Я быстро срываю с себя толстовку и продолжаю, растирая нежную кожу до жжения. Сдавленный стон вырывается из моих губ в тот самый миг, когда волна удовольствия накрывает меня с головой, унося прочь от этой реальности, от этого фургона, от всего. Я громко выдыхаю и открываю глаза.
Свет.
Свет льётся из приоткрытой двери ванной в коридор.
В дверном проёме стоит папа – в одних джинсах, с голым торсом, и смотрит прямо на меня. Его взгляд – свинцовый, невыносимый. Наши глаза встречаются, и он качает головой – неодобрительно, резко – прежде чем резко шагнуть внутрь и захлопнуть дверь.
Слёзы тут же подступают к глазам. Стыд, холодный и тошнотворный, гасит жар только что пережитого. Как я ему это объясню? Он был так зол. Я начинаю плакать и натягиваю на себя одеяло, хотя кожа ещё горит влажным огнем.
Когда папа наконец выходит, я притворяюсь спящей. Чувствую, как он несколько долгих мгновений смотрит на меня в темноте, прежде чем уйти за перегородку.
Прости, пап.
***
Я просыпаюсь от резкого, незнакомого звука.
Я что-то услышала.
Страх сжимает сердце ледяной рукой. Я вскакиваю с кровати и спешу в родительскую спальню.
Папа тихо похрапывает, мама, кажется, тоже спит. По детской привычке я забираюсь между ними. Обнимаю маму за талию и зарываюсь лицом в её волосы. Она во сне рассеянно похлопывает меня по руке. От этого крошечного, бессознательного проявления нежности у меня замирает сердце. Я только начинаю расслабляться, как папа поворачивается и обнимает меня сзади, притягивая к себе. Я отодвигаюсь от мамы и ищу защиты у него. Папа – сила и надёжность. Его рука обвивает меня, губы касаются волос. Это придаёт уверенности.
Ничто не тронет меня, пока он прикрывает мне спину.
Он всё ещё тяжело дышит во сне, и это дыхание заглушает то, что я теперь понимаю – раскаты грома. Фургон вздрагивает от порывов ветра. Вскоре начинается дождь, барабанящий по крыше. Я дрожу. Начинаю ёрзать, пытаясь забраться под их одеяло. В конце концов мне удаётся проскользнуть под общий слой ткани. Тёплая папина грудь прижимается к моей спине через тонкую ткань моей футболки, согревая озябшее тело.
Мне удаётся задремать, но я снова просыпаюсь – на улице разыгралась настоящая буря. Каждые несколько секунд вспышки молнии озаряют тьму, а ветер воет, угрожая сорвать крышу. Но я отвлекаюсь, когда папа крепче прижимает меня к себе.
Как будто даже во сне он знает, что мне нужно утешение.
Я прижимаюсь к нему в ответ, и что-то твёрдое, упругое упирается мне в поясницу.
Он продолжает храпеть, но его пенис – через ткань боксёров – твёрдо прижался к моей ягодице.
Всё моё тело замирает. Буря за стенами – ничто по сравнению с ураганом, который сейчас бушует у меня в груди. Я никогда не видела и не чувствовала пенис вживую. Тот, что сейчас упирается в меня, пугает своими размерами, своей неоспоримой реальностью. Я пытаюсь отодвинуться, но он громко, почти угрожающе храпит, как будто вот-вот проснётся. Его ладонь скользит у меня под рубашкой.
Кожа к коже.
Волна жара пронзает меня с такой скоростью, что я не успеваю её осознать.
Я знаю, у него случился бы полный нервный срыв, если бы он проснулся и застал нас вот так.
И всё же я не могу заставить себя отодвинуться.
Его прикосновения успокаивают меня, как ничто другое на свете.
Когда его ладонь скользит вверх и обхватывает мою маленькую грудь, у меня окончательно перехватывает дыхание.
Я хочу, чтобы он прикасался ко мне везде.
От этой мысли – внезапной, запретной, всепоглощающей – у меня вырывается тихий, смущённый стон.
Его большой палец проводит по моему соску. Он мгновенно твердеет, а я вздрагиваю. Меня никогда не трогал парень. А теперь я здесь, на «второй базе» со своим собственным отцом.
Моя кожа пылает.
Мне нужно отодвинуться.
Мне точно, совершенно точно не стоит слегка пошевелить бёдрами, потеревшись о него.
Но меня завораживает сама мысль, что у мужчины может быть эрекция даже во сне.
– Сабрина… – бормочет он сквозь сон. Он застрял в мире грёз и думает, что я – она.
Я не бужу его. Не поправляю.
Я прикусываю губу до боли и позволяю себе утонуть в его нежных, собственнических прикосновениях. Его бёдра начинают медленно, ритмично двигаться. Его рука покидает мою грудь, и я почти готова протестующе надуться, но в этот момент плоть мою пронзает огонь – его ладонь скользит по моему подтянутому животу вниз, к линии трусиков.
Они промокли насквозь. И меня ужасает, насколько я возбуждена от этого.
В тот момент, когда его пальцы касаются через мокрую ткань того самого чувствительного места, я вздрагиваю всем телом в его объятиях.
Это взрыв. Ощущения, в тысячу раз более мощные, чем молнии снаружи. В тысячу раз приятнее, чем когда я трогаю себя. Моё тело извивается, само подаётся навстречу его пальцам, отчаянно, слепо жаждая большего. Чего именно – я не знаю. Я просто хочу больше.
Его дыхание меняется, становится более осознанным. Я понимаю – он проснулся.
У меня был шанс уйти. Но теперь уже поздно. Он взбесится, как только осознает происходящее.
И всё же я не могу разорвать эти чары.
Он целует меня в шею и шепчет имя моей матери, пока его пальцы скользят под резинку моих трусиков.
– Такая мокрая, Сабрина, – хрипло шепчет он, касаясь моей обнажённой кожи.
Мои глаза закатываются, когда он начинает водить пальцем между моими влажными, незнакомыми ему складками, пытаясь найти вход туда, куда не прикасалась даже я сама. Глубоко в животе разгорается пожар. Когда он входит в меня одним пальцем, возникает жгучая, почти невыносимая боль. Я всхлипываю, и слёзы катятся по вискам, но я не хочу, чтобы он останавливался.
Всё его тело внезапно замирает, становясь каменным и неподвижным. Он медленно вынимает палец. Я чувствую, как он проводит им по мне, а затем… касается лица моей матери.
– Чёрт! – рычит он в темноте. Голос хриплый, полный ужаса. – Блядь!
Мама шевелится на своей половине кровати, но я не могу этого сделать. Я парализована страхом от его реакции. Я пытаюсь притвориться спящей.
– Девон… – Его голос срывается, и я клянусь, сейчас он снова заплачет. Так же, как в те первые, самые страшные дни после смерти Дрю.
Из меня вырывается всхлип. Я переворачиваюсь и прижимаюсь к нему, ища утешения, защиты от его же собственного ужаса. Я утыкаюсь лицом в его горячую, потную грудь, наслаждаясь тем, как его кожа прижимается к моему оголённому животу – рубашка задралась. От этой новой, ещё более интимной близости во мне снова разгорается тот самый огонь, и его эрекция – твёрдая, неумолимая – снова упирается в меня.
– Чёрт побери! – он рычит и резко отталкивает меня.
Он выскакивает из постели и начинает натягивать одежду в темноте. Я не могу перестать плакать. Я не понимаю, почему он так зол. Хотя понимаю. Глубоко внутри я понимаю всё. Он только что трогал свою дочь в темноте. Но это была не его вина. Он думал, что это мама.
Больная – это я. Потому что я позволила этому случиться. Потому что мне понравилось.
– Папа…
– Нет, блядь! – рявкает он, окончательно будя маму. – Мне нужно… Мне нужно уйти...
Он с силой отодвигает перегородку и выходит. Через мгновение с кухни доносятся звуки – он хлопает дверцами, что-то роняет.
Я прижимаюсь к маме, и слёзы текут рекой.
– Всё в порядке, милая? – её голос мягкий, сонный, почти искренний. Таким я помню его из прошлой жизни, до того как мы потеряли Дрю.
– Мама… – всхлипываю я.
Кажется, фургон движется. Папа куда-то нас везёт?
Треск. Глухой удар. Металлический скрежет.
Мир переворачивается с ног на голову. Кажется, мой желудок отрывается от тела, когда меня швыряет с кровати, и я с размаху бьюсь головой о потолок.
Что происходит?!
Глава 3
Рид
Чёрт. Чёрт. Чёрт. Блядь!
Я не трогал свою дочь. Не трогал. Не мог. Этого не могло случиться.
В груди поднимается истерика, грозящая разорвать рёбра изнутри. Я давлюсь ею. Горячие, яростные слёзы застилают глаза. Я только что разрушил всё в мгновение ока. Потому что подумал, что это она… Сабрина. Я должен был понять. Должен был почувствовать разницу в каждом вздохе, в каждом движении. Моя проклятая жена никогда не отвечала на мои прикосновения с такой… податливой жаждой.
К горлу подступает жёлчная, кислая волна. Значит, моей дочери это понравилось. Она откликнулась.
Рычание вырывается из моей глотки, превращаясь в поток бессильной, яростной брани. Я, наверное, только что навсегда исковеркал её психику одним слепым, тупым движением во сне.
Я начинаю хлопать дверцами шкафчиков в поисках чего-нибудь крепкого. Мне нужно оцепенение. Мне нужно, чтобы мир расплылся, чтобы я мог придумать, как это исправить.
Я. Исправлю. Это.
Я должен. Это моя малышка. Моя Пип.
За стенами фургона бушует шторм, и он под стать урагану в моей голове. Всё гремит и скрипит. Моя дочь рыдает в соседней комнате – каждый её всхлип отдаётся во мне острой, режущей болью.
Не бойся, Пип. Я всё исправлю. Просто дай мне остыть. Дайте мне, блядь, остыть и придумать, как жить с этим.
Глухой, скрежещущий стон земли – вот единственное предупреждение перед тем, как мир проваливается у меня под ногами. Я оказываюсь в свободном падении. Плечо с размаху бьётся о потолок, прежде чем меня швыряет через всю комнату, как тряпичную куклу.
Хруст.
Разлом.
Раздирающий металл визг.
Пронзительный, испуганный лай Бадди.
Слишком много ужасных звуков, сливающихся в оглушительную какофонию, в которой я не могу ничего понять.
Тупые удары.
Поп. Поп. Поп.
Моя голова бьётся обо всё подряд, и в ней мелькает лишь одна обжигающе ясная мысль: «Спасибо, Боже, что Девон и её мать в спальне. Они вместе. Они в безопасности».
Это последнее, что я успеваю подумать, прежде чем мир гаснет.
Тьма.
Тьма.
И ощущение падения.
Кажется, я лечу прямиком в ад.
После того, что произошло, я его заслуживаю.
Но они… они, чёрт возьми, нет.
***
Крики.
Громкие, пронзительные, разрывающие тишину вопли.
Девон.
Она с Дрю на заднем дворе. По тому, как она кричит – не плачет, а именно кричит, будто пытаясь разбудить мёртвых, – я понимаю, что что-то ужасное. Я срываюсь с места, снося на бегу несколько рамок со стены, и мчусь вниз. Босые ноги шлёпают по холодному мрамору. Я на ходу впихиваю их в ботинки, не застёгивая, и вылетаю через створчатую дверь на задний двор. К опушке леса, где мы с Дрю когда-то построили домик на дереве.
Что, если она сломала руку?
Или, Боже упаси, шею?
От бега и страха в горле поднимается тошнота.
Первое желание – найти виноватого. Обвинить Сабрину. Я был погружён в бумаги, а она… она, наверное, дремлет. Да поможет мне Бог, если с Девон что-то случится…
Я нахожу её стоящей на поляне. Светлые волосы растрёпаны, лицо заплакано до ярко-красного пятна. Я бросаюсь к ней, заключаю в объятия, а потом начинаю осматривать с ног до головы, ища сломанные кости, кровь. Опускаюсь на колени, беру её маленькое личико в ладони.
– Где болит, Пип? Где ты ушиблась?
Она всхлипывает, сморщивается и, не говоря ни слова, показывает пальцем на домик на дереве.
Сердце замирает, превращаясь в ледышку.
– Это Дрю?
Она кивает, и по её щекам снова текут слёзы.
– Оставайся здесь, – приказываю я и лезу по скрипучей лестнице.
Снизу доносится только её безутешный плач.
Этот звук… он такой душераздирающий, что, кажется, навсегда врежется в память. Будет преследовать до самого гроба.
***
В висках пульсирует адская боль.
Крики.
Они не прекращаются, только усиливают головную боль, но именно они вытаскивают меня из тёмного оцепенения. Я рассеянно потираю лоб над правой бровью. Кожа там рассечена. Горячая, липкая кровь стекает по лицу, заливая глаз. Я прижимаю ладонь к ране, пытаясь сообразить, что произошло.
Я всё ещё в фургоне.
Но всё вокруг искорёжено, смято, перевёрнуто с ног на голову.
Фургон лежит на боку, а я нахожусь где-то между шкафами и плитой, вдоль стены.
– Девон, – хриплю я. – Сабрина.
Мой голос тонет в завывании ветра и рёве ливня, который до сих пор бьёт по останкам нашего дома на колёсах. Я стону, пытаясь подняться. Кажется, ничего не сломано. Просто голова раскалывается на части.
– Папа!
Этот крик – резкий, испуганный, живой – окончательно выдёргивает меня из шока. Он напоминает мне о том дне на поляне. И, как тогда, инстинкт заставляет меня броситься на поиски.
Её истеричные рыдания доносятся из спальни. Оттуда, где я оставил её… после всего.
Где ты засунул в неё палец…
Я стискиваю зубы, выгоняя эту мысль. Сейчас есть дела поважнее. Безопасность. Выживание.
Пробраться в дальнюю часть фургона, где её плач не утихает, – задача не из лёгких. Дом на колёсах разорван, как консервная банка. Дождь хлещет прямо в огромную дыру на пути к спальне. Я с трудом поднимаю смятую перегородку и протискиваюсь внутрь.
Сверкает молния. На миг вспышка озаряет разруху, и я вижу её.
То, что я вижу, вышибает из лёгких весь воздух.
В одно окно влетело дерево – длинная, остроконечная сосна – и вылетело через другое. Как зубочистка, проткнувшая сосиску. Ноги моей дочери свисают из верхнего, теперь разбитого окна. Тонкая, но прочная ветка того самого дерева пронзила её бок. Каждое её движение, каждый вздрагивающий всхлип заставляет ветку глубже вонзаться в плоть.
– Девон! – кричу я, преодолевая шум бури. – Не двигайся!
– Папа!
Она не слушает. Отчаянные инстинкты заставляют её дёргать ногами. Я подползаю, отпускаю лоб и хватаю её за ноги, стараясь обездвижить. Её тело бьёт мелкая дрожь, смесь шока и боли. Я целую её икру, кожу, а затем пытаюсь оценить рану.
– Слушай меня, Девон. Мне нужно, чтобы ты успокоилась. Я вытащу тебя отсюда.
Мой взгляд скользит по разрушенной комнате. Сабрины нигде нет.
В желудке всё сжимается в ледяной ком.
– Детка, ты видела маму? Скажи, что ты видела.
– В-всё залито дождём, – кричит она сквозь слёзы. – Я ничего не вижу! В меня сейчас ударит молния!
Стиснув зубы, я приподнимаю её за бёдра. Она заходится пронзительным криком от боли.
– Попробуй подняться выше! – командую я. – Мне нужно вытащить эту ветку!
Я помогаю ей поставить ногу мне на плечо. Она быстро соображает, что от неё требуется, и упирается, отталкиваясь вверх. Каждый её вопль отзывается во мне острой болью, но моя сильная девочка делает это – соскальзывает с ветки. Как только она освобождается, я хватаю торчащий конец и с силой ломаю его. Затем медленно, осторожно опускаю её обратно внутрь, прижимая к себе. Едва коснувшись пола, она вжимается в меня, её рыдания теперь стали глухими, беззвучными спазмами.
– Дэв, мне нужно остановить кровь. Дай посмотреть.
Мой голос хрипит от напряжения. Мы откидываемся на матрас, который теперь стоит вертикально, потому что фургон лежит на боку. Силы покидают меня. Кровь течёт из моей раны, смешиваясь с дождём и кровью с её бока, делая наши тела скользкими.
– Я… я устала, папочка.
У неё бешено стучат зубы. Шок.
Я резко открываю глаза. Я тоже устал, оглушён, но лежать здесь нельзя.
Сабрины нет. У нас раны. А я не могу пошевелиться. Вслепую нащупываю одеяло, пытаясь укутать нас.
Девон дрожит так сильно, что, кажется, вот-вот разлетится на части. Она прижимается ко мне, пытаясь вобрать всё моё тепло. Я обнимаю её, целую мокрую от дождя и слёз макушку. Мы соскальзываем на пол – я падаю на спину, а она повисает на мне, не отпуская.
Она плачет. И плачет.
Я должен быть сильным. Ради неё.
Веки наливаются свинцом, мышцы отказываются слушаться. Я не могу найти в себе сил сделать что-то ещё. Её ногти впиваются мне в грудь. Когда сознание начинает уплывать, я последним усилием поворачиваю её так, чтобы её раненый бок прижался к моему животу. Надеюсь, давления будет достаточно, чтобы остановить кровь.
– Отдохни немного, Пип.
***
– Папочка…
Голос мягкий, нежный, зовущий из прошлого. Я бегу на него, но не могу догнать.
Я открываю глаза. Меня слепит луч солнца, пробивающийся сквозь щель. Проходит ужасная, долгая секунда, прежде чем в память врывается хаос прошлой ночи. Я морщусь, и что-то тянет кожу на лбу. Я пытаюсь дотронуться, но чья-то рука ловит мою запястье и отводит в сторону.
– Не трогай. Я тебя перевязала, – тихо шепчет Девон. Потом её голос срывается: – Бадди пропал.
Я поворачиваю голову, уходя от солнца, и смотрю на дочь.
Её светлые волнистые волосы мокрые, в них запутались листья и запекшаяся кровь. Собака… наверное, раздавлена под обломками.
– Он найдётся, – лгу я. – Твой живот… – хриплю я, нащупывая рукой повязку у неё на груди.
Она вздрагивает, когда я осторожно оттягиваю ткань, чтобы осмотреть. Вся её грудь в ссадинах, будто её протащили по раскалённому гравию. Маленькие, едва сформировавшиеся груди приняли на себя удар. Но хуже всего живот. Похоже, она нашла аптечку – рана перевязана. На марле алеет кровавое пятно. Возможно, её придётся зашивать.
– Ты была снаружи? Видела маму? – Я всё ещё вглядываюсь в её раны, когда она медленно поднимается, позволяя рубашке сползти вниз.
– Папа… – её нижняя губа предательски дрожит. – Давай просто останемся здесь. Я найду тебе поесть.
Я закрываю глаза. Ужас в её взгляде – вот всё, что мне нужно было увидеть. Сабрины нет.
– Помоги мне встать, – бормочу я.
Она хватает меня за запястье, её хватка слабая, но решительная. Когда я пошатываюсь, она обнимает меня за талию, пытаясь удержать.
– Думаю, у тебя сотрясение, – шепчет она, уткнувшись лицом в мою обнажённую, окровавленную грудь.
Я сглатываю ком в горле и глажу её спутанные волосы.
– Со мной всё будет. Нам нужно понять, что произошло.
Она поднимает голову. Слёзы снова наполняют её глаза, делая голубые озёра бездонными и печальными.
– Скала обрушилась. Вчера ночью её просто смыло из-под нас. Должно быть, из-за дождя и веса фургона.
Чувство вины, острое и ядовитое, впивается в душу.
– Это моя вина. Я поставил нас здесь.
Она яростно качает головой.
– Нет.
Я стискиваю челюсти и коротко киваю, не споря. Она отпускает меня и неуклюже выбирается из комнаты, спускаясь по наклонному корпусу фургона. Я иду за ней. Голова раскалывается. Она босиком, только в окровавленной футболке и трусиках. Я в джинсах, без рубашки и обуви. Мы – воплощение катастрофы. Нужно найти одежду. Но сначала – Сабрину.
Окно рядом со столом теперь – зияющая дыра. Девон, словно делала это уже не раз, хватается за край, использует скамейку как опору и высовывается наружу. Её ноги болтаются в воздухе. Я хватаю её за бёдра и проталкиваю вперёд.
Металл корпуса стонет под её весом, когда она пробирается по нему снаружи. Моя голова гудит, но я вылезаю следом – мне легче, я выше и сильнее. И в тот момент, когда я выбираюсь из этого железного гроба, у меня перехватывает дыхание.
Мы упали.
Трейлер. Всё наше имущество.
По крайней мере, на двести футов вниз по склону утёса. Деревья на нашем пути сломаны, как спички. Лишь одно пронзило фургон. Наши вещи, инструменты, припасы разбросаны по деревьям и земле, как игрушки разгневанного ребёнка. Я смотрю налево, и тошнота подкатывает к горлу при виде того, что плывёт по реке…
– Где она? – спрашиваю я, голос чуждый, плоский.
Девон молча указывает куда-то за деревья, сама не глядя в ту сторону.
И как только я вижу Сабрину, я жалею, что посмотрел.
Она висит вниз головой на дереве, нога неестественно зацепилась за ветку. Её рука – о, Боже, правая рука – оторвана от плеча и болтается на лоскуте плоти и мышц, раскачиваясь на ветру. Другая нога вывернута под невозможным углом. Глаза открыты, стеклянные и невидящие. Язык вывалился изо рта.