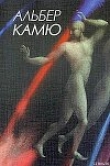Текст книги "Тень ислама"
Автор книги: Изабелла Эберхард
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Это было в конце осени, или, вернее, уже зимою 1900 г. С несколькими пастухами племени ребайя я кочевала в одном из пустыннейших районов, к югу от Тайбет-Геблия, по дороге из Элуэда в Уаргла.
У нас было довольно многочисленное стадо коз и несколько верблюдов, худых и истощенных, – жалких остатков Ин-Салахской экспедиции, на долгое время обезверблюдившей Сахару.
Нас было восьмеро, считая в том числе моего слугу Али и меня. Мы помещались в большой и низкой палатке из козьей шерсти, которую разбили в небольшой долине между дюнами. После первых ноябрьских дождей начала появляться странная сахарская растительность. Мы проводили время в охоте за бесчисленными зайцами или в мечтательном созерцании покрытого барашковыми облаками горизонта.
Спокойствие и однообразие этого существования на открытом воздухе вызывали во мне нечто вроде интеллектуального и морального сна, весьма приятного и благотворно действовавшего на мою душу.
Мои товарищи были люди простые, но не грубые; они с уважением относились к моей молчаливости. Впрочем, и сами они были людьми малоразговорчивыми. Дни проходили мирно и спокойно, без происшествий и случайностей.
Но в одну ночь, когда мы спали в палатке, завернувшись в наши бурнусы, с юга подул сильный ветер, перешедший скоро в бурю, гнавшую перед собою тучи песка.
Хитрое стадо с блеянием столпилось у палатки и прижалось к ней так близко, что мы слышали дыхание коз. Некоторые из них успели забраться даже в палатку и водворились в ней с свойственным этому роду животных смешным упрямством.
Ночь была холодная, и мне против воли пришлось принять к себе маленького козленка, который настойчиво пролез под бурнус и улегся на моей груди, отвечая на все мои попытки изгнать его ударами своего упрямого лба.
Уставшие от долгого брожения в течение дня, мы скоро заснули, несмотря на жалобный вой ветра в лабиринте дюн и на шуршание песка, мелким доведем падавшего на палатку.
Внезапно мы снова разбужены были, не сознавая в первый момент, что именно случилось, но задыхаясь под какою-то большою тяжестью. Оказалось, что сильным порывом ветер опрокинул палатку и похоронил нас под ее развалинами. Нужно было на животе выползать не на свет Божий, а в темную ночь, где под чернильным небом буря неистовствовала с ужасающею силою.
Не было возможности ни поставить палатку в темноте, ни зажечь наш маленький фонарь. Могло быть около трех часов утра, и в ожидании рассвета мы предпочли лечь на открытом воздухе, а для этого Али должен был с большим трудом добыть несколько покрывал и бурнусов. Кроме того, нужно было спасти наказанных-таки за свою дерзость коз, сильно стонавших и бившихся под палаткою.
Задыхаясь под моим бурнусом, на который песок продолжал падать мелким дождем, и прислушиваясь к пугливому ржанию и топоту моей бедной лошади, привязанной к колу и бодаемой беспокойными козами, я не могла уже уснуть.
Ветер, наконец, утих почти совершенно. Али разложил большой костер из хвороста, и мы уселись вокруг огня, оцепенелые и утомленные. Один Али сохранил свое обычно веселое расположение духа и подшучивал над нашими погребальными лицами.
Начинавшийся день обещал быть ясным и спокойным. Усеянная бесконечным количеством новых серых холмиков пустыня казалась застывшим после ночной бури морем.
Мне пришла мысль проскакать галопом по равнине, простиравшейся за поясом дюн, ограждавших нашу долину.
Али остался устраивать палатку и приводить в порядок наше маленькое хозяйство, засыпанное песком и разбросанное в течение ночи. Он советовал мне, однако, не удаляться на большое расстояние от кочевки.
Но не тут-то было! Едва только очутилась я на равнине и отдала поводья моему верному «Суфу», славное животное, нервированное бурною ночью, рванулось вперед, как стрела.
Долго неслась я с головокружительною быстротою, опьяняемая пространством и великолепием зарождающегося дня.
С большим трудом переведя, наконец, моего коня на шаг, я повернулась в седле и увидела, что заскакала слишком далеко…
Не находя нужным торопиться возвращением на кочевку, я вздумала проехаться по холмам, замыкающим собою долину. Направившись к западу, я очутилась в лабиринте дюн, подымавшихся все выше и выше.
Среди них были долины, очень похожие на нашу, и на этих ровных местах я, чтобы не терять времени, пускала «Суфа» рысью.
Мало-помалу небо снова начало покрываться облаками, хотя ветер не усиливался. Если бы не ночная бур я, которая высушила и переместила верхний слой песка, такое слабое движение воздуха не могло бы вызвать никаких изменений на поверхности почвы. Но последняя приведена была в состояние мельчайшей пыли, продолжавшей сама собою стекать с обрывистых дюн. Я заметила, что мои следы исчезают весьма быстро.
После часа езды я начала удивляться тому, что не вижу кочевки. Было уже довольно поздно, жара становилась тяжелою. Однако, ведь я же действительно ехала к западу?..
Наконец, я остановилась, поняв, что направилась не по тому пути и, вероятно, миновала нашу долину.
Меня начало брать сильное смущение. Куда же мне следовало направиться теперь? Переехала ли я дорогу или не доехала до нее, т. е. нахожусь ли я к северу или к югу от кочевки? Рискуя заблудиться окончательно, я решила взять северное направление, которое, во всяком случае, было наименее опасным.
Но, проехав час в эту сторону и не видя пред собою ничего утешительного, я повернула опять к югу.
Было уже три часа пополудни, и мое неприятное приключение уже не забавляло меня больше. В капюшоне бурнуса у меня был всего лишь один арабский хлебец и бутылка холодного кофе. Я начала спрашивать себя, что будет со мною, если я не найду дороги до наступления ночи.
Оставив «Суфа» в одной долине, я вскарабкалась на самую высокую дюну. Вокруг себя я видела только серые волны холмов и не могла понять, каким образом ухитрилась я в такое короткое время заблудиться до такой степени.
Не желая, наконец, продолжать бесцельное брожение и опасаясь быть захваченною ночью в таком бесплодном месте, где моя лошадь, уже страдавшая от жажды, могла бы не найти и травы, – я принялась искать удобную для ночлега долину.
Завтра с зарею, думала я, отправлюсь к северу и найду дорогу на Тайбет…
Я нашла небольшую продолговатую и глубокую долину с довольно густою и удивительно зеленою растительностью. Освободив «Суфа» от сбруи и пустив его на траву, я отправилась исследовать мой «остров Робинзона».
Почти посредине долины я нашла небольшое пространство, на котором виднелась еще не смешавшаяся с песком кучка золы и валялись кости зайца. Очевидно, здесь ночевали охотники. Может быть, они вернутся снова?
Эти охотники Сахары – люди грубые и первобытные, проводящие жизнь под открытым небом, там, где придется. Некоторые из них оставляют свои семьи далеко в оазисах, другие представляют собою настоящих детей песков, скитающихся вместе с женами и детьми. Их жизнь так же проста и несложна, как жизнь газелей пустыни.
Среди охотников есть немало людей, бежавших от правосудия. Но в этих местах, еще довольно близких к городам и селениям, такие «раскольники», как их зовут на чиновничьем языке, довольно редки, и мне хотелось поскорее увидеть тех охотников, следы которых я нашла, для того, чтобы поскорее выйти из моего смешного положения. В каком страхе за меня должны были быть мои товарищи, в особенности мой верный Али!
Радостное ржание вывело меня из этих размышлений: моя лошадь, приблизясь к очень густой и очень зеленой чаще и просунув голову в ветви, обнюхивала что-то необычайное.
…Среди кустарников находился один из многочисленных в Сахаре «хасси», т. е. узких и глубоких колодцев, довольно часто встречающихся в стороне от всех дорог и известных только проводникам. Почти роскошная зелень долины объяснялась присутствием этой воды на небольшой глубине.
Я принялась черпать ее бутылкою, привязанною к поясу.
Вдруг сейчас же за своею спиною я услышала чей-то голос:
– Эй ты, что ты там делаешь?
Я повернулась. Передо мною стояли три сильно загорелых, почти черных человека, одетых в лохмотья, с легким багажом в полотняных мешках и с кремневыми ружьями.
– Я хочу пить.
– Ты заблудился?
– Я кочую недалеко отсюда с ребайскими пастухами.
– Ты мусульманин?
– Милостью Божией, да!
Тот, который обратился ко мне с этими словами, был почти старик. Он протянул руку и прикоснулся к моим четкам.
– Ты принадлежишь к братству Сиди-Абд-эль-Кадер-Джилани… В таком случае, мы братья… Мы также Кадрийя.
– Слава Всевышнему! – сказала я.
Я испытала большую радость, встретив в этих кочевниках моих собратьев: между членами одного и того же братства взаимная помощь является обязательною. Действительно, они также носили четки Кадрийя.
– Погоди, у нас есть веревка и ведро, мы напоим твою лошадь, и ты переночуешь с нами; завтра утром мы проводим тебя к твоей кочевке. Ты сильно уклонился к югу, миновав кочевки ребайя, и теперь, идя напрямик, тебе нужно по крайней мере три часа.
Самый молодой из них захохотал:
– Ты, я вижу, шустрый!
– А вы из какого племени?
– Я и мой брат – мы Уледы Сейха из Тайбет-Геблия, а этот – Ахмед-Бу-Джема – шаамбец из окрестностей Бере-софа. У его отца был огород в Элуэде, в колонии Шаамба, в селении Элакбаб. Он убежал, бедняга…
– Почему?
– Из-за податей. Он отправился в Ин-Салах с нашим шейхом, Сиди-Магометом-Таиебом, а когда возвратился, то нашел жену умершею от тифа, а огород пустующим; и вот он убежал в пустыню – из-за податей.
Молодой сейхиец, говоривший мне это, привлекал мое внимание примитивностью своего лица и мрачным блеском своих карих глаз. Он мог бы служить типом кочевнической расы, смешанной с азиатскими арабами.
Ахмед-Бу-Джема, худой и гибкий, казался вторым по старшинству возраста, по крайней мере, насколько можно было судить об этом по верхней части лица, так как нижняя была закрыта черною вуалью, как у туарегов.
Самый же старший из троих имел красивую голову старого дорожного грабителя – орлиную и мрачную.
У Ахмеда-Бу-Джема висели на поясе два великолепных зайца. Он отошел немного от колодца и, произнеся «Бисмиллах!», принялся потрошить свою дичь.
Солнце уже скрылось за дюнами, и последние розовые лучи дня скользили по земле между остроконечными листьями джигды. В вечернем освещении кусты «дринна» казались золотистыми.
Старший из двух братьев, Селем, отойдя от нашей группы, разложил на песке свой рваный бурнус и начал молиться, сделавшись сразу важным и точно выросшим.
– У вас есть какая-нибудь семья? – спросила я младшего, Хаму-Срира, в то время как мы рыли в песке ямку, чтобы зажарить зайцев.
– Жена и дети Селема находятся в Тайбете, а моя жена в садах Ремирма в Уэде-Рир, у своей тетки.
– Ты не скучаешь о своей семье?
– Судьба зависит от Бога. Скоро я пойду искать свою жену. Когда дети Селема вырастут, они будут такими же охотниками, как их отец.
– Ин-ша-Алла!
– Аминь!
Все восхищало и привлекало меня в свободной и беззаботной жизни этих детей величественной и мрачной Сахары.
Свернув зайцев в комок, мы положили их вместе с мехом на дно ямки и покрыли тонким слоем песка. Затем разложили над ними большой костер из хвороста.
– Значит, ты взял свою жену из племени руара?
Хама-Срир сделал неопределенный жест.
– А, это целая история! Ты знаешь, что мы, арабы пустыни, никогда не женимся вне нашего племени.
Роман Хама-Срира задел мое любопытство. Расскажет ли он мне его? Эта история была, вероятно, проста, но она несомненно носила на себе отпечаток той своеобразной грусти, которою проникнута вся жизнь пустыни.
После ужина Селем и Бу-Джема скоро заснули. Хама-Срир, полулежа возле меня, достал свой «матуй» (маленький мешочек из красного сафьяна для кифа) и трубочку. Я также носила в кармане моей гандуры эти знаки отличия настоящего суфийца. Мы начали курить.
– Хама, расскажи мне твою историю!
– Зачем? Почему интересуешься ты тем, что делают люди, которых ты не знаешь?
– Я избираю тебя своим братом во имя Абд-эл-Кадера-Джилани.
– Я также.
И он пожал мне руку.
– Как тебя зовут?
– Махмуд-Бен-Абдалла-Саади.
– Слушай. Махмуд, если бы я не избрал тебя своим братом, если бы мы не были братьями уже по нашему шейху и четкам, и если бы я не видел, что ты талеб, – я бы очень рассердился на тебя за твой вопрос, ибо у нас не в обычае, как ты знаешь сам, говорить о своей семье. Но слушай, и ты увидишь, что «мектуб» всемогуществен и отвратить его не может никто.
Два года перед этим Хама-Срир охотился с Селемом в окрестностях борджа[18]18
Бордж – крепость, форт (араб.) (Прим. ред.).
[Закрыть] Стаа-эль-Хамрайя в районе больших солончаков, по дороге из Бискры в Элуэд.
Это было летом. В одно утро Хама-Срир был ужален рогатою змеею «лефаа» и прибежал в бордж, где старая теща сторожа, уроженка Уэд-Рира, умела исцелять все болезни – по крайней мере, те, которые Бог позволяет лечить.
Сторож вместе с своим сыном отправился в Элуэд, и в бордже осталась старуха Мансура и ее уже немолодая невестка Теббера. К вечеру Хама-Срир не испытывал уже почти никакой боли и оставил бордж, чтобы идти к брату, оставшемуся у солончака Бу-Джелуд. Но у него была маленькая лихорадка, и ему хотелось пить. Он спустился к колодцу, находившемуся у подножия красноватого и голого холма Стаа-эль-Хамрайя.
Там встретил он старшую из дочерей сторожка, Саадию, которой было тринадцать лет и которая, женщина уже, была красива в своих синих лохмотьях. Саадия улыбнулась кочевнику и пристально посмотрела на него своими карими глазами.
– Через две недели, – сказал он, – я приду просить тебя у твоего отца.
Она покачала головою.
– Он не согласится никогда. Ты слишком беден, ты – охотник.
– Все равно я возьму тебя, если Бог решил так. Ступай теперь в бордж и храни себя для Хамы-Срира, – для того, кому ты обещана Богом.
– Аминь!
Медленно, согнувшись под тяжелою «гербой», т. е. козьим бурдюком, полным воды, она пошла по крутой дорожке в свой уединенный бордж.
Хама-Срир не сказал ничего Селему о своей встрече, но сделался задумчивым.
«Никогда не следует говорить о своих любовных делах, это приносит несчастье», – решил он.
Каждый вечер, когда заходящее солнце заливало своим кровавым светом пустыню, Саадия выходила к фонтану, ожидая «того, кто обещан был ей Богом».
Однажды в жаркий полдень, когда она вышла в пустыню, чтобы загнать в тень стадо коз, ей показалось, что она падает в обморок: она увидела человека, одетого в длинную гандуру, белый бурнус и вооруженного длинной кремневкой, который подымался в бордж.
Поспешно удалилась она в угол двора, где было их скромное жилище, и, дрожа всем телом, начала потихоньку молиться Джилани, «эмиру святых», так как сама она принадлежала к числу его духовных детей.
Человек вошел во двор и обратился к старому сторожу:
– Абдалла-Бен-Хадж-Саад, – сказал он, – мой отец был охотник, он принадлежал к племени торфа Улед-Сейха, города Тайбег-Геблия. Я человек незапятнанный и моя совесть чиста, – это знает Бог. Я пришел просить у тебя позволения войти в твой дом, я пришел просить у тебя твою дочь.
Старик нахмурил брови:
– Где ты ее видел?
– Я не видел ее. Старые женщины Элуэда говорили мне о ней… Такова судьба.
– Клянусь всеми истинами священного Корана, до тех пор, пока я жив, никогда моя дочь не будет женою бродяги!
Долгим взглядом посмотрел Хама-Срир на старика.
– Не клянись тем, чего не знаешь… Не играй с соколом; он летает в облаках и смотрит в лицо солнцу. Утри слезы с твоих глаз, которые Бог закроет в скором времени!
– Я поклялся!
– Шуф Рабби! (Бог увидит), – сказал Хама-Срир и, повернувшись, пошел со двора.
Негодующий Си-Абдалла вошел в дом и, обратясь к Саадии и Амборке, сказал:
– Которая из вас двух, суки, показала свое лицо бродяге?
Обе молодые девушки молчали.
– Си-Абдалла, – ответила за них старуха, – бродяга был здесь месяц назад. Он приходил лечиться от укуса «лефаа». Моя дочь Теббера, уже немолодая, помогала мне. Бродяга не видел ни одной из дочерей Тебберы. Мы обе стары, время ходжеба (замкнутости для арабских женщин) прошло для нас. Мы лечили бродягу согласно велениям Божиим.
– Смотри за ними, и чтобы они не выходили больше!
Опечаленная в душе, Саадия продолжала, однако, ждать Хаму-Срира, ибо она знала, что если Господь действительно предназначил ее ему, то никто в мире не может помешать их союзу.
Она любила Хаму-Срира и не теряла надежд.
Прошло около месяца с той поры, как охотник приходил в бордж просить Саадию. В течение этого времени он не показывался, но он был недалеко, и каждую ночь злые собаки Стаа-эль-Хамрайя лаяли с ожесточением…
Однажды, когда Теббера была больна, Си-Абдалла приказал Саадии сходить за водою к фонтану и возвращаться скорее.
Было уже поздно, и молодая девушка, спускаясь с холма, дрожала всем телом.
Полная луна подымалась над пустыней. В глубоком молчании ночи собаки борджа задыхались и хрипели от яростного лая.
В то время, как Саадия, опустив руки в бассейн, наполняла водою свою гербу, она заметила тень человека, мелькнувшую между фиговыми деревьями сада.
– Саадия!
– Хвала Всевышнему!
Хама-Срир схватил ее и потащил за собою.
– Я боюсь! Я боюсь!..
Ее дрожащая рука очутилась в сильной руке кочевника, и они бегом пустились через солончак Бу-Джелуд по направлению к Уэду-Рир…
Пробежав некоторое расстояние, Хама-Срир подхватил молодую девушку на руки и пустился далее. Он знал, что этот час принадлежал ему и что вся жизнь была против него.
Он бежал до тех пор, пока лай собак не затих в отдалении.
Удивленный и рассерженный сильным опозданием дочери, старик вышел из борджа и окликнул ее несколько раз. Но его голос потерялся в тяжелом молчании ночи. Почуяв недоброе, он поспешно вернулся в избу, схватил ружье и пошел к фонтану.
Черпальный бак плавал на поверхности воды, а пустая герба лежала, распростертая на земле.
– Сука, она убежала с бродягою! Будьте же вы прокляты!
Раздраженный, но без слез и жалоб вернулся он к себе.
– Тот, кто произведет на свет дочь, должен задушить ее сейчас после рождения, чтобы в один день позор не ворвался в дверь его дома, – сказал он, входя в избу, – жена, у тебя осталась только одна дочь… хотя много и этой!.. Ты не умела смотреть за дочерьми.
Обе старухи и Амборка начали плакать и причитать, точно по покойнику, но Си-Абдалла приказал им замолчать.
Долго бежали влюбленные по бесплодной пустыне.
– Остановись, – молила Саадия, – мое сердце сильно, но мои ноги разбиты… Мой отец стар, но он горд. Он не будет преследовать нас.
Они присели на соленую землю, и Хама-Срир задумался. Он сдержал слово, Саадия была его, но на сколько времени?
Он решил, наконец, чтобы избегнуть преследований, отвести ее в Тайбет и там перед собранием своего племени объявить ее своею женою еще до религиозного обряда.
Усталая и испуганная, Саадия лежала возле своего господина. Он наклонился над нею и поцелуем успокоил ее еще сильно бившееся сердце…
Четыре ночи шли они, питаясь финиками и «меллою» Хамы-Срира. Днем же, из опасения «дейра» и спаисов Элуэ-да, они прятались в дюнах.
Наконец, на рассвете пятого дня, они увидели вдалеке серые стены и низкие купола Тайбет-Геблия.
Введя Саадию в дом своих родителей, Хама-Срир сказал им:
– Вот моя жена. Берегите и любите ее так же, как вашу дочь Фатьму-Зору.
Когда они объявлены были мужем и женою перед собранием племени, Хама-Срир сказал Саадии:
– Для того, чтобы Бог благословил наш брак, нужно, чтобы твой отец простил нас. Иначе он, твоя мать и твоя бабушка, которая лечила меня, могут умереть с сердцем, закрытым для нас. Я отведу тебя в твою землю, к твоей тетке Ум-эль-Ааз. Что же касается меня, то я знаю, что мне нужно делать.
На другой день с зарею он посадил закрытую вуалью Саадию на отцовского мула, и они отправились в Уэд-Рир.
Они пошли через Мезгарин-Кедина, чтобы обойти Тугурут, и скоро достигли влажных садов Ремирмы.
Ум-эль-Ааз была стара и слыла хорошею бабкой и знахаркой. Ее уважали, а более суеверные побаивались.
Одетая в темно-красные одежды, высокая и худая, она лицом походила на мумию, украшенную золотыми драгоценностями. Ее черные глаза сохранили еще свой блеск. Молча и с суровым видом выслушав Хаму-Срира, она приказала ему написать от ее имени письмо к отцу Саадии.
– Си-Абдалла простит, – сказала она с какою-то странною уверенностью. – К тому же, он уж недолговечен.
Хама-Срир отправился в оазис и нашел талеба, который за несколько копеек написал письмо:
«Слава Богу Единому! Привет и мир да будут над избранником Божиим!
Досточтимому, тому, который следует по прямому пути и делает добро, согласно велениям Всевышнего, благочестивейшему и вернейшему, отцу и другу, Си-Абдалле-бель-Хаджу-Сааду, в бордж Стаа-эль-Хамрайя, в Суфе. Привет тебе и милосердие Божие и Его благословение навсегда! Затем, знай, что твоя дочь Саадия жива и здорова, – да будет слава Всевышнему! – и что она не имеет других желаний, кроме того, чтобы быть с тобою, и с ее матерью, и ее бабушкой, и ее сестрою, и ее братом Си-Мохамедом в час близкий и благословенный. Знай еще, что я пишу тебе эти строки по приказу твоей свояченицы, госпожи Ум-эль-Ааз-бент-Мануб-Рири, в доме которой живет твоя дочь. Узнай, что я взял в жены, по закону Божьему, твою дочь Саадию и прошу у тебя благословения, ибо все, что случается, случается по воле Бога. После этого остается лишь скорый и благоприятный ответ и пожелания всякого добра. Привет тебе и твоей семье от того, кто пишет это письмо, твоего сына и бедного слуги Божьего Хама-Срир-бен-Абдерахман-Шерифа».
Когда письмо дошло до старого Абдаллы, он, будучи неграмотным, отправился в Гемар, в зауйю Сиди-Абд-эль-Кадера. Один из мокадемов прочел ему письмо и, видя его колебания, сказал:
– Тот, кто находится у источника, не уходит не напившись. Ты находишься у дома нашего шейха и не знаешь, что тебе делать: поди и попроси у него совета.
Абдалла посоветовался с шейхом, который сказал ему:
– Ты уже стар. Не сегодня-завтра Господь может призвать тебя к Себе, ибо никто не знает часа своей судьбы. Лучше оставить в наследство цветущий сад, нежели груду развалин.
И вот, повинуясь потомку Джилани и его представителю на земле, Си-Абдалла снова пошел к мокадему и попросил его сочинить ему письмо к похитителю:
«И мы извещаем тебя настоящим, что мы простили нашу дочь Саадию – да ниспошлет ей Господь разум! – и что мы призываем благословение Божие на нее навсегда. Аминь. И привет да будет тебе от бедного и слабого слуги Господня Абдалла-бель-Хаджа».
Письмо было отправлено.
Молчаливая, суровая Ум-эль-Ааз очень мало говорила с Саадией. Она или приготовляла разного рода питье или гадала по лопаткам убитых во время весенних празднеств баранов, кофейной гуще, маленьким камешкам и внутренностям только что зарезанных животных.
– Абдалла прощает, – сказала она Хаме-Сриру, погадав на камешках, – но сам он проживет недолго… час его близок.
Саадия начала задумываться и однажды говорит своему мужу:
– Отведи меня в Суф. Я должна видеть моего отца, прежде чем он умрет.
– Подожди его ответа.
Ответ прибыл. Тогда Хама-Срир снова посадил Саадию на отцовского мула, и они отправились на северо-восток, через высохший Шотт-Меруан.
В бордже Стаа-эль-Хамрайя устроен был большой праздник. Родители не сказали Саадии ничего, потому что час объяснений уже прошел.
На пятый день Хама-Срир отвез свою жену в Ремирму.
В следующем месяце старая Ум-эль-Ааз получила письмо, извещавшее ее о том, что ее шурин милосердием Божиим взят в селения праведных.
– Каждый месяц я отправляюсь в Ремирму, к моей жене, – сказал мне Хама-Срир, заканчивая свой рассказ. – Бог не дал нам детей.
Затем, помолчав несколько секунд, он тихо и с боязнью добавил:
– Может быть, потому, что мы начали в хараме (беззаконии). Ум-эль-Ааз говорит это… Она знает…
Было уже очень поздно. Осенние созвездия склонились уже над горизонтом, торжественная тишина и безмолвие царили над пустыней. Завернувшись в наши бурнусы возле потухавшего костра, мы мечтали – он, кочевник, пылкая душа которого делилась между торжествующею страстью и боязнью темных сил, грезил своей Саадией, а я, одинокая, убаюканная его идиллией, думала о всемогущей любви, господствующей над душами сквозь тайну судеб.