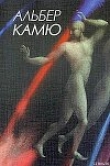Текст книги "Тень ислама"
Автор книги: Изабелла Эберхард
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Я хотела провести лето в Кенадзе с тем, чтобы с началом осени продолжать мой путь в более отдаленные и менее известные страны. Меня очень тянуло в Тафилала. Готовившийся к отходу по этому направлению караван берберов охотно брался доставить меня на место за пятьсот франков французскими деньгами. Один из вожаков каравана, Эль-Хасани, находился сейчас в зауйе.
Я без боязни отправилась бы в путь с этими людьми, но злостная лихорадка все еще сидит во мне, и на такое путешествие у меня не хватит сил. Поэтому, после долгих колебаний, я решаюсь вернуться в Аин-Сэфру.
В последний раз просыпаюсь я на террасе, разбуженная хриплым пением муэддина, разносящимся в предрассветной тиши.
Свежо. Все спит.
Итак, я еду сегодня в Бехар, оттуда в Бени-Униф и далее в Аин-Сэфру. Полечившись в тамошнем госпитале и набравшись сил, я надеюсь с первой же оказией отправиться к группе оазисов Туат. Хотя эти места известны, но о них до сих пор не написано ничего ценного.
Я рассчитываю провести там зиму и вернуться назад с работами, которые составят вторую книгу моих трудов по Сахаре, дополнив собою впечатления моих поездок по Южному Орану и мои мечтания в зауйе.
Таким образом, и я, подобно многим другим, могла бы сделаться исследователем и питать надежду, что каждый, кто после меня посетит эти страны, легко узнает все то, чего я касаюсь моим пером. Некоторые из моих товарищей, офицеров или солдат, добавят к написанному тысячи мелких подробностей из наших повседневных разговоров. Более простые и равнодушные к книгам мохацни, с которыми я провела немало времени, может быть, совсем не услышат о моем имени; но когда я снова встречусь с ними, мы по-прежнему будем беззаботно болтать в каком-нибудь арабском кафе, а сопровождая меня в поездках, они опять будут петь мне свои заунывные песни…
Усталость и разочарование придут потом – в свое время.
Вот вся моя несложная будущность. По крайней мере, мне хочется видеть ее такою в это чудное утро, при розовом свете уже загорающейся на Востоке зари.
Спавшие на одной террасе со мною Эль-Хасани и негр Сахэль также собираются в дорогу. Отправляясь к своему каравану в Бу-Дниб, они все еще хотят соблазнить меня ехать с ними.
– Подумай хорошенько, Сиди-Махмуд, – говорит мне Бербер, – пока еще есть время. Мы целый месяц будем идти по землям, где ты будешь видеть новых людей, новую жизнь и будешь иметь возможность поучиться. Мы подымемся вверх по Гиру, дойдем до Тафилала, а оттуда до Тисинта… Ты будешь принят везде, как брат.
Искушение слишком большое… Но ехать, чувствуя себя такою слабою, не испросив разрешения и не предупредив никого, весьма рискованно. Не будет ли подобная поездка, предпринятая из любознательности и с научною целью, истолкована дурно? С болью в сердце останавливаю я окончательно свой выбор на пути в Бехар.
– Нет, Эль-Хасани, не могу я сейчас ехать с тобою. Потом, когда я буду в силах, я предупрежу тебя.
– Да поможет тебе Бог выполнить твои предположения без труда!
Еще два негра, которые пойдут с Эль-Хасани пешком, неподвижно сидят у стены, положив ружья на колени. Они плохо понимают по-арабски, так как родились и выросли на фецской дороге, среди аит-исшорушен, самого замкнутого из берберских племен.
Один из них все время угрюмо молчит и смотрит на меня исподлобья. В его глазах я, очевидно, не более, как окаянный, проклятый м’цани. Эль-Хасани отдает короткий приказ, и негры начинают седлать лошадей.
Мои товарищи по зауйе пальцем показывают мне направление Гира, по которому они проедут. Но сначала они хотят проводить меня на некоторое расстояние и уже потом вернуться на свою дорогу.
– Мы пройдем с тобою, – говорит мне Эль-Хасани, – до кладбищенской тропы.
Мы трогаемся. Мое горло сжалось от волнений до такой степени, что я еле могу отвечать на обращенные ко мне слова. Однако, нужно до конца показать, что у меня сердце мужчины.
На маленьких, острых плитках, врезавшихся в землю и обозначающих собою края могил, мы, по принятому при расставании друзей обычаю, сходим с лошадей и троекратно целуемся.
– Иди с миром и Божией помощью!
– Да встретится тебе на пути счастье!
Сев снова на лошадей, мы разъезжаемся в разные стороны: Эль-Хасани к неисследованному западу, куда мне так хотелось бы ехать вместе с ним, а я назад, в уже пройденные и не представляющие собою ничего нового места.
С вершины холма я еще долго следила за людьми из Бу-Дниба. Постепенно удаляясь, они скрылись, наконец, в лабиринте дюн.
По мере того, как моя лошадь тихими шагами подвигается вперед, я грустным взглядом обвожу знакомые мне долины. Какою поразительною красотою пленяли они в первый раз – и какими уродливыми, скучными и неинтересными кажутся они мне теперь, когда я еду назад, может быть, на долгое время изгоняемая из моей любимой пустыни.
Злобно сжав ногами бока моей белой кобылицы, я бешеным галопом пускаюсь вперед, и ветер пустыни осушает мои влажные глаза…
Часть II
РАССКАЗЫ, НАПЕЧАТАННЫЕ ИЗАБЕЛЛОЮ ЭБЕРГАРДТ В РАЗНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ
ТАИНСТВЕННЫЙ МУЗЫКАНТЛетом 1899 г. очарованная сияющим и задумчивым старым Востоком, я в течение двух месяцев носилась за ним в своих мечтах по древним кварталам белого Туниса, полным безмолвия и тени.
Одна, с моею слугою, старою мавританкой Хадиджей, и моею черною собакой, я занимала очень большой и очень старый турецкий дом, находившийся в одном из наиболее удаленных уголков Баб-Менара, почти на вершине холма.
По запутанности своей распланировки, обилию коридоров и комнат, расположенных на разных уровнях, со стенами, облицованными старинными разноцветными изразцами и украшенными тонкими, вылепленными из гипса кружевными рисунками, убегавшими под конические потолки из крашеного и золоченого дерева, – этот дом представлял собою настоящий лабиринт.
Там, в прохладной полутьме и тиши, нарушавшейся лишь грустным пением муэддинов, дни шли за днями, полные неги и никогда не наскучивавшего однообразия.
В знойные часы послеполуденного отдыха, в моей обширной комнате с зелено-розовыми фаянсовыми стенами, Хадиджа, сидя в углу на корточках и быстро шевеля своими выцветшими губами, перебирала черные зерна своих четок. Растянувшись на полу в львиной позе и положив свою сухую тонкую морду на могучие лапы, Дедал внимательно следил за полетом изредка появлявшихся мух. А я, лежа на своей низкой кровати, предавалась своим бесконечным грезам.
Это был период отдыха, нечто вроде благодетельного привала между двумя периодами, полными приключений и почти смертельной тоски. Поэтому и впечатления, которые оставила во мне тамошняя жизнь, приятны, грустны и несколько туманны.
Позади моего жилища, отделенного от улицы арабскими домами, населенными и точно забронированными от постороннего глаза, находился маленький квартал без выхода, весь в развалинах. Стены, своды, маленькие дворы, еще не упавшие террасы – все это поросло диким виноградом, плющом и прожорливою травою. Никто, по-видимому, не беспокоился об этих домах, обитатели которых или вымерли, или уехали навсегда…
Однако, в таинственной тишине лунных ночей, в ближайшем ко мне одноэтажном доме жизнь пробуждалась каким-то странным образом.
Из одного из моих забранных решетками окон я могла видеть все, что делалось внутри небольшого дворика. Стены и две комнаты дома держались еще кое-как. Фонтан с каменным, сильно выщербленным бассейном, всегда полным неизвестно откуда притекавшей свежей воды, почти исчезал под обильной растительностью.
Это были большие кусты жасмина, осыпанные белыми цветами и перевитые гирляндами дикого винограда. Дикие розы усеивали своими лепестками белые каменные плиты. С наступлением ночи теплый аромат подымался из этого уголка тени и забвения.
И вот каждый вечер, как только луна начинала освещать верхние части развалин, я, полускрытая легкою занавесью, имела возможность наблюдать сцену, сделавшуюся, мне в скором времени знакомою, – сцену, о которой я с волнением думала в течение всего дня и которая, тем не менее оставалась для меня загадкою. Впрочем, может быть, и вся прелесть воспоминания заключалась именно в этой таинственности. Ни разу не заметив, откуда приходил этот молодой мавр, элегантно одетый в богатые шелковые одежды под белоснежным бурнусом, и каким образом проникал он на маленький дворик, – я всегда заставала его уж на месте, сидящего на камне.
Он был удивительно красив с его матово-белым цветом лица арабских горожан и с их немножко небрежным изяществом манер; но в выражении его лица читалась глубокая грусть.
Он садился всегда на одном и том же месте и, устремив глаза в голубую бесконечность ночи, начинал петь так, как певали когда-то его предки под небом Андалузии. Медленно и певуче подымался его голос и разносился в воздухе, как плач разбитого сердца.
Больше всего нравилась ему, по-видимому, эта, самая мелодичная из его песен:
«Безысходная грусть сжимает мне душу и наполняет ее тоскою. Она давит мне сердце, как могила давит тело и убивает его. От этой грусти нет лекарств, ее не исцелит даже смерть, потому что и позднее, когда моя душа пробудится для другой жизни, – моя грусть снова возродится в ней».
Что эта была за неисцелимая грусть, на которую жаловался странный певец? – об этом он не говорил никогда.
Но его голос был чист и приятен, и, слушая его, я в первый раз поняла всю чарующую прелесть старинной арабской музыки, приводившей собою в восхищение много других печальных душ раньше моей.
Иногда молодой мавр приносил с собою маленькую свирель, на которой играют пастухи и верблюжатники-бедуины. Этот легкий тростник, казалось, сохранил в себе серебристое журчание возрастивших его ручьев.
До поздних часов, в то время, как мусульманский Тунис спал, опьяняемый ароматами, незнакомец изливал таким образом в пении и вздохах свою тоскующую душу. Затем бесшумно, точно привидение, он подымался с камня и исчезал в тени двух маленьких комнат, соединявшихся, вероятно, с другими развалинами.
Бывшая раба, Хадиджа в течение сорока лет жила в самых знаменитых семьях Туниса и на своих коленях воспитала не одно поколение молодых людей. Однажды я подозвала ее и показала ей ночного музыканта. Суеверная старуха покачала головою:
– Я не знаю его… хотя хорошо знаю всю молодежь, принадлежащую к лучшим семьям города.
Потом, понизив голос, она с дрожью добавила:
– Бог его знает, живой ли это человек. Может быть, это просто тень одного из прежних обитателей, а его музыка – какое-нибудь колдовство?
Зная характер этой расы, где каждый вопрос, касающийся частной жизни и тех или иных поступков лица, считается оскорбительным, – я не посмела обратиться к незнакомцу из опасения навсегда спугнуть его из его убежища.
Однако я напрасно ждала его в один вечер. Он не пришел больше. Но звук его голоса и нежные переливы его свирели до сих пор еще вспоминаются мне в лунные ночи. И порою какая-то странная грусть охватывает меня при мысли, что никогда не узнаю я, кто был этот таинственный музыкант и что влекло его к этим развалинам.
БЛЕД-ЭЛЬ-АТТАР(Город ароматов)
В одном из древнейших кварталов Туниса, рядом с мечетью Джемаа-Зитуна, где все дышит спокойною стариною и непоколебимою верою, есть небольшой тенистый пассаж – Сук-эль-Аттарин. При самом входе в него вас охватывает особенная атмосфера, сотканная из нежнейших красок и тончайших запахов.
Под высоким сводчатым навесом, опирающимся на кривые красно-зеленые колонны, бегут, перекрещиваясь между собою, тропинки, протоптанные ножками приезжающих сюда таинственных покупательниц.
Направо и налево, точно шкапы, открываются маленькие лавочки, внутри которых сидят владельцы их, мавры, с бледно-восковыми лицами, с смягченным полутьмою выражением глаз и истомленными благоуханием чувствами.
Среди торговцев Сука был один задумчивый и полный природного благородства молодой человек, Си-Шедли-Бен-Эсахели, сын набожного и ученого юрисконсульта Джемаа-Зитуна.
Си-Шедли любил одеваться с тою скромною элегантностью, с какою некоторые из тунисцев, унаследовавших традиции далекого прошлого, умеют еще носить шелка блеклого цвета, изумительных по красоте оттенков.
Небрежно облокотясь на драгоценный перламутровый ларец, Си-Шедли проводил обыкновенно время за чтением старинных арабских книг – романов и стихов. Перед ним на небольшом столике стояла чашка кофе, приготовленного на розовой воде, трубка и в полупрозрачной, из настоящего стамбульского фарфора, синей вазе большой цветок душистой магнолии.
– О чем думаешь ты, Си-Шедли? – часто спрашивали его друзья, от которых он держался несколько в стороне, не питая к ним, однако, никаких неприязненных чувств.
– Я думаю о том, что все человеческие радости – дым, и что нет ничего на свете, что могло бы развлечь меня хоть сколько-нибудь.
Однажды перед воротами Сука остановилась карета, и из нее вышли закрытые вуалью женщины. Войдя под навес, они раскачивающеюся походкой направились вдоль пассажа и случайно остановились у лавки Си-Шедли, привлекшей их внимание тем, что она походила на большой сундук из резного дерева.
Молодой человек сейчас же заметил, что это были иностранки, потому что у них под «ферошией» надет был вызывающе сбитый набок остроконечный чепец, какой носят аликирки из Константина.
Самая юная из них села на скамейку и защебетала, точно опустившаяся на ветку птичка.
Отобрав своими длинными и тонкими, слегка выкрашенными лавзонией пальцами несколько граненых флаконов, ящичков из слоновой кости и ароматных лепешек, поторговавшись о цене, она встала, сдвинула вместе свои покупки и равнодушным тоном сказала хозяину лавки:
– Ты пришлешь мне все это в дом Леллы-Ханэни, в квартал Хальфауин… Впрочем, не посылай с посыльным, так как это слишком ценные вещи… а принеси их сам.
С этими словами пристальный взгляд больших черных глаз мавританки уперся в глаза Си-Шедли. Почувствовав приятную тревогу, Си-Шедли не успел вовремя повернуть голову и с смутившей его самого улыбкой спросил:
– Когда?
– Сегодня вечером, после заката солнца.
Хотя в определенный час молитвы Си-Шедли аккуратно явился в мечеть, но он вышел из нее недовольным самим собою: он молился торопливо, и его душа встревожена была другими заботами.
Красный отблеск вечерней зари освещал еще верхушки городских зданий со стороны Баб-эль-Горжани, когда более подвижный, чем обыкновенно, Си-Шедли пробирался через спокойную и медлительную толпу запоздавших в своих лавках тунисцев, направляясь в Хальфауин.
Он вошел под своды тупика и остановился перед маленькою, невероятно низкою дверью. Тяжелый железный молот странно прозвучал внутри старого, начавшего уже обрастать травою дома.
– Ашкун? (Кто там?) – послышался дрожащий старческий голос.
– Халльи! (Открой!).
Никогда араб даже перед собственным домом не произнесет свое имя на улице.
Дверь полуоткрылась, и в ней показалась старуха, одетая в синюю «футу», носимую бедными тунисками.
– Ты из Сук-эль-Аттарина?
Она впустила его на большой двор с тремя апельсинными деревьями. На галерее второго этажа одна дверь была задернута шелковою занавескою, красною, как цветок граната.
– Вон туда! – показала старуха.
По полутемной, выстланной синими фаянсовыми плитками, лестнице Си-Шедли взошел наверх и с бившимся от волнения сердцем приподнял зашелестевшую и точно пламя охватившую его руку занавеску. Там, на густом джеридском ковре, среди вышитых матовым золотом подушек полулежала женщина, одетая в рубашечку из белого газа с широкими, шитыми золотом рукавами, в шитом золотом же зеленом бархатном кафтане и в нескольких шелковых гандурах. В своей полулежачей позе она сохранила еще на голове остроконечную «шешию», украшенную бахромчатым фуляром, пронизанным двумя золотыми цепочками, соединявшимися под подбородком, обрамляя таким образом ее матовое лицо и освещая его.
– Добро пожаловать… Садись.
Она была красива тою неуловимою красотою, в которой есть что-то личное и лучистое – какая-то скрытая, едва обнаруживающая себя теплота.
Он сел возле нее. Старуха-мавританка принесла на маленьком, медном с резьбою подносе обязательный кофе.
– Ну что, женщины твоего Туниса так же хороши, как Манубия? – спросила она, смеясь своим беззубым ртом.
– Манубия?.. Это роза, спрятанная в листве.
– Ты также очень красив.
Разглядывая своего гостя, Манубия играла веером, чуть-чуть позвякивая своими браслетами. Такой же звон дорогих колец на ее ногах слышался при каждом движении ее тела, с кошачьей грацией нежившегося на мягком ковре. У нее не было развязности куртизанок Туниса, и Си-Шедли не мог найти тона, который он легко нашел бы с другою женщиною. Нечто вроде робости чувствовалось обоими ими.
– Послушай, – сказала она, – я отправилась покупать духи, чтобы доставить себе маленькое развлечение… но, когда я увидела тебя, – мое сердце захотело тебя, как драгоценнейшую из эссенций… Почему же ты не говоришь мне ничего? Зачем хочешь ты, чтобы я стыдилась тебя?
– Но кто ты и откуда явилась ты, чтобы нарушить мой грустный покой?
– Бон был нашим городом, но выросла я в Константине, у этой старухи – моей тетки, сестры моей матери. Я приехала сюда, потому что мне было скучно.
Все еще робея, Си-Шедли положил руки на колени Ма-нубии и, лаская ее глазами, проговорил:
– Нет, ты прилетела сюда, как голубка к дикому голубю.
Золотые цепочки вздрогнули на щеках мавританки.
Старуха исчезла, и они остались вдвоем в молчании опьяняющей ночи…
С этого дня Си-Шедли начал все чаще и чаще забывать свою лавочку, не открывал больше старых книг и жил точно во сне.
Си-Шедли было двадцать пять лет. Он успел уже насладиться радостями жизни до пресыщения, но до сих пор не подозревал еще, что любовь может быть так сильна, что она в состоянии изменить вид вселенной.
Каждый вечер, когда он отправлялся в Хальфауин, ликующая природа устраивала ему настоящий праздник. Каждое утро, когда, усталый и счастливый своею усталостью, шел он на купанье, ему казалось, что сквозь разорвавшуюся завесу небо сыплет на землю лепестки жасмина… Даже перед молитвою он чувствовал в воздухе аромат своей любви.
Он не открыл своей тайны никому и, видя его таким бледным, многие думали, что у него началась чахотка.
Но умный и суровый Си-Мустафа-Эсахели посмотрел на дело иначе. Заметив перемену в своем сыне, он приказал последить за ним, и скоро тайное убежище Манубии сделалось известным старику…
В один вечер, когда Си-Шедли постучался в дверь, старая туниска встретила его плачем:
– Нет ее… Забрали твою голубку!
– Что говоришь ты?
– Да, Сиди. Сегодня пришли сюда люди бея… Они забрали ее и старую Тебуру, несмотря на то, что они горько рыдали и звали тебя. Их отвезли на вокзал и отправили в Алжир.
Си-Шедли молча смотрел на старуху. Он еще сомневался и не понимал.
Он вошел на белый и пустой двор, поднялся по синей фаянсовой лестнице, сорвал занавеску и увидел пустую комнату. В эту минуту точно кто-то ударил его по голове. Он покачнулся, и на его побелевшем лице вместо глаз образовались два провала.
– Клянусь Богом и Его Пророком, – я найду ее! Клянусь великим шейхом Сиди-Мустафою-Бен-Аззузом, моим господином в этом мире и будущем… я найду ее!
Осторожно и терпеливо старался он отыскать какой-нибудь след мавританки. Наконец, один из друзей сообщил ему, что Манубия вернулась в Бон, где, по слухам, ведет жизнь куртизанки.
При этом известии сердце Си-Шедли забилось скорее надеждою, чем гневом. Он пойдет к своей подруге, он возьмет ее и своими искренними слезами смоет с нее оплаченные поцелуи. Из всего этого горя и стыда они создадут еще чистую любовь. Но, пока жив отец, Си-Шедли сам не имел ничего, и бесполезны были бы его просьбы о разрешении уехать.
И вот, бросив свою лавку, он начал бродить по кладбищам и развалинам предместья. Однажды он не вернулся домой. Напрасно отец искал его повсюду; Си-Шедли отправился туда, куда повлекло его сердце.
…Теперь заплакал и старик.
Долгое время скитался Си-Шедли по старинным улочкам и мавританским кофейням белой Аннебы (Бона) в поисках за Манубией. Он спрашивал о ней и тех, которые вовсе не говорят о женщинах, он водил компанию и с теми, которые почти все свое время проводят в известных домах.
Прошел почти год со времени исчезновения мавританки. Постоянно сбиваемый противоположными указаниями, Си-Шедли прибыл, наконец, в Алжир.
Сидя однажды в кафе Баб-эл-Уэд, Си-Шедли встретил там одного из своих старых тунисских друзей, сделавшегося сержантом в стрелках. Они разговорились о прошлом.
– Манубия-бент-эль-Харуби?.. Я знал ее.
– Что сталось с нею?
– Пошли Господь покой душе ее!
Эта слова точно громом поразили Си-Шедли. Он почувствовал, как за ним захлопнулась дверь тюрьмы, из которой ему не выйти на свет Божий.
Итак, оставив родину, семью, богатство, сделавшись бродягою, он целый год искал свою подругу, все время терпя неудачу и никогда не теряя надежды… и все это лишь для того, чтобы узнать о ее смерти!
– Но когда умерла она? Где умерла она?
– В Боне, куда она вернулась около месяца назад, живя до той поры в Алжире. У нее было какое-то тайное горе; она смеялась над всем и много пила… Она умерла от грудной болезни.
– Али, не знаешь ли ты, где ее могила?
– Нет. Но другая племянница Тебуры, Хауния, покажет тебе ее… Тебура также умерла.
Медленно опускаясь за голубые зубцы угрюмого Иду, вечернее солнце заливает своим красным светом священный холм, усаженный высокими черными кипарисами и смоковницами, где под разноцветными камнями спят правоверные необъяснимым сном могилы.
Ничего печального, ничего грустного на этом кладбище, полном цветов, виноградных лоз и кустарников. Здесь царит величавая тишина, безропотность и отсутствие каких бы то ни было сомнений.
В одном углу кладбища, под тенью молодой смоковницы, есть холмик, равный длине лежащего под ним женского тела. Он обложен белыми и синими фаянсовыми плитками, а на стоящих по обеим сторонам его каменных досках высечена следующая арабская надпись:
«Манубия-бент-Ахмед из Константина.
К Богу возвращаются все существа.
Нет Бога, кроме Бога, а Магомет Пророк Его».
Иногда, в волшебный час солнечного заката, у входа в этот молчаливый некрополь можно встретить человека в синей форме стрелка. Выглядывающее из-под красной шешии исхудалое и сильно загорелое лицо его точно закаменело от тяжелой внутренней катастрофы, и едва ли кто-нибудь из прежних знакомых узнал бы в этом суровом солдате бледного и элегантного мавра из Туниса.
В молчаливом, пропитанном всевозможными ароматами Сук-эль-Аттарине, на который Джемаа-Зитуна бросает свою великую и печальную тень ислама, в маленькой лавочке, уставленной разноцветными пахучими свечками, сидит старик. Опершись своею слабою рукою на перламутровый ларец и погрузившись в неподвижную думу, он в продолжение часов и дней не трогается с места, словно статуя.
Он сидит там, прислушиваясь к биению своего опустевшего и постепенно слабеющего сердца и думает о своем сыне, который не вернется, и о тех минутах, которые все ближе и ближе подводят его к могиле.