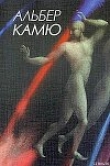Текст книги "Тень ислама"
Автор книги: Изабелла Эберхард
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Четыре часа пополудни. Сирокко утихает, наконец, переходя в слабый восточный ветерок. Становится легче дышать. С разных сторон слышится скрип и хлопанье дверей. Ксурийцы и марабу показываются на улице, покрытой слоем нанесенной ветром пыли. Серые тучи последней тянутся еще по горизонту.
В ксаре подымается какой-то странный гул и лязг, медленно приближающиеся к зауйе. Это идут суданские музыканты, колотя в свои длинные, бочонкообразные барабаны и звеня двойными медными кастаньетами, привязанными к рукам ремешками.
Впереди музыкантов плясуны, изощряющиеся в самых невероятных телодвижениях.
Мне кажется, что во всех танцах с подпрыгиваниями есть что-то негритянское, подсказываемое простым желанием размять и протрясти тело. Только арабский, или так назыв. танец живота, с его медленными, полными особого смысла движениями, есть что-то таинственное и священное, придуманное метафизическим Востоком.
За шумливыми музыкантами движется толпа рабов, поющих страшно заунывную песню, прерываемую крикливыми и однотонными припевами.
Туча детей жужжит, точно рой мух. Здесь и смешные от природы негритята с их пучками волос, приклеенными к гладко выбритым и лоснящимся черепам, одетые в грязные коротенькия рубашки, и белые арабчата, сыновья марабу, в цветных гандурах, похожие по длинным, падающим на плечи косичкам на китайчат. Все это смеется, хохочет и пляшет вокруг торжественно настроенных суданцев, смутно припоминающих, что на их далекой родине сегодняшний праздник представляет собою священный обряд.
У зауйи музыканты останавливаются, снимают свои сандалии, чтобы подойти и поцеловать одежды марабу. Затем они опять становятся полукругом и возобновляют свою музыку.
Два плясуна выступают на середину полукруга, поворачиваются лицом один к другому и начинают пляску с прыжками и приседаниями. Они неистово колотят землю ногами, гримасничают, вскидывают руки вверх, хлопая розовыми ладонями одна о другую.
Дикая негритянская кровь пробуждается в них, ударяет в голову и заставляет забыть всю сдержанность, наложенную рабством. Они снова делаются самими собою – дикими и наивными, детьми и варварами, жадными к игре и упивающимися временною свободою.
В особенности беснуется один из танцоров – и это почти старик с костлявым лицом, длинными желтыми зубами и полупомешанными глазами.
Я с живым интересом смотрю на этот балет, на эту простую обстановку, на темный фон глинобитной стены, которую заходящее солнце начинает перекрашивать в розоватый цвет.
Сделав последний прыжок, изнемогшие танцоры падают вдруг на землю. После нескольких секунд полной неподвижности, они приподымаются и с трудом садятся на корточки, обратясь лицом к Сиди-Брахиму.
Сильный звериный запах распространяется от их покрывал, пропитанных потом, обильно струящимся и по их телам, кажущимся еще более черными.
Все руки подымаются в уровень с лицом, с ладонями, раскрытыми точно книги.
Сиди-Брахим читает первую главу Корана – «Фатиха».
Затем он призывает благословение Аллаха и Сиди-М’ха-меда-Бен-Бу-Циана на чернокожих, на всех присутствующих, на жителей территории Кенадзы, на всех циания, на всех мусульман и мусульманок, как живых, так и умерших.
Наконец, с трогательным вниманием марабу читает молитву о защите и помощи во все времена и во всех местах слуге Всевышнего и Его пророка, – Си-Мохамеду-улд-Али, алжирскому путешественнику… Я кланяюсь.
В НОЧНОЙ ТИШИСумерки. Глиняные стены дома выделяют накопленную ими за день теплоту. В комнате жара духовой печи. Но на дворе, где быстро опускающаяся южная ночь взмахами своих черных крыльев навевает освежительную прохладу, дышится удивительно легко.
В истоме неги и лени лежу я, вытянувшись на спине. Мой взгляд утонул в беспредельности еще фиолетового неба, а до моего слуха доносятся последние звуки постепенно затихающего шума жизни: скрип и тяжелое буханье запираемых ворот, ржание лошадей, блеяние овец, печальный, как плач, рев маленьких африканских осликов, визгливые вскрикивания негритянок…
Ближе, во дворе, под аккомпанемент тамбурина и гитары чей-то сдавленный голос клянется в любви…
На террасах служебных домов слышится топот босых ног, шуршание расстилаемых циновок, ковров и мешков. Там тихо ссорятся, вздыхают, шепчут молитвы.
Кенадза мало-помалу погружается в сон.
Часов около одиннадцати ночи на стене одного из домов предместья появляется полоса красноватого света, и на ней, как на экране волшебного фонаря, показываются странные тени. Они то медленно переходят с места на место, то раскачиваются, то мелькают с головокружительной быстротою.
Это аисауа – братья секты иллюминатов – совершают свое ночное бдение.
В глухую полночь собираются они в свою молельню и сначала заунывно поют, подыгрывая себе на тамбуринах и визгливой рхаите. Затем подходят к жаровням и, раскачиваясь над ними, вдыхают опьяняющий аромат бензоя и мирры. С каждою минутой глаза их становятся все более и более безумными, а движения быстрыми. От раскачиваний они переходят к прыжкам, от прыжков к сумасшедшей пляске. Этим путем они ищут забвения в жизни.
Но вот исчезла и полоса красного света. Ночь, томительная южная ночь с ее ласкающею теплотою и дразнящими пряными запахами кружит мне голову. Она будит кровь и гонит ее к вискам…
На соседней террасе я слышу чей-то шепот, чье-то порывистое дыхание. Я догадываюсь…
Это после грустных азиатских песен иллюминатов, славивших блаженство небытия, начинается бессознательный гимн любви.
Вся помертвевшая от нахлынувшего на меня чувства, я, как помешанная, протягиваю в темноте руки… Но – я одна!.. одна!.. Те уста, которые опьяняли меня своими поцелуями, теперь далеко-далеко и, может быть, в эту самую минуту пьют дыхание другой… О, какая тоска! какой ужас!..
Судорожные рыдания подступают мне к горлу. Я зажимаю уши и поворачиваюсь лицом в подушку…
Через минуту я овладеваю собою. Мне становится стыдно самой себя, стыдно моей необузданной страсти. Еще мокрыми от слез глазами я снова смотрю на агатовое небо и стараюсь думать, что только там, среди этих мерцающих голубым светом звезд, есть вечное, ничем не омрачаемое счастье. Но переполнившееся кровью сердце все еще больно стучит во мне, точно желая сказать: «Что вечность, если я не могу забыть нескольких минут, так чудно прожитых и так прекрасно потерянных!..»
У СТУДЕНТОВСегодня под вечер раб Фараджи входит ко мне с видом заговорщика и весьма таинственно докладывает, что Си-Эль-Мадани, брат Си-Мохамеда-Лареджа, и некоторые из его товарищей, студентов большой мечети, просят меня к себе на чай.
Эта странная форма приглашения заставляет меня припомнить те отвратительные оргии, которые приписывает мароккским студентам Мулиера в его книге «Le Магос inconnu»[17]17
«Неведомое Маррокко» (фр.) (Прим. ред.).
[Закрыть].
Но, подумав немного, я все же соглашаюсь.
Мы идем сначала через пустые конюшни и словно вымершие дворы со старыми, доживающими свой век деревьями. Затем вступаем в лабиринт грязных и сырых коридоров, загроможденных камнями и обломками. Наконец, неожиданно для меня, выходим на чистенький дворик с белыми стенами и такого же цвета арками, ведущими в обширное здание.
Перегнувшись снаружи через белую стену дворика и точно облокотись на галерею здания, тихо покачивает своею головою финиковая пальма. Дикий виноград, вскарабкавшись по стене и дружески обняв ствол пальмы, снова падает вниз гирляндами листьев и дождем зарождающихся ягод.
Си-Эль-Мадани и его товарищи встречают меня на этом дворике и приветствуют с изысканною вежливостью.
Все эти молодые люди – сыновья марабу или оседлых жителей Кенадзы. Худенькие, тщедушные, они точно поблекли в густой тени оазиса.
Среди них резко выделяется своею фигурою Си-Абд-Эль-Джебар, кочевник из племени хамиан-мехерия. Этот сын пограничных воинов на целую голову выше своих товарищей, оседлых дегенератов. Здоровый, мускулистый, с сильно загорелым лицом и смелым взглядом, он держится с тою горделивою осанкою, которая является одним из первых условий мужской красоты.
Через резные двустворчатые двери мои хозяева вводят меня в огромный старинный зал с двумя рядами тонких колонн, украшенных прелестными кружевами арабесок, высеченных из молочного камня. Небольшие слуховые окна, открывающиеся в куполе здания, льют палевый свет на зеленый фаянс, облицовывающий стены на вышину человеческого роста.
Низенькая каменная ступенька ведет во вторую, несколько приподнятую половину зала, устланную рабатскими коврами и белыми шерстяными матрацами.
Под черными балками потолка, перевитыми выкрашенным в красный и зеленый цвет камышом, вдоль стен идет крупная надпись киноварью «эль афия эль бакия», т. е. «вечное здоровье».
В маленьких нишах, на этажерках и на больших сундуках с потемневшею позолотою лежат груды самых разнообразных предметов – арабские книги, кухонная посуда, одежды, принадлежности седловки, оружие, музыкальные инструменты и т. д. и т. д.
Я сажусь у решетчатого окна, выходящего на развалины каких-то больших и в свое время служивших кому-то жилищем зданий.
Фараджи и его брат Хадду зажигают во дворе костер из сухих пальм.
Си-Эль-Мадани, помимо моей просьбы, начинает объяснять мне причины, почему негр передал мне приглашение в столь таинственной форме.
– Ты знаешь, Си-Махмуд, что обычай и приличие требуют того, чтобы наши родители и наши старшие не знали или, по крайней мере, могли делать вид, что ничего не знают о наших развлечениях. Мы собираемся здесь, чтобы провести несколько часов, веселя наши сердца музыкою, чтением вслух произведений наших классиков и дружескою беседой. О том, что происходит здесь, не должен знать никто, кроме Бога и нас… Иначе, как бы ни были невинны наши удовольствия, нам будет страшно стыдно, и мы подвергнемся весьма серьезным упрекам. Вот почему я избрал это помещение, единственное из всех построек, унаследованных мною от моего предка Сиди-Бу-Медина, еще кое-как сохранившее свой обитаемый вид. Сюда никто не приходит для того, чтобы председательствовать на наших собраниях и преподавать нам советы.
Собрание проходит в разговорах. Для того, чтобы сильнее подчеркнуть непринужденность таких бесед, один из ученых мусульман, после наших взаимных представлений, снова взял в руки свою работу и начал подбирать шелк к белой гандуре, которую он вышивал нежными рисунками.
Между мароккскими студентами такие работы по вышиванию тканей в большом почете. Они служат доказательством вкуса, и ими не стыдно заниматься даже на виду у всех.
Эль-Мадани берет трехструнную гитару и начинает напевать старинную андалузскую песенку. Его двоюродный брат Мулей-Идрис, болезненный юноша с желтым лицом, тихонько аккомпанирует ему на тамбурине. Но на красавца Хамиана Абд-Эль-Джебара музыка нагоняет зевоту. Улегшись во всю длину на ковре, он потягивается и расправляет свои сухие мускулы наездника, которого бездействие томит.
Я, в свою очередь, начинаю думать о том, что именно представляет собою жизнь этих мусульманских студентов.
С одной стороны – долгие годы занятий схоластическими науками в голых стенах полутемной мечети и подвиги благочестия, доходящие у большинства молодежи, числящейся уже членами тайных обществ, до ежедневного экстаза; а с другой – наивная веселость и молодая страсть, толкающая их на сложные и опасные приключения. Почти монастырская жизнь их весьма сильно благоприятствует развитию извращенности, и таковая действительно существует.
Но в один прекрасный день, всецело подчиняясь родительской власти, мароккский студент женится, и тогда в его жизни наступает перемена. Вместе с мечтами и науками он кладет на полку забвения и свою кошачью мораль студенческих лет. Вступая в общество, он перенимает корректные манеры людей своего круга и надевает на свое лицо маску внушительности и бесстрастия.
Достаточно иногда нескольких месяцев, чтобы такая перемена начала проникать в самую глубь характера молодых мусульманских ученых. Сделавшись марабу или же занимаясь другими делами, они, как люди высшего сословия, начинают заседать в джемаа, решать общественные вопросы, отправляются в путешествия по мусульманским странам и т. д.
Когда же впоследствии нынешние студенты, певцы и декламаторы стихов, сами окажутся в положении отцов своих достигших учебного возраста детей, – они беспощадно будут подвергать их тем же ограничениям, на которые жалуются теперь в своих интимных беседах. А их сыновья, в свою очередь, будут сходиться для запретных развлечений, если не в этом, то в еще менее уцелевшем здании…
Время идет незаметно. Убаюкиваемая грустными звуками старинных инструментов, я смотрю на ползущие по стенам красные буквы религиозного изречения. При изменяющемся свете дня их арабески все более и более погружаются в тень. Вот так, кажется мне, и при закатывающемся солнце ислама уходит в темноту вечности и освещавшийся им мусульманский мир. Без стонов, без конвульсий, даже без содроганий расстается он с когда-то бурною жизнью. Его агония будет длиться еще долгое время, но конец ее известен.
ЧУДО ПУСТЫНИПоследние дни обитатели зауйи и ксара находились в сильном горе. Шайка арабов и берберов Аит-Хехбаша совершила набег на пастбища Кенадзы и угнала большое стадо животных. На добровольное возвращение его никто не рассчитывал. Это было бы чудом, на которое разбойники пустыни мало способны.
Но вот сегодня, сидя перед закатом солнца на террасе, я слышу вдруг пронзительный, полный недоумения и радости крик: «Харраг! Харраг!»
В ту же минуту, точно по набатному колоколу, уже собиравшиеся ко сну жители ксара, мужчины, женщины и дети, не обращая внимания на свой костюм, высыпают на улицу, всматриваются в пустыню и затем с взволнованными и радостными лицами толпами бегут к зауйе, где рабы, в свою очередь, успели уже доложить о событии совершавшему вечернюю молитву марабу.
В это время с западной стороны пустыни к зауйе все ближе и ближе подвигается облако пыли, из которого слышатся самые разнообразные голоса почуявших дом животных. Считавшийся погибшим харраг действительно возвращался.
Это чудо совершилось благодаря одному из братьев ордена Циания, Мулею-Ахмеду.
Захватив скот у Кенадзы, разбойники угнали его на запад, в район, подведомственный Мулею-Ахмеду. Последний сейчас же пригласил к себе главарей шайки и начал доказывать им, какой смертельный грех взяли они на свою душу. «Вы не только осквернили священную землю зауйи, – говорил им красноречивый Мулей-Ахмед, – но вы ограбили имущество, принадлежащее бедным, сиротам и путешественникам. Если вы хотите, чтобы Господь и Сиди-М’хамед-Бен-Бу-Циан оказали вам свою милость, немедленно возвратите ограбленное».
Разбойники поколебались некоторое время, а затем, выбрав из своей среды бербера Эль-Хасани, поручили ему отвести харраг в Кенадзу и испросить у Сиди-Брахима прощение всем участникам грабежа.
Я хочу присутствовать при сцене этого прощения и поэтому спускаюсь вниз вслед за марабу.
Черные козы наполнили уже двор. Обезумев, они толпятся, скачут друг на друга, спасаясь даже в лошадиные кормушки. Три сильно вооруженных пеших раба погоняют их.
Сам Эль-Хасани, подъехав на худой серой лошади, сошел с нее у главных ворот.
Сиди-Брахим, опираясь на плечо маленького Месауда, медленно и с трудом пробирается через толпящихся животных.
– Привет вам, сыновья мои! Да вознаградит вас Всевышний за доброе дело, которое вы только что совершили!
Взволнованные этими словами разбойники набожно целуют одежды и руки марабу, который в свою очередь обнимает и целует их…
Чудная, но точно уже виденная где-то картина!
НЕВОЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛИЯ возвращалась с прогулки к солончакам по дороге из Бу-Дниба. Моими спутниками были кочевник Маамар-улд-Каддур и один наездник из Бехара, прибывшие в Кенадзу в качестве паломников. Душная лунная ночь наполняла сон садов тяжелой истомой. Легкий шорох, как счастливый вздох побежденной женщины, слышался иногда в тишине. Это жизнь прорывалась через поры земли и растений.
Мы ехали молча, и наши лошади бесшумно ступали по мягкому песку. В одной узенькой улице, между двумя глиняными стенами, они остановились сами собою, чтобы напиться воды из сегии.
В эту минуту наездник коснулся моего плеча и показал головою в сад, где под пальмою, совсем близко друг к другу, стояли кочевник и ксурианка.
По высокому алжирскому тюрбану я сейчас же узнала Абд-эль-Джебара, одного из студентов большой мечети.
Крепко сжимая своими сильными руками маленькие и хрупкие кулачки ксурианки, он задыхающимся шепотом говорил ей: «Я брат твой… Во имя любви к Богу, будь моею!»
Она была красива и одета, как замужняя. Длинная туника из красной шерсти ясно обрисовывала формы ее упругого и чувственного тела. Небольшая головка украшена была диадемою из блестевших при лунном свете серебряных цветов. Ее лоб был так чист, что, казалось, сами звезды оплакивали ее…
Она отважно отправилась на свидание в эту тихую и полную всяких козней ночь. А теперь она дрожала и молила пощады у красивого кочевника, сына чужого племени, дикий пыл которого пугал ее…
Но мольба была бесполезна. Тяжело дыша и впившись глазами в свою жертву, разъяренный Абд-эль-Джебар обхватил вдруг трепетавшее тело ксурианки и поднял его от земли. Она вытянулась, откинула голову и хотела крикнуть. Но жадные губы номада зажали ей рот, и…
В этот момент Маамар сильно толкнул свою лошадь, которая взвилась на дыбы, и с сдавленным смехом говорит мне:
«Оставь их! Мы, арабы, умеем любить. Мы не дорожим своею жизнью ради женщин, но когда в глухую ночь мы ловим их, как охотник газель, наши руки прижимают их к нашей груди так, что после этого никакие ласки обабившихся оседлых не заставят их забыть поцелуй кочевника…»

ИСКАТЕЛИ ЗАБВЕНИЯ
В этом ксаре, где нет даже арабской кофейни и где, кроме базарной площади и земляных скамеек у стен, люди не имеют ни одного места сборища, я отыскала курильню кифа.
Она находится за еврейским кварталом в полуразрушенном доме и представляет собою длинный зал, освещаемый единственным «глазом» в середине закоптелого потолка. Черные стены зала испещрены многочисленными трещинами. На редко подметаемом земляном полу валяются гранатовые корки и другие отбросы.
В углу разостлана чистая циновка с несколькими комканными подушками. На циновке большой, ярко расписанный арабский сундук, служащий столом. На нем розовое деревце, осыпанное мелкими бледными цветками, и букет садовой травы в глиняном, украшенном геометрическими фигурами кувшине. Кроме, того медный куб, два или три чайника, корзинка из пальмовых листьев с сушеною индийскою коноплею и, наконец, на жердочке большой, привязанный за лапу коршун. Вот и вся роскошь обстановки клуба курильщиков.
Само помещение клуба не принадлежит, по-видимому, никому и служит притоном для кочевников, мароккских бродяг и вообще всякого народа с недовольным выражением лица и кому ночь нередко бывает дурным советником. Но такие гости не допускаются к участию в курении. Некоторое исключение делается лишь для посещающих клуб путешественников. Это объясняется тем, что, будучи сами путешественниками, разносящими по мусульманским странам свои больные грезы, поклонники отравляющего их мозг дыма принадлежат к высшему классу ученых и образуют строго замкнутый кружок, не принимающий к себе разночинцев.
Вот, например, какие люди сошлись в курильне в тот день, когда я посетила ее.
Хадж-Идрис, высокий и худой уроженец Филали с кротким лицом, точно освещенным внутренним светом. Не пустивший никаких корней ни в семье, ни в труде, он является одним из тех перекати-поле, которыми так богаты все мусульманские земли. Уже двадцать пять лет бродит он из города в город, то работая, то попрошайничая, смотря по обстоятельствам. Он играет на гумбри, т. е. на маленькой арабской гитаре, состоящей из двух струн, натянутых на черепаший щит, и довольно недурно поет старинные андалузские романсы.
Си-Мохамед-Бехаури, марокканец из Мекинеца, еще молодой человек с бледным лицом и ласковыми глазами. Он поэт и странствует по Марокко и южной части Алжира в поисках за народными легендами и арабскою литературою. Во время этих переходов он добывает средства к жизни тем, что сочиняет и декламирует любовные стихи.
Третий – маленький и сухой человечек, уроженец Дже-бель-Церхауна. Врач и кудесник по профессии, он много лет бродил по Судану, ходил с караванами от сенегальского берега в Тимбукту, а теперь путешествует в поисках за трудами мароккских чернокнижников.
Случай свел их в Кенадзе, а общность вкусов помогла встретиться в этом грязном притоне.
Завтра они разойдутся в разные стороны, беззаботно шагая каждый по заранее указанному судьбою пути. И это будет завтра. Сегодня же они заняты другим делом. Украсив свои тюрбаны ветками пахучей базилики, они сидят на корточках на своей циновке вдоль стены и курят свои маленькие трубочки из красной глины, наполненные индийскою коноплею и мароккским табаком, стертыми в порошок.
Хадж-Идрис играет роль хозяина. Он набивает трубки и подает их своим приятелям, тщательно вытерев каждый раз, в знак вежливости, чубук о свою щеку. Когда докуривается его собственная трубка, он осторожно вынимает из нее вместе с золою еще не догоревшие угольки и кладет эту кучку в рот для того, чтобы зажечь от нее новую трубку. Человек, по-видимому, талантливый, с умом тонким и проницательным, смягченным постоянным полупьяным состоянием, он питает свои грезы одуряющим дымом.
Куря свои трубки, искатели забвения поют, хлопая в такт ладонями. Сначала их голоса слышатся довольно громко, но затем они становятся тише, хлопанья ленивее, и, наконец, совершенно осовевшие курильщики умолкают, устремив свои полные безумного восторга взгляды на бледные цветки розы.
Это эпикурейцы, чувственники, может быть, даже мудрецы, которые в грязном логовище мароккских бродяг умеют создавать своею фантазией великолепные города с роскошными садами, где по усыпанным розами аллеям ходит невидимое нами счастье…