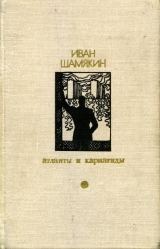
Текст книги "Торговка и поэт"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
Фашист стоял перед ней и толстым пальцем показывал на корзинку. Обрадованная, Ольга наклонилась, отвернула рушник и выхватила бутылку водки, взболтнув, показала наклейку:
– Московская!
– О, московски! – Толстый схватил бутылку, подбежал к тому, что говорил по-русски, и долго что-то весело разъяснял ему, поворачивая бутылку и повторяя то «Москау», то «Московски» – почти по-русски.
А Ольга, осмелев, подошла к забрызганному чернилами, некрашенному столу и начала выкладывать из корзинки сало, колбасу, сыр, блинчики, которые утром напекла из пшеничной муки.
Толстый, как кот, обошел вокруг стола, осмотрел принесенное, плотоядно облизнулся, но тут же сморщился и покрутил головой.
– Мало, – сказал переводчик.
Ольга полезла за пазуху, достала платочек, зубами развязала узелок и протянула два золотых червонца, царские.
У немца загорелись глаза. Схватив золото, кинулся к френчу, который висел на спинке стула, достал из кармана очки, долго и уже молча, без смеха и слов, принялся рассматривать червонцы. Потом повернулся к переводчику и крикнул что-то, как будто ругнулся:
– Мало, – снова сказал тот.
«Чтоб вас разорвало, гады вы ненасытные, бога на вас нет, мучаете людей, да еще хотите заработать на этом», – подумала Ольга и развела руками: мол, больше ничего нет.
– Мало, – повторил переводчик почти с угрозой.
Ольга поняла, как здорово они напрактиковались зарабатывать на людях. Но торговаться и она умела, знала многие, самые тонкие, секреты торгового дела. Задумалась, что еще она может предложить. Вспомнила и «обрадовалась» – подмигнула толстяку. Сдвинула платок, отцепила серьги, золотые. Такие она не носила не только теперь, при немцах, но и раньше, до войны, в праздники изредка надевала. Но на рынке она узнала немецкую жадность, их торговую хитрость и потому захватила серьги, посоветовавшись с Леной, на тот случай, если потребуют большой платы: вот, мол, последнее отдаю, с ушей снимаю.
Толстый фашист сразу спрятал серьги туда же, куда и червонцы, – в нагрудный карман, застегнул пуговицу и прижал карман подтяжкой, чтобы грудью ощущать золото. На этом успокоился – поверил, что больше ничего ценного у женщины нет. Но потребовал документ. Ольга дала паспорт.
Переводчик переписал из паспорта в книгу ее фамилию, имя, спросил имя мужа, заглянул на ту страничку, где стояли советский и немецкий штампы о прописке. Тем временем толстый взял корзину и начал складывать в нее выложенные на стол продукты.
«Не нужно им сало и блинцы, им только золото подавай», – подумала Ольга и порадовалась, что хотя бы что-то останется, продукты сейчас дороже золота, а ее уже скребнула обычная расчетливость: Слишком дорого пришлось заплатить неизвестно за кого, даже не за того человека, который так нужен Лене. Почему этот мальчик так бросился в глаза? Почему так разбередил душу? Куда она денет его? Того где-то устроила бы Лена. А этого не заберет. Зачем ей, Лене, такой доходяга, дитя безусое? Лене и ее друзьям, конечно, нужен был какой-то командир или комиссар, может, большой большевистский начальник.
Но Ольга тут же отогнала все сомнения. Лена будет недовольна? Ну и пусть. Сама наделала хлопот! Не было бы больших…
Нет, немец не вернул ей продукты. Он забрал все – и корзину, и рушник, спрятал за шкаф. Ольге даже весело сделалось от такой алчности толстого паразита. Она вдруг почувствовала, насколько она лучше их, этих пришельцев, кричавших во все горло о своем превосходстве над другими народами. Покойницу мать и ее, Ольгу, некоторые соседи, знакомые, в том числе Боровские, обвиняли в жадности. Старый Боровский когда-то сказал: «Леновичиха за копейку в церкви пукнет». Но тут Ольга подумала, что ее жадность по сравнению со скаредностью этих ненасытных ублюдков, зарабатывающих на крови и смерти, – мелочь, безвредная человеческая слабость, и ей сделалось особенно хорошо на душе. Зачем теперь думать о том, что будет завтра? Важно, что она сделала доброе сегодня – не пожалела ни продуктов, ни золота и ничего не побоялась, чтобы спасти человека. Действительно, такой поступок как бы очистил душу, возвысил над той грязью, в которой она ежедневно копошилась, к которой привыкла в борьбе за сытую жизнь.
Теперь она разве только одного боялась – что, забрав выкуп, охранники не отдадут пленного, от фашистов можно всего ожидать.
Отдали, Через полчаса переводчик вывел парня из того же барака и пихнул в спину так, что бедняга упал в грязь, ей под ноги. Разозлился, что ли, что жертва вырывается на волю? Или мало досталось ему платы за проданного?
Ольга опустилась перед пленным на колени, вытерла ему лицо уголком платка и поцеловала в горячие губы. Парень и вправду был болен, его палил жар. Он уткнулся лицом в ее плечо и заплакал, глухо, судорожно.
– Не нужно, родненький мой, не нужно, – зашептала ему Ольга. – Быстрей пойдем отсюда! Быстрей!
Ему самому хотелось скорее уйти из этого жуткого лагеря, где – он это знал, чувствовал – смерть ожидала его, обессиленного, больного, в одну из ближайших морозных ночей, может, даже просто в следующую. Поэтому он вскочил с земли с проворством здорового человека. Но осторожная и хитрая Ольга не дала ему побежать. Она взяла его под руку и повела по грязной, разбитой грузовиками дороге. Однако, отойдя так, что бараки и колючая проволока скрылись за пригорком, не выдержали оба – свернули с дороги, по которой могли идти… не люди, фашисты, и побежали по вязкому полю, по низине, не понимая, что рисковали гораздо больше, – по ним мог ударить пулемет с вышки. Но в тот миг рассудительная Ольга забыла обо всем, в том числе и о том, что все равно придется выходить на дорогу, идти через посты и на городских улицах встретить их, немцев, несчетное количество. Но тех, в городе, она так не боялась. На рынке, например, она вообще не боялась немцев, больше обирали свои – полицаи, с немцами она научилась договариваться.
Сил у парня хватило ненадолго, он споткнулся. Когда Ольга бросилась помочь, попросил виновато, как-то очень интеллигентно:
– Простите. Позвольте посидеть, – и так глянул своими огромными голубыми глазами, что у Ольги сердце сжалось. «Как он просит „позвольте“… Дорогой ты мой, кто тебе может не позволить, когда у тебя действительно не хватает сил…»
– Вот там стожок, солома лежала, – сказала Ольга и помогла ему встать на ноги, обняв за плечи, привела к запорошенному снегом подстожью.
Садясь на мокрую солому, он снова виновато разъяснил:
– Дышать тяжело, знаете ли. Не хватает воздуха. – И грустно улыбнулся. – В таком просторе человеку не хватает воздуха. Парадокс.
Последнего слова Ольга не поняла – ученое какое-то слово. Вообще ее странно смутила его интеллигентность. Подумала: как обращаться к этому парнишке – на «вы» или на «ты»? Хотелось как-то сразу упростить отношения, тогда они быстрее поняли б друг друга, для этого у нее было проверенное средство – грубая шутка. Но как, над чем можно пошутить тут?
Парень сидел на снегу, снег таял под ним, а он будто и не чувствовал сырости. В обычных условиях можно было пошутить над этим. Но подумала, что промокший до костей, больной в горячке, он действительно уже не чувствует ни сырости, ни холода – ничего. От этого и самой сделалось нестерпимо зябко, хотя перед этим согрелась, пока бежала.
Обессиленный юноша закрыл глаза, Ольга испугалась, что он может умереть тут, в поле, только что вырвавшись из пекла.
– Давно ты у них?
– А-а? – Он вздрогнул испуганно, но моментально пришел в себя, – Нет, тут недолго, четвертый день. Хотя вы не можете представить, что такое эти дни. Меня взяли в плен три недели назад. Под Вязьмой. Всю нашу редакцию. Мы попали в окружение. Василий Петрович застрелился. А мы… я… не смог, знаете, не хватило духу… Трус! Ненавижу себя за это. Хотелось жить… молодой. Я… я не имел права так жить! Вы не представляете, что я пережил за эти недели… Это невозможно рассказать.
Слово «редакция» еще больше смутило Ольгу, но то, что рассказывает он складно, не бредит, порадовало: нет, не умрет, только бы добраться до дома, а там она его отогреет и откормит.
– Как зовут тебя?
– Меня? – Его, кажется, испугал такой вопрос, он задумался, как бы вспоминая свое имя; это тоже насторожило Ольгу: не плохо ли у него с головой? – Олесь… Саша. Мама называла Саней, а в школе – Шура. Но вы можете называть Олесем. А фамилия Шпак. – Непонятно почему он не назвал своей настоящей фамилии – может, потому, что не любил ее. Шпак – был его поэтический псевдоним, который в плену он, наоборот, скрывал.
– Ты здешний?
– Как вы понимаете здешний? – и снова будто испугался, горячие глаза внимательно следили за Ольгой.
– Олесь – это по-белорусски. И выговор у тебя наш.
– Я с Полесья.
Ольга усмехнулась.
– Везет мне: муж мой тоже с Полесья. На фронте где-то.
Парня немного смутило, что женщина так сказала о муже и о нем – «везет». В чем «везет»? Но то, что муж ее фронтовик, в какой-то степени сближало их. Может, поэтому он спросил:
– У вас нет хлеба? Если бы я съел хлеба… знаете… я окреп бы.
Ольга провела застывшими руками по карманам пальто. Ничего не было. Как она могла забыть, что заберет из лагеря изголодавшегося человека? Что он может подумать о ней? Почему-то показалось вдруг очень важным, чтобы он не подумал о ней плохо. Она объяснила:
– Все забрали фашисты проклятые. Как волки. Продукты прямо с корзиной забрали, все до крошки. И золото…
От слова «золото» глаза у юноши расширились. А Ольга уже не могла сдержаться, у нее была своя логика, своя мера ценностей и – главное – свой, базарный язык:
– Я за тебя золотом заплатила. Думаешь, так отдали бы? Ого! Держи карман шире! Такие живоглоты! На всем заработать умеют!
Парень страшно смутился, даже глаза потухли. Или, может, неудобно было ему смотреть на эту женщину, заплатившую за него, такого жалкого, золотом?
– Зачем? – прошептал он.
– Что зачем? – не поняла Ольга.
– Зачем я вам? Я ничего не умею делать.
– Научишься! – уверенно заключила Ольга. – Были бы руки да голова. Есть захочешь – всему научишься.
Ольга плюнула бы тому в глаза, кто сказал бы ей, что словами своими она заставляет юношу страдать не меньше, чем от холода и голода. А между тем это было так. К физическим мукам он привык, понимал их неизбежность – сам же писал о зверствах фашистов – и готов был к смерти, другого выхода не видел. Но чтобы его продали за золото молодой красивой женщине – о таком и не снилось, и вообразить не мог ни сам он и никто в армейской редакции на фронте. Правда, тут, в лагере, он узнал: случается изредка, что пленного отдают жене, матери, но у него жены не было, а мать далеко. О том же, что могут человека продать чужой женщине, никто не говорил. Безусловно, любой пленный посчитал бы за счастье такое спасение. Он поначалу тоже очень обрадовался. Но теперь от того, что услышал, радость померкла, возникли новые душевные муки: его, знавшего еще совсем недавно только один плен – своих возвышенных мечтаний, теперь продают, как невольника, раба. Чего доброго, патрицианка эта может и перепродать его с выгодой для себя.
Неизвестно, как пошел бы разговор дальше, если бы их не нашла Лена. Прибежала, запыхавшись, и тут же набросилась на Ольгу:
– Посадила человека на мерзлую землю! Сама небось не села. Пусть бы нагрела место своей толстой… – Лена, всегда отличавшаяся деликатностью, не постеснялась при незнакомом парне сказать такие грубые слова. Она подняла пленного с земли, отчего тот опять страшно смутился.
Ольга понимала, из-за чего Лена злится, и не обиделась, даже засмеялась, коротко попросила:
– Не злись, Леночка. Не было же того. А этот так понравился мне! Ты посмотри, какой он, – краснеет от каждого слова, как девочка!
Лена, не слушая Ольгу, не отвечая ей, взяла пленного под руку и повела в сторону города, на знакомую ей тропинку. Ольге не понравилось, что Лена так бесцеремонно захватила освобожденного, будто это она выкупила его, появилось знакомое чувство собственницы: «Моего не трожь!» Но она понимала, что глупо ссориться с Леной в присутствии этого парня, почему-то при нем ей захотелось быть доброй, по-человечески красивой.
– Ты хотя бы накормила человека? – все еще сурово спросила Лена.
– Так все же забрали, гады. С корзинкой. С рушником.
Тогда Лена остановилась и достала из-за пазухи теплую краюшку хлеба и луковицу.
Олесь, забыв о только что пережитых душевных муках, выхватил из ее рук хлеб и тут же жадно вгрызся белыми зубами в корку. Глотал не жуя.
– Ешь луковицу, – сказала Лена, – в ней витаминов много.
Откусил лук, и из глаз его полились крупные слезы. Они понимали, что не только от лука эти слезы, от лука так не плачут. А ему, наверное, было легче думать, что от луковицы, он пытался даже улыбнуться своим освободительницам. Но они старались не смотреть, как он ест: известно – голодный человек ест не всегда красиво.
Лена тяжело вздохнула.
Ольга, упрекая себя, думала с новой для себя ревностью, что Лена проявила большую практичность – не забыла, что освобожденного нужно накормить, иначе можно не довести, не близко от Дроздов до Комаровки.
Запыхавшись от еды, как от тяжелой работы, Олесь спросил у Лены:
– Ты искала кого-то другого?
Лена кивнула.
– Утром расстреляли шестерых. Перед строем. Они хотели убежать… как будто…
Ольгу снова ревниво задело, что они так, сразу, сошлись, Лена и он, этот выкупленный ею парнишка, что с Леной он, ингеллигентик, сразу на «ты», как с давней знакомой.
III
Ольга вошла в дом и на кухне затопала смерзшимися сапогами, обивая снег, подышала на окоченевшие руки. Не открывая двери в комнату (услышала, что к ним притопала Светка и звала маму, – не простудить бы ребенка!), сказала громко, чтобы услышал жилец:
– Настоящая зима. Это же надо – так рано. Как на го́ре…
– Кому на горе? – спросил Олесь и позвал малышку: – Светик, иди сюда, а то Дед Мороз отморозит пальчик.
Но девочка барабанила кулачками в двери и требовала:
– Дай, дай! – что означало: «Дай маму!»
Ольга притихла, застыла с поднятыми руками, развязывая платок, прислушалась. Ей показалось, что голос парня послышался не оттуда, где надлежало быть больному, – не из спальни ее родителей с их широкой, деревянной, занимавшей половину тесной комнатки, кровати, а где-то ближе, сразу за дверью, в «зале», где топала Светка.
Ольга сбросила холодное пальто, осторожно приоткрыла двери в «зал» и от удивления не подхватила, как обычно, Светку на руки. Олесь стоял перед зеркалом большого, красного дерева, шкафа и брился.
Его военную гимнастерку, рваную, грязную, она обдала кипятком, чтобы убить вшей, выстирала, выутюжила, пока он лежал без сознания, и без его разрешения продала на толкучке, рассудив, что военное ему теперь не нужно, более того – ходить в нем по городу опасно, выбросить же жалко, у нее ничего не пропадало зря. Когда больной пошел на поправку, Ольга дала ему одежду мужа, но при ней Саша еще ни разу не одевался.
А сейчас он стоял перед зеркалом в желтых башмаках, в черных мужниных брюках, в белой сорочке, которая была так велика ему, что казалось, там, под сорочкой, нет тела, один воздух. Да и вообще весь он точно светился белизной – сорочкой, смертельно бледным лицом, белыми волосами. Не сразу она сообразила, что такой неземной вид у него не только оттого, что исхудал, совсем высох, бедненький, но и от света, падавшего из окон через тюлевые гардины. Ночью выпал снег, и сильно подморозило. Неожиданная зима в начале ноября. Снег покрыл землю, осеннюю черноту ее. Ольге с самого утра казалось, что снег прикрыл всю грязь, весь ужас, какой сотворили на земле люди. Оттого и был ангельский вид у жертвы этого ужаса.
Олесь смущенно и виновато улыбнулся ей:
– Прости, я взял бритву без разрешения… твоего. – Он говорил ей уже «ты», но каждый раз как бы конфузился при этом.
Ольга сразу взволновалась, встревожилась:
– Зачем ты встал? Нельзя же тебе еще. Такой слабенький, – мог бы потерять сознание, упасть… с бритвой… А. тут ребенок…
– Да нет, ничего, как видишь, стою. Вначале голова кружилась.
– Не лежится тебе…
– Праздник же сегодня, Ольга Михайловна.
– Какой праздник?
– Как какой? – удивился и как-то странно опешил и растерялся парень. – Великого Октября… – Ему даже представить было трудно., что кто-то из советских людей мог забыть об этом празднике, где бы ни встречал его – на фронте, в оккупации, в лагере пленных, Его страшно потрясло, когда Ольга равнодушно протянула: «А-а…» – и занялась малышкой, подхватила на руки, вытерла ей носик подолом юбочки.
Не заметила Ольга, каким он сразу стал, опустив руку с бритвой, бледный, внезапно обессиленный – кровь ударила в голову, зашумела в ушах. Но у него хватило силы положить бритву на стол, рядом с блюдцем, где помазком вспенивал малюсенький кусочек мыла. Прозрачно-бледные, впалые щеки загорелись болезненным огнем – не пунцовым, фиолетовым каким-то.
– Нельзя так, Ольга, нельзя!
А она уже и забыла, о чем речь, и не поняла сразу:
– Что нельзя?
Олесь шагнул к ней, резко поднял руку, но только мягко и ласково дотронулся до ребенка.
– Нельзя забывать о том, что для нас самое дорогое. О празднике нашем самом великом и… обо всем, за что воевали наши отцы… Нельзя! За это отдали жизнь лучшие люди рабочего класса… Ленин… Что у нас тогда останется? За что будем воевать с фашизмом? С чем пойдем в бой?.. Что останется ей, если мы обо всем этом забудем? – протянул он руку к девочке, а той показалось, что он зовет ее к себе, и она потянулась к нему от матери…
Ольга застыла, ошеломленная. Она слышала подобное, но никто и никогда не говорил так, как он, этот больной юноша, так горячо, так страстно. Чаще слова такие говорили с трибун, по радио, а он говорил их ей одной, и его даже лихорадило, далее загорелся весь, и голос дрожал от слез. Услышала она в его словах и другое: он бросал ей упрек – за жизнь ее такую, за торговлю. Упрек звучал во много раз повторенном: «Нельзя так». Что нельзя? А что можно? На минуту Ольга разозлилась: вот он как отблагодарил за то, что она сделала для него! Ах ты козявка! Хотелось ударить словами: «Пошел ты, недоносок! Почему же тебя твои лучшие люди не спасали? Почему они драпанули, народ в беде оставили?»
Но он продолжал говорить все так же горячо. Нет, он не упрекал ее, он просил, молил понять, что так нельзя, нельзя склонять голову и ждать, когда тебе на шею наденут ярмо, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, так сказала Долорес Ибаррури. Ольга вспомнила, она слышала эти слова, когда еще училась в школе, когда фашисты напали на испанский народ… Хотя их часто повторяли, тогда они не трогали ее, а сейчас, услышанные из уст человека, который едва выкарабкался, едва спасся от смерти, как-то непривычно, по-новому взволновали. Безусловно, фашисты – звери, жить под их гнетом все время она тоже не согласна. Чтобы Светку ее, когда вырастет, повезли на чужбину невольницей, надели хомут… О нет! Но пусть их разобьет наша армия, без армии никто ничего не сделает, думала она.
Слова Олесевы взволновали еще и потому, что горячность его сменилась полным изнеможением, и он пошатнулся, наверное, упал бы, если бы она не подхватила.
С ребенком в одной руке, обняв его другой, повела в боковушку.
– Ох, горечко мое! Говорила же, что не надо было подниматься. Видишь, снова жар. Сколько там того тела, нечему и гореть.
Олесь послушно прилег на кровать и посмотрел на нее уже другими глазами, виноватыми, попросил:
– Простите, – снова на «вы».
Ольга привыкла к его извинениям, но, пожалуй, ни одно не смутило ее так, как это.
Не зная, что ответить, спросила шутя:
– Побриться-то успел?
Олесь утомленно прикрыл веки.
– А я думала, что ты и не бреешься еще. Потому и не предлагала бритвы. Казалось, ничего же не растет. Так, рыженький пушок. А побрился – и правда похорошел. Хоть жени тебя.
Но глаза у него потухли. Не до шуток ему было. Ольга каждый раз пугалась, когда после возбуждения, лихорадочного блеска глаза у него вот так угасали, как у неживого.
Ольга разула его, он не сопротивлялся.
– Штаны помочь снять?
– Нет, нет… что вы! Я сам.
Ольга помнила, как страшно он сконфузился, когда очнулся и понял, что столько дней она ухаживала за ним, как ухаживает санитарка в больнице за тяжелобольным. Такая юношеская стеснительность умиляла Ольгу, она снисходительно разрешила, как маленькому:
– Ну хорошо, полежи так. Отдохни. Я накрою тебя одеялом. Не так тепло у нас, чтобы лежать в одной сорочке после такого воспаления… Я тебе Адасев свитер дам, раз ты уже поднимаешься.
То обстоятельство, что парень этот сразу же так серьезно заболел (безусловно, он был и раньше болен, только держался в лагере из последних сил: ведь там свалиться – смерть), в чем-то помогло и Ольге, и ему, как говорится, не было бы добра, да беда помогла. Такой больной паренек (под одеялом – совершенный подросток), четыре дня не приходивший в сознание, незаметно и как-то естественно прижился у нее. Полицай, заглянувший в тот день за «калымом» – за стаканом самогонки, возможно, увидел у постели больного смерть, дежурившую там неотлучно, потому и удовлетворился коротким объяснением: «Родственник приехал из деревни и заболел. Боюсь, как бы не тиф». Услышав о тифе, Друтька не задержался в доме.
Соседи, правда, втайне шептались, что Леновичиха подобрала красноармейца, уже умиравшего и потому выброшенного немцами из лагеря – бери, кто хочешь (люди еще верили хотя бы в какие-то проблески человечности у фашистов), – и теперь выхаживает смертельно больного человека, как собственное дитя.
Одни не сразу поверили, другие удивлялись, третьи похвалили, сказав, что давно замечали: душевные качества у Ольги не в мать – в отца пошла, а старый кожевник Ленович прожил свою жизнь честно, коммерцией и плутнями не занимался и всегда старался помочь людям. Во всяком случае, Ольгин поступок был оценен высоко, он в каком-то смысле реабилитировал ее в глазах тех, кто тихонько бросал ей вслед, когда она шла, нагруженная узлами, на рынок: «Торговка! Немецкая шлюха!»
Впрочем, приведи она в дом здорового мужчину, еще неизвестно, что могли сказать и подумать, скорее всего вряд ли поверили бы в спасение пленного из патриотических побуждений. А тут поверили – ведь тетка Мариля рассказывала, в каком состоянии парень и как Ольга лечит его.
Действительно получалось так, что Олесева болезнь помогала ей, потому, наверное, и рождалась особая привязанность к нему, своеобразная благодарность. Все так хорошо складывалось, будто он приносил счастье. Друтьке она сказала про родственника просто так – от неожиданности, просто со страху, побоялась признаться, что взяла человека из лагеря. Рассказала об этом Лене, а та через два дня принесла справочку на имя Александра Леновича, уроженца Случчины, будто он лежал в больнице с какой-то непонятной болезнью, написанной по-латыни. Теперь Ольге необходимо было объявить, что это и впрямь ее родственник, что лечился он в гражданской больнице, но с наступлением морозов там стало так холодно, что парень в довершение к своей болезни схватил крупозное воспаление легких. Такой диагноз поставил доктор, которого Лена приводила, – воспаление и сильная дистрофия.
Друтька спросил на рынке:
– Как твой родственник? Выздоровел?
– Не выздоровел, но, славу богу, не тиф, воспаление.
Полицаи, целых трое, в тот же день приплелись за угощением. Посмотрели на Олеся, который уже очнулся, но от слабости едва мог слово выговорить, подбодрили:
– Ничего, будешь жив. Поправляйся. В полицию возьмем. Люди нам нужны.
Ольга на радостях угостила их щедро. Подвыпили, но к ней не лезли, стыдно все же им, паразитам, при больном человеке нахальничать, тетки Марили не стыдились, а больного постыдились. И это тоже понравилось Ольге к добавило еще крупинку чего-то доброго к больному – благодарности, симпатии.
Удивили его горячность в разговоре о празднике и обида, что она забыла о таком дне, самом великом, самом дорогом для него. Удивили и взволновали.
Впрочем, удивляет он не впервые. Несколько дней назад, когда немного оправился, во всяком случае глаза стали живыми, не с того света смотрели на нее, Ольга спросила у него мимоходом, как спрашивают у всех больных, когда замечают, что они поправляются:
– Может, тебе еще что-нибудь надо? Говори, не стесняйся, Саша.
Больной на минуту задумался.
– Книги. Есть у тебя книги?
– Книги?
Она очень удивилась. Сразу не поверила даже, чтобы у человека, который едва выкарабкался с того света, первой потребностью стали книги.
Книг у Ольги не было, одно Евангелие материнское осталось, но эту книгу она предложить не посмела, чувствовала – обидится парень, комсомолец же, конечно. Были в доме школьные учебники, журналы советские, она сожгла их в печке, подальше от греха, а то еще, чего доброго, прицепятся немцы, прятать их не стала, хватает более ценных вещей, которые пришлось закапывать темными ночами в огороде и делать для них тайники в погребах. Не до книг было, что для нее книги!
Олесь ничего не сказал, но, по глазам увидела, удивился, что в доме нет ни одной книги. Ольгу даже немного обидело это, подумаешь, счастье – книги!
– Какие тебе книги нужны? – спросила она.
– Хорошо было бы поэзию. Классику. Пушкина. Лермонтова. За классику не бойся.
Ольга сказала об этом Лене. И снова ее задело за живое, что Лена нисколько не удивилась, будто знала наперед, что может понадобиться такому парню.
Через день или два Лена принесла книгу – толстый томик в самодельной, из желтого картона, обложке, на ней химическим карандашом было написано: «Александр Блок».
Ольга не слышала раньше о таком писателе.
– Немец, что ли? – спросила она у Лены.
– Да нет, наш, русский. Но символист, – ответила Боровская.
Ольга вспомнила, что, кажется, в восьмом классе учитель литературы, сам поэт, что-то рассказывал им про каких-то символистов, но прошло так много времени, случилось так много событий в жизни, что она все забыла, для нее это пустой звук – символисты, реалисты.
Олесь спал, когда Лена приходила. Ольга потом, вечером, с некоторой даже торжественностью, как подарок имениннику, поднесла ему книгу.
Обложка, возможно, его немного смутила. Но развернул книгу – и будто встретился с давним своим другом, засиял весь.
– Блок! Боже мой! Блок! Дореволюционное издание… Спасибо вам!
Ольге была приятна его радость, и она не призналась, что книгу принесла Лена Боровская, пусть думает, что сама она выбрала как раз го, что ему нравится, что и она в чем-то разбирается.
А потом он удивил ее еще больше. Когда сильно уже подморозило, прибежала она с рынка, окоченев от холода, чтобы накормить дочку и больного. Марилю теперь не приглашала, чтобы лишнее не платить; хотя Олесь и лежал еще, но уже мог оставаться вместо няньки, играл с малышкой, которая сама влезала к нему на кровать, и у него хватало сил переодеть ее в сухие штанишки.
В тот день Ольга продавала свеклу. Остатки, которые не успела продать, поручила соседке – была у торговок, как в каждом цехе, своя солидарность и взаимовыручка. Но все равно приходилось спешить: на рынке остались корзины, мешки, их нужно забрать, ноябрьский день короткий, скоро полиция начнет всех разгонять, а соседка по рынку живет на другой улице, далеко.
Олесь ел сам, сидя в кровати, под спину ему Ольга подсунула подушку, чтобы легче было сидеть.
Ольга второпях накормила дочь и подсвинка, которого прятала в хлеву, за штабелями наколотых дров, и за которого очень боялась: если и немцы не ограбят (из-за кабанчика она улещивала и немцев, и полицаев), то свои могут украсть, голодных в городе тьма.
Заглянула в родительскую спальню, чтобы забрать тарелку, и увидела: забыв о еде, Олесь читал. Упрекнула:
– А ты уже читаешь?
Он посмотрел на нее влажными глазами и вдруг попросил:
– Посиди со мной минутку. Я почитаю тебе стихи. Послушай, какая это красота.
– Не до стихов мне, – отмахнулась она.
– Нельзя же жить… – Ольга догадалась, что он хотел сказать, но не сказал, поправился: – Нельзя же весь день на ногах. Я не представляю, когда ты отдыхаешь. Даже ешь стоя.
Такая неожиданная просьба, и забота о ней, и то, что он впервые заговорил с ней просто, как всегда обращался к Лене, сразу тревожно и радостно взволновали Ольгу. Она послушно села на кровать у его ног, по-крестьянски положила огрубевшие от работы, красные от холода руки на колени.
Сначала он читал стихи о любви, не по порядку, выбирал их из разных мест книги.
Для кого же ты была невинна
И горда?
Ольгу стихи сначала не тронули, она подумала с грубоватым озорством: «Ишь ты, на ладан дышит, а о любви думает». Но потом случилось что-то невероятное. Стихи, как домашнее тепло или хорошее вино, понемногу размягчали ее застывшую душу, вдруг вспомнилось детство, потом все близкие, родные, никогда они так не вспоминались ей – все сразу: и родители покойные, и Адась, и Павел – фронтовики (живы ли они?), и Казимир, который пошел работать к немцам и страшно ругался за пленного, говорил, что, когда немцы возьмут ее за жабры, пусть не надеется на его помощь, но она ответила, что никогда и не рассчитывала на старшего брата, не ждала, что он чем-то поможет… Сделалось грустно. От воспоминаний или от стихов? Такого она, пожалуй, еще не переживала: быстро, как во сне, одни чувства сменялись другими, все вдруг будто перемешалось, забурлило, точно в котле, на поверхность всплывало то одно, то другое – то легкая печаль, то тревога, то непонятная радость, то острая боль, то страх…
Почти ужас охватил, когда Олесь шепотом прочитал:
Плачет ребенок. Под лунным серпом
Тащится по полю путник горбатый.
В роще хохочет над круглым горбом
Кто-то косматый, кривой и рогатый.
Представилось косматое страшилище, с появлением которого наступит конец света. Хотя книга и старая с виду, но очень может быть, что человек этот, поэт, был пророком и смотрел далеко вперед. Может, он сегодняшнее страшилище видел, когда плачет ребенок и ветер молчит, но близко труба, да ее не видно в темноте. Ой, не видно! Пусть бы затрубила быстрее!..


А потом было грустное и светлое, будто Олесь говорил о своем – что дорога его тяжелая и далекая, а конь устал, храпит и неизвестно, где родное пристанище, но где-то далеко-далеко, за лесом, поют песню, и от этого легче дышится, если бы не было ее, песни, то и конь бы упал, и он никогда не доехал бы, а так, верит – доедет. Куда? К чему? Все равно. Лишь бы была вера! Лишь бы была вера! Во что? Она сама хорошо не знала, во что верить ей, она просто никогда серьезно не задумывалась над этим. А стихи, странные, малопонятные, заставили задуматься. Действительно, во что ей верить? В бога? В Сталина? В неизвестного трубача, который даст сигнал и поднимет народ?








