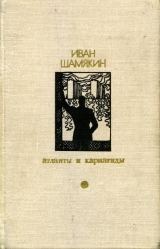
Текст книги "Торговка и поэт"
Автор книги: Иван Шамякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
Сказала с упреком:
– Что это ты несешь, Федор? У меня муж на фронте.
– Не вернется твой фронтовик. Разве что не будет дураком да перейдет к немцам. Если сам сдастся, отпустят.
С большей печалью, чем раньше, с болью и даже с чувством своей вины перед ним, что случалось редко, Ольга подумала о муже, но тут же порадовалась своей уверенности: Адась никогда не сдастся в плен, не предаст, не опозорит свое имя.
«Он вернется! А вот ты не вернешься!» – подумала уже только с ненавистью к Друтьке. А тот, не жалея красок, рисовал, как бы они жили, поженившись.
Ольга слушала одним ухом. Она думала о своем плане. Еще вчера вечером, когда обдумывала все до мелочей, план этот казался безупречным.
Она боялась, чтобы приговор Друтьке исполнил Саша, может, потому, что он сам признался, как трудно ему убить знакомого человека. Понимала, насколько увеличивается риск, если нет уверенности, – для Саши это может кончиться провалом, смертью. Тогда же, в ту ночь, решила помочь ему, хотя он и возражал, решила взять на себя его задание. Долго думала, как осуществить приговор. Чувствовала, что сама не сможет сделать это. И надумала: через Сивца сдать Друтьку партизанам, пусть они покарают его; там, в лесу, это действительно будет кара, по всем законам, а не убийство из-за угла. Это честно и, казалось, просто. Сивец подтвердит. Ее могут упрекнуть, поругать за анархизм, как называет это Захар Петрович, но не перестанут доверять. А в анархизме старый подпольщик упрекал даже Андрея, которого она считала командиром всей группы.
Почему же вдруг только сегодня, когда отъехали уже порядочно, появилось сомнение, что она делает не то, что нужно? Смутил случай с кожухом? Нет, при чем тут кожух?
Она думала, как отнесется к ее замыслу Сивец. Немолодой уже человек. Жена. Дочь. Соседи рядом. Гарнизона, правда, в селе нет, но все же… Захочет ли Сивец браться за такое дело – сдать полицая партизанам? Скорее всего нет.
Друтька спешит, – рассчитывает, конечно, к ночи доехать до своего Червенского района, день уже не короткий, конец февраля. Переночевать у Сивца она его уговорит. Но близко ли партизаны, чтобы Сивец мог успеть за ночь привести их? Да еще неизвестно, как сами партизаны отнесутся к этому. Могут сказать: «Вы там, в городе, осудили – вы и карайте». Кому это хочется брать на себя расстрел человека? Она же не захотела, чтобы это сделал Саша. И Саша мучился от такого задания.
Успокаивала себя: если не выйдет, как задумала, ничего страшного не случится, от кары Друтька не спасется, ведь вернутся же они назад, в Минск, через какие-то три дня… И поездка будет не напрасной – партизаны получат гранаты. А когда вернутся, она придумает что-то другое. Нет, тогда она во всем признается Захару Петровичу, посоветуется с ним. Напрасно побоялась, что он помешает осуществить ее замысел: старый, опытный, рассудительный человек понял бы ее, понял бы Сашу и обязательно что-то придумал бы, – может, одобрил бы ее план или, скорее всего, добавил бы к нему такое, что уберегло бы ее от ошибки. Дал же разрешение, чтобы она заехала к Сивцу с полицаем, завезла гранаты.
А если все произойдет по ее плану, она еще перед деревенской полицией поднимет гвалт: остановили на дороге бандиты, забрали и коня, и Федора Друтьку. Ищите! Спасайте! Помогайте! Пусть ищут ветра в поле.
Пересекли Могилевское шоссе, повернули на Новый Двор. Ехали по полю. Туман не рассеивался, и все вокруг окутывала белая мгла. Проклятый туман, в нем человек замерзает хуже, чем в самый сильный мороз. Ольге в кожухе было холодно. А Друтька остался в одной шинели. Не выдержал, выругал все же немца:
– Забрал кожух, чтобы его холера взяла! Тыловая крыса, зараза, интендант паршивый! У кого ты конфискуешь теплые вещи? У своих? По-человечески сказал бы – я тебе воз насобираю этих кожухов.
Друтька передал Ольге вожжи, соскочил с саней.
– Ты погони, а я пробегусь, а то до костей проняло.
Пробежался, взвалился на сани, сильно запыхавшись, снова упал на ее ноги, поднял полу кожуха.
– Погрела бы ты меня.
– Где? На снегу? Отморозишь последнее, что имеешь. Потерпи до теплой постели. До мягкой постельки…
Шутила, а зубы стучали от гадливости и страха. Нежности и шутки со смертником! Грех, наверное?
В третий или четвертый раз Друтька бежал за санями, когда ехали по лесу. По обе стороны дороги стояли сосны, под ними сиротливо гнулась лещина. У Ольги вдруг мелькнула мысль: стать на колени и швырнуть навстречу полицаю, когда он будет догонять, «игрушку» – на, лови, пошутим последний раз. Так просто… Оглянулась. Друтька отстал далеко. Сбросила варежки, вытянула из-за пазухи гранату – она была теплая, будто в середине ее грел смертельный огонь. Испугал ее этот огонь. А если взорвутся и те, что в мешке? Быстренько спрятала гранату. Но упрекнула себя: «Трусиха, чистыми руками хочешь воевать, чтобы грязную работу другие делали!»
За Королищевичами дорога вывела к железнодорожному переезду. Нужно было пересечь «железку». Переезд не охранялся, шлагбаумов не было, но проходил он возле самой будки путевого обходчика, вдоль забора и глухой стены стандартного красного здания. Снег на насыпи сошел, на железной дороге раньше, чем везде, чувствовался приход весны. От притянутого полозьями песка растаял снег и на въезде.
Друтька, заботливый хозяин, соскочил с саней, чтобы облегчить коню въезд на насыпь. Ольга тоже пожалела коня, удивились себе: такая непоседа, юла, она за столько часов ни разу не слезла с саней, действительно как та баба из басни, уже и ноги онемели. Да и конь остановился перед песчаной дорогой, давая понять, что ему действительно тяжело, давно взмок, клочья пены падали из-под сбруи.
Ольга выбралась из саней. На путях остановилась, посмотрела на блестящие рельсы, которые убегали в неизвестную даль. Как каждого человека, мало ездившего, ее привлекала эта даль, с детства казалось: там, где кончаются рельсы, начинается новая страна, где люди живут совсем иной жизнью.
Друтька выпустил вожжи и подождал ее за переездом.
– Далеко еще до твоего дядьки?
– Нет, недалеко. Вот проедем Михановичи, потом Бордиловку, а затем повернем на Пережир.
– Ничего себе недалеко!
– Не ты же сани тянешь. Конь. А вожжами я больше крутила, чем ты. И нисколько не устала. Хочешь, станцую?
– Ты бы иначе повеселила.
– Дорогой платы ты захотел.
– Я? Платы? От тебя? Наоборот. Я тебя хочу озолотить. Я же, как видишь, хочу по-хорошему. Сватаюсь по всем законам.
В путевой будке хлопнули двери, и высокий молодой голос скомандовал:
– Эй, вы, стойте!
Они повернулись. К ним шли двое: один в форме немецкого солдата, без оружия, другой, высокий и худой, в круглых очках, в цивильном – в длинном черном пальто, в серой каракулевой шапке-столбуне, делавшей его еще выше; очкарик этот на две головы возвышался над солдатом.
Друтька ступил им навстречу. Но длинный зло крикнул:
– Коня останови, раззява!
Ольга не испугалась, первая послушно бросилась догонять коня.


Конь прошел от железной дороги шагов сто. Она боялась кричать «тпру», чтобы конь не побежал, – такое иногда случается. Но этот, ученый, услышал, что за ним бегут, и остановился сам.
Ольга стояла у саней и смотрела, как они подходят, охранники и ее спутник.
Друтька снизу вверх заглядывал под очки и что-то горячо доказывал. Достал свои бумаги, протянул немцу, но тот передал их переводчику. Слышно было, как длинный своим тоненьким, будто девичьим, голоском бойко лопотал по-немецки – переводил.
Они приблизились. У переводчика не только голос, но и лицо было точно девичье, детское. Несмотря на такой неимоверный рост, это был еще мальчик, лет, наверное, семнадцати. Но у него нехорошо, очень зло, кривились губы и пальцы сжимались в кулаки, будто он с трудом сдерживал себя, чтобы не ткнуть Друтьке кулаком в лицо.
Друтька возмутился:
– Своим не верите? Таким документам! Ты посмотри, кем подписано мое удостоверение!
– Если ты полицейский, то знаешь, что документы у бандитов всегда в порядке, – уже более примирительно сказал юнец и услужливо перевел немцу свои слова.
Тот одобрил:
– О, яволь.
Ольга подумала: «Где это ты, поганец, так по-немецки выучился? Вытянулся, будто черт за уши тянул! Каланча! Может, помочь Федору?»
Нет, не хотелось ей почему-то ни просить, ни доказывать ничего, ни тем более улыбаться или шутить – пускать в ход свои чары. Она то ли не чувствовала еще опасности, то ли верила, что ее можно избежать.
Немец, пройдя к коню, почему-то внимательно осмотрел хомут, потрогал подхомутник. Переводчик поднял мешок с сеном, на котором они сидели, и как-то брезгливо-пренебрежительно выбросил его из саней, отчего Друтька даже побелел. Но Ольгу это мало тронуло.
Немец обошел вокруг коня и направился к ней. Она отступила шага три с дороги в снег, подумав: не хочет ли он обыскать ее? Нет, немец показал пальцами на мешки и швейную машинку.
– Что в мешках? – спросил очкарик.
– Я же тебе сказал, что в мешках. Барахло. Едем к своим, чтобы пожениться. – Друтька попробовал улыбнуться. – Нужны же подарки.
– Развяжи.
– Так тебе хочется потрясти мои мешки? Эх ты! Антилигентный парень! Своему не веришь.
Переводчик покраснел, и губы его скривились уже не зло, а как-то обиженно.
– Он ножом сейчас попорет твои мешки. Тогда узнаешь… Не ломайся.
Немец удивился, что последних слов переводчик не перевел, и терпеливо ждал, а тот начал что-то говорить, но Ольга поняла: не то переводит.
Друтька решительно вскочил на сани, будто намеревался говорить речь.
– Какой развязывать?
– Любой.
«Если он начнет развязывать мой мешок, я брошу гранату», – подумала Ольга без страха, так спокойно, что удивилась сама, только одно немного обеспокоило: «Куда ее лучше бросить?»
Решила – в сани, под ноги Друтьке. Для размаха еще отступила. О том, куда спрятаться самой, не думала.
Друтька схватил свой мешок, зубами развязал узел на веревке, потому что пальцы не гнулись – от холода или от волнения. Перевернул мешок и зло вытряс все, что было в нем, на сани.
На миг Ольга даже забыла о гранате ошеломленная. Из мешка высыпались детские штанишки, рубашечки, кофточки, чулочки, туфельки, много туфелек, пар, может, двадцать, самых разных – белых, красных, черных, со стоптанными каблучками, облупленными носочками…
– Ну вот, видишь что тут. Жидовские лохмотья. Эршисен юдэ. Пух-пух юдэ, – объяснял Друтька сам немцу. – Юденятам на том свете они не нужны.
Ольгу будто ожгло страшным огнем: «Ах ты, гад! Что же это ты творил, собака! Какая же кара нужна за это!»
Парень перевел слова Друтьки, и немец засмеялся. Он, с кем она только что сидела рядом в санях, тоже оскалил зубы. И глиста эта, кобра очкастая, сопляк, захихикал льстиво, гаденько.
«Над чем они смеются? Над смертью детей?.. Они смеются над смертью детей?».
И перед глазами встала ее Светка, убитая этими… ее маленькие валеночки, в которых она отвезла ее к брату. Там, на санях, в куче обуви такие же валеночки, только одна пара. Плач детей зазвенел в ушах. Но в этом страшном хоре она отчетливо слышала голос своего ребенка.
Стало страшно, что не осуществит она свой план. Сколько надо еще ждать, пока Сивец сдаст е г о партизанам! Да и сдаст ли? Разве может она ехать с н и м дальше, сидеть в одних санях?! А эти? Эти останутся тут? Нет! Карать их надо сразу! Всех!
Не было уже силы, которая остановила бы ее. Не оставалось времени на рассуждения, что будет с ней. Куда спрятать голову, как учил Захар Петрович?
Она выхватила гранату из-за пазухи. Подняла над головой. Хрипло крикнула:
– А ну, гады!
Тогда они обратили на нее внимание. Первым увидел гранату немец и сразу упал за сани. Побелевший очкарик закрыл лицо ладонями, будто главная его забота – прикрыть свои больные глаза. А Друтька застыл на санях с раскрытым ртом, с растопыренными руками, смотрел на нее, силился улыбнуться, – может, не сразу сообразил, что над ним нависла смерть, может, думал, что женщина шутит.
Ольга не швырнула гранату ему под ноги. Сорвав кольцо, она наклонилась и будто закатила гранату под сани.
Увидела, как подбросило в воздух сани и как еще выше, будто циркач на сетке, подскочил Друтька. А конь рванул с места. Ольга даже успела подумать: хорошо, что коня не зацепило, на коне она быстрее удерет отсюда.
В лицо ей ударил не огонь, не горячий воздух, а ледяные брызги, снежный вихрь. От удара в грудь чем-то твердым и тяжелым она упала в снег и, наверное, на короткое время потеряла сознание. Пришла в себя – услышала шум, будто гудел в грозу бор или шел поезд. И еще услышала далекое ржанье. Подняла голову и увидела, что совсем близко от нее, голова к голове, неподвижно лежат Друтька и длинный переводчик. И Ольга почти успокоенно подумала, что все хорошо, она сама исполнила приговор, она покарала их… Не нужно будет просить Сивца. Теперь ни Командир, ни Захар Петрович не упрекнут ее… Все хорошо… Только нужно догнать коня… Где он там ржет?.. Едва повернула голову. Конь без саней, но с оглоблями, окутанный огненно-красным паром, судорожно бился в снегу сбоку от дороги. Снег вокруг него дымился. Или это красный туман в ее глазах? Не кровь ли заливает глаза? Она провела рукой по лицу. Крови не было. И это очень порадовало – лицо ей не посекло. И она все видит – столбы, ельник вдоль насыпи, небо… Все обычное. Почему же такой туман над конем? Коня стало жаль. Как жалобно он ржет…
– Я помогу тебе, коник. Я помогу…
Она собрала последние силы и попробовала встать. Но тогда не только пар над конем – серое, облачное небо сделалось кроваво-красным и вдруг обрушилось – все огромное небо – на нее одну…
Перевод Т. ШАМЯКИНОЙ








