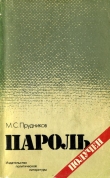Текст книги "Пока бьется сердце"
Автор книги: Иван Поздняков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Что солдату надо
Позади остался Селигер. Красивы и живописны места вокруг этого огромного, как морской залив, озера. Леса и леса, без конца и края.
Дорога вьется то небольшими полянами, покрытыми буйной молодой зеленью, то ныряет в чащу леса, где сразу наступает сумрак и тело обдает сырой застоявшийся воздух. Пахнет гнилью, прошлогодними листьями, смолой.
Надо спешить, чтобы засветло попасть в полк, подробнее познакомиться с обстановкой, побеседовать с людьми, встретиться с друзьями, побывать в родной роте. Завтра наша дивизия идет в бой. Ее поддержат соседние части и соединения. Кончилась затишье на фронте. Здесь, на Валдайских высотах, наше командование теперь почти ежедневно навязывает неприятелю большие и малые сражения, цель которых сводится к одному – не дать врагу перебросить с нашего франта ни одного солдата, ни одного танка на юг, на Дон, где развернулось большое наступление армий Гитлера. Эти армии рвутся к Волге.
Изнурительны и жестоки бои в лесистой местности. Ни для танкистов, ни для артиллеристов здесь нет простора. Тяжесть сражений выносит на своих плечах наш брат-пехотинец. Идет через болота, штурмует высоты, занятые врагом, днями лежит в липкой трясине, где надоедливая и безжалостная мошкара вьется тучами, до язв разъедает лица и руки, не дает человеку ни минуты покоя.
Дорога взбегает на косогор. С вершины небольшой высоты открывается вид на небольшое озерцо. Оно ослепительно блестит на солнце. Вокруг – буйная заросль: ивняк и ольха, чуть подальше от берега возносятся к небу высокие корабельные сосны, стволы которых будто подпалены у основания. На берегу озера вьется синеватый дым костра, возле которого различаю двух людей.
Через несколько минут я уже нахожусь возле костра и жму руку Николаю Медведеву. Его попутчиком оказался Макс Винтер.
– Откуда, Николай, и куда? Почему Винтер с тобой?
Медведев хитровато подмигивает, деловито усаживается у костра, тычет в пламя нанизанные на ивовую ветку грибы.
– Сначала отведай нашего блюда, потом спрашивай, – отвечает он.
Добрые глаза Медведева смеются, окидывают меня ласковым взглядом. Рябое лицо вспотело. Николай, как всегда, суетлив, подвижен. Одной рукой подбрасывает в костер сухие прутья, другой водит по огню самодельным веретелом, вращает его, чтобы грибы равномерно пеклись на пламени. Вот он снимает, обжигая пальцы, испеченный гриб. Подбрасывая его на ладони, протягивает мне.
– Бери и благодари судьбу, что она дает тебе случай отведать эту прелесть.
От угощения не отказываюсь. Не раз еще в детстве, на родимой Смоленщине, в ночном, мы, подростки, собравшиеся у костра, лакомились вот таким же способом.
Николай Медведев протягивает испеченный гриб и Максу Винтеру.
– Кушай, Максим! Небось в своей Германии не пробовал такого.
Винтер смеется, кивает головой, берет гриб.
– Гут, гут. Очень карош!
– То-то, Максим, – покровительственно произносит Медведев. – Конечно, хорошо, конечно, гут.
В дивизии Винтера все зовут Максимом. Он прижился, стал своим человеком. На русских хлебах поправился, ожил. Человек он неробкого десятка и неутомимый, почти ежедневно выступает в передачах для немецких солдат. Его часто обстреливают вражеские батареи. Однажды совсем засыпало землей, откопали оглушенного и контуженного. Неделю пролежал в санбате, потом опять взялся за дело. Солдаты и командиры любят его.
До последнего дня Макс Винтер ходил в своей зеленой шинелишке и суконной пилотке. Теперь он в новеньком обмундировании советского солдата, в добротных яловых сапогах. Николай перехватывает мой взгляд и поясняет:
– Пришлось срочно переобмундировать из-за одной истории. Ты разве не слышал, как Максима вторично в плен брали?
– Признаться, нет.
– Еще дивизионным начальником называется, по телефону разговаривает, а новостей не знает…
– Брось шутить. Расскажи-ка тогда по порядку. Говори, что случилось.
– Третьего дня идет Максим лесной тропинкой, что на стыке с соседней дивизией, идет в штаб. Откуда ни возьмись, солдаты, наши соседи. Видят, живой фриц, ну, конечно, по всем правилам – автомат на изготовку и «хенде-хох!» Максим руки поднял, и повели наши славяне его в свой штаб. Там только выяснили, что это за немец. Дали конвоира и доставили в нашу дивизию. Вот вчера и переобмундировали его, чтобы подобных оказий не получалось.
Макс Винтер, начавший уже понимать русскую речь и с трудом объясняться по-русски, внимательно слушает Николая, улыбается и в такт словам рассказчика кивает головой.
– Небось страшно было, Максим? – спрашивает Николай.
– Найн, русь зольдат – карош зольдат.
– Мы ему нестрашны, – говорит Медведев. – Сейчас ему своих бояться надо.
– Теперь скажи, Николай, как ты очутился на этом озере, далеко от передовой, – спрашиваю Медведева.
Мой товарищ, шмыгнув носом, хитровато улыбается.
– Значит, и обо мне ничего не знаешь?
– Честное слово, не знаю.
– Давненько, стало быть, в нашем полку не бывал, – укоризненно произносит Медведев.
– Но я в эти дни все время был в других полках, неделю жил у артиллеристов.
– Это не оправдание. Свою роту ты обязан навещать чаще. Ведь мы тебя, черта, всегда ждем, каждую твою статью в газете читаем. Степан Беркут подарок тебе приберег. Все ждет, чтобы вручить.
– Какой подарок? Ничего не понимаю, Николай.
– Авторучка с золотым пером. Он ее в посылке получил. Жена прислала, чтобы этой ручкой он ласковые письма слал. Так и сообщает: ты последнее письмо так составил, что любому сочинителю нос утрешь. Быть тебе, говорит, после войны секретарем сельского Совета, а может быть, и выше пойдешь. Степан читает нам это письмо и гогочет так, что блиндаж дрожит. Вот и решил подарить эту авторучку тебе. Ведь это ты его рыжухе письмо составил, твоя заслуга, а не его.
– Ты опять, Николай, говоришь не дело, – замечаю своему однополчанину. – Расскажи, как очутился вот здесь, куда держишь путь.
Медведев не спеша вынимает кисет, отрывает от сложенной в гармошку газеты большой лист и крутит куцыми пальцами козью ножку. Так же не спеша закуривает, аппетитно затягивается махорочным дымом.
– Что ж, послушай мою печальную историю, – намеренно громко вздыхая, говорит Медведев. – Началась она с того дня, когда я в порядке подхалимажа стачал сапоги начхозу нашего полка. Все думал, что он к нам благосклоннее станет, лишних харчей подбросит. Но он, шельмец, по-иному дело повернул. Прославил мое мастерство на всю дивизию, вроде я незаменимый и отменный сапожник, какого по всей России не сыщешь. Выдумал начхоз и еще одну историю. Будто род наш – потомственные мастера сапожного дела, что дед мой самому генералу Скобелеву сапоги тачал. Не знаю, зачем только он Скобелева сюда приплел. Видно для того, чтобы цену своим сапогам набить. Прослушал я, что их он своему начальнику подарил. Короче говоря, откомандировали меня в дивизионные тылы. Я – солдат, приказы уважать обязан. Воевать так воевать, действуй шилом и молотком, сучи дратву и благодари бога за то, что не в окопе сидишь, а в теплой избе, далеко от передовой. Тут и снаряды не рвутся и пули не пошаливают. Словом, воевать можно сто лет.
Медведев еще раз аппетитно затянулся и продолжал:
– Тачаю сапоги день, тачаю другой, тачаю третий. Так и неделя прошла. Заказчиков – хоть отбавляй. Валом валят. И все заискивают, ласковые слова произносят, вроде я командиром дивизии стал. Почет и уважение. Только чувствую я, что попал в беду, понял, что не только до конца войны, но и до нового потопа не вырваться мне отсюда. Так и буду сидеть над этими проклятыми сапогами. По дружкам загрустил шибко. Вот и решил вернуться к ребятам, в окопы, чтобы человеком почувствовать себя. Стал отпрашиваться, да где там! Слушать не хотят. Приезжает как-то майор Кармелицкий. Взмолился я, просил помочь, но он только руками разводит, говорит, что помочь мне не в силах, за меня, мол, начальство дивизионное горой стоит. Тогда я по секрету и поведал нашему комиссару, какой я план выработал, чтобы в полк вернуться. До слез хохотал комиссар и оказал, чтобы я немедленно преступил к выполнению плана. Дело за мной не стало. И начал я портачить. Сошью сапоги, а они на другой день расползаются, словно тесто. Начальство ругает, грозится сослать туда, где Макар телят не пасет. Я только посмеиваюсь и думаю: дальше передовой не пошлете. А туда мне как раз и надо. Бились со мной целый месяц, спрашивали, почему у меня брак выходит. Ответил, что таланта у меня в сапожном искусстве нет, а то, что первые заказы получались – это вроде случайности. Наконец махнули на меня рукой и натравили сегодня в полк. Вот и возвращаюсь домой. Максима дали вроде общественной нагрузки: доведи, мол, в штаб. Тыловики – народ осторожный, Максима они хорошо не знают. А теперь рассказывай о себе, о том, как живешь в редакции, что нового.
Рассказываю о последних зарубежных новостях, просвещаю друга по внутренней и внешней политике. Николай слушает вежливо, потом начинает позевывать
– Ты вроде доклад делаешь, – с досадой произносит Медведев. – Брось! В эти дни столько перечитал газет, что на сердце накипь образовалась, как на стенках самовара. Желчь по телу разлилась, думал, что заболею.
– Откуда такая накипь?
– На союзников обозлился. Ну как они там воюют, на что рассчитывают?! Вижу их, прохвостов, насквозь. Вы, мол, повоюйте, а мы посмотрим. Так что ли? Эх, по-другому действовать надо им! Второй фронт открой – вот тогда и поверим, что вы союзники. Хитрят они, шельмуют вроде нечестного игрока. Самую последнюю карту за козырь выдают. Неблагородно это. Уж ты помолчи о международной политике. Изучил я ее. Не говори, не трави мою расслабленную печень, иначе на глазах твоих захвораю желтухой и не дойду до передовой.
– Ты слыхал, что генерал Черняховский от нас уехал? – опрашиваю друга.
Медведев встрепенулся.
– Уехал насовсем?
– Навсегда, Николай. Генерал всю передовую обошел, с людьми прощался.
– Вот беда, не пожал я нашему генералу руку, – сокрушается Медведев. – Такое дело упустил, что хоть кричи. Ведь любили мы его, как батьку. Стоящий генерал. Далеко пойдет, верь мне. Значит, со всеми прощался, говоришь ты? И ко мне, конечно, пришел бы. Эх, и всему виной эти распроклятые сапоги и длинный язык начхоза. Никогда не прощу ему такой обиды. Даже Скобелева приплел, чтобы окончательно меня убить, из полка выгнать. Попадись начхоз мне даже босиком, пальцем не шевельну, чтобы выручить. Дудки!..
Сказал я Николаю и о том, что завтра на рассвете дивизия пойдет в бой. Медведев вскочил на ноги.
– Вот с этого и надо было начитать! – произнес он, отряхиваясь и затягивая потуже ремень. – Выходит, я вовремя попаду к своим ребятам. Что ж, пойдем. Надо спешить. Пусть принимают пополнение.
Николай Медведев шагает ходко. За ним едва поспеваю. Винтер не отстает от нас.
– Я для Кармелицкого подарок несу, – сообщает он, и лицо моего однополчанина сразу светлеет, в глазах вспыхивают теплые искорки. – Сапоги ему стачал такие, что сам генерал Скобелев от удовольствия бы крякнул. Это я за то, что он идею мою поддержал. И не только за это. Хороший и справедливый он человек.
– Ты ничего не знаешь о Максиме Афанасьеве? – спрашиваю Медведева после непродолжительной паузы.
– Как не знать?! – оживляется Николай. – Письмо наше нагнало его в госпитале, который в Новосибирске находится. Оттуда и написал в роту. Отвоевался Максим, ногу отрезали. Парень совсем убит горем. На днях письмо ему послал и посылочку сообразил – сахару и две банки свиной тушенки. В тылу с харчами туговато, сам испытал это.
Солнце перевалило за полдень. Дорога по-прежнему хорошая, накатанная, подсохшая. Мы распахиваем шинели и полной грудью вдыхаем ядреный воздух.
Николай Медведев щурится на солнце, блаженно улыбается.
– Вот оно и лето, июль уже! – восклицает он. – Смотри, как хорошо кругом! Эх, и красота же! А чуть было ржавчиной не покрылся возле этих сапог… Хорошо, что вырвался на волю. Теперь, действительно, человеком себя почувствовал.
Где-то далеко впереди ухнуло орудие, потом второе, третье. Медведев на минуту остановился, прислушиваясь, затем снова зашагал по дороге.
Ночь перед боем
Тихий, безветренный вечер накануне боя. Возле штаба батальона Бойченкова отдыхают роты, два дня тому назад отведенные с переднего края. Они привели себя в порядок, пополнились новыми людьми, стали боеспособнее. Люди расположилась в низкорослом кустарнике, рядом с блиндажом командира батальона. Каждый чем-нибудь занят. Один пишет письмо, подставив под замусоленную, мятую тетрадь дно котелка. Другой чистит автомат, третий зашивает на шинели прореху.
Возле черномазого, широкоплечего бойца собралась группа людей. Это молдаванин Григорий Розан. В нашу дивизию он попал недавно. Характер у него развеселый, язык хорошо подвешен.
– Ты давай, касатик, руку, – говорит он пожилому, с пышными рыжеватыми усами бойцу. – Давай не стыдись. Поворожу и всю правду скажу.
Солдат, пряча в усы улыбку, протягивает руку с узловатыми пальцами, почерневшими от грязи.
– Так, так, касатик, – серьезно продолжает Розан. – Теперь покажи ладонь, линию жизни видеть надо. Ты, касатик, в рубашке рожден! Тебе предстоит пуд радости, два пуда счастья великого, и молодка подвернуться должна. Дома твои живут не скучают, тебя вспоминают. Жена молодцом держится, но на других поглядывает. По ночам тоской объята, потому что мужика надо. Сказал бы и другое, да линии жизни под грязью покоятся. Руки, касатик, мыть надо.
Пожилой солдат уже не улыбается. Усы подрагивают, как у кота, лицо багровеет.
– Ты глупости не говори, – сердито произносит он и отдергивает руку.
Бойцы дружно смеются.
– Что, дядя Сидор, за живое задело?
Солдат-молдаванин по-прежнему сохраняет на лице серьезную мину. Смеются одни глаза. Блестят огромные синеватые белки, зубы особенно выделяются на смуглом до черноты лице.
– Ты, дядя, позолоти руку, позолоти, касатик, – обращается он к усачу.
– Вот позолочу лопатой по цыганской спине твоей, – уже беззлобно отзываются усы.
Поодаль, под большим кустом можжевельника, расположилась еще одна группа бойцов. В центре ее – гармонист, широкоскулый, с голубыми глазами парень. Он задумчиво перебирает лады, и гармонь мечтательно вздыхает, заполняет окрестность негромкими звуками. Ей вторят солдаты.
Ты сейчас далеко, далеко,
Между нами снега и снега…
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти четыре шага.
Русские песни сменяются украинскими, белорусскими, грузинскими. Перед смертным боем наш солдат любит петь.
Людно сейчас и возле Николая Медведева. Он в десятый раз повторяет историю о том, как обвел вокруг пальца интендантов и вырвался на передовую. Люди заразительно, от души хохочут. Пуще всех заливается смехом Степан Беркут.
– Ай да Николай, ай да стервец! Вот придумал штуку! – поминутно восклицает он.
Угасает закат. На небе появляются первые звезды. Сгущаются тени. Ветер совсем утих. Лишь изредка он робко подует, коснется верхушек сосен, прошумит там монотонной песней и снова улетает прочь, чтобы не тревожить покоя солдат, их думок в этот священный для них час. А дум у каждого много. Это думы о жизни и смерти, о родном отчем крае, об этой войне, которая занесла человека далеко от своей семьи, любимых детей, родных и близких…
Ночь перед боем – тревожная ночь.
Артиллеристы коротают время прямо возле орудий. По первому сигналу они откроют по врагу огонь. Связисты полностью готовы к тому, чтобы тянуть телефонные провода на новое место. Не спят и в санитарной роте и в санбате: завтра предстоит горячая работа.
Всходит луна. Ее голубоватый свет тускло озаряет поляну, на которой расположились бойцы.
Все ждут сигнала, чтобы неслышной мягкой поступью двинуться к исходному рубежу.
Кто знает, будет ли завтра вот так же сыпать шутками и прибаутками Григорий Розан, играть на баяне голубоглазый гармонист, дождется ли своего мужа женщина, которая живет сейчас где-нибудь на Урале или под Москвой? Никто не ведает, кому выпадет в предстоящем бою печальный жребий, кто завтра уже не будет высматривать старшину роты с почтой и обедом.
Ночь перед боем – тревожная ночь.
В просторном блиндаже за самодельным столом уселись майор Бойченков, командир полка – высокий и грузный подполковник, командир артиллерийского дивизиона – сухощавый, с моложавым лицом капитан. Тут же майор Кармелицкий и инструктор политотдела дивизии. Под бревенчатым потолком плавают густые облака табачного дыма. В блиндаже душно. Лампа-коптилка, сделанная из гильзы снаряда, чадит.
Командиры еще раз уточняют задачу первого дня наступления, перебрасываются лаконичными замечаниями, обсуждают действия батальона и полка в целом при неожиданных поворотах боя. В первой половине блиндажа дежурят у телефонного аппарата связисты. Тут же дремлет Макс Винтер. На завтрашний день он также получил задание – помогать переводчику допрашивать пленных.
Полночь. Возле блиндажа – топот человеческих ног. Еще минута, и в блиндаж протискиваются люди. Это разведчики. Впереди – Люба Шведова. Ловким движением руки она отбрасывает назад башлык маскировочного халата. Русые волосы выбиваются из-под пилотки. Разведчики подталкивают к столу пленного. Немецкий офицер жмурится от света.
Нелегко достался этот «язык». Два дня просидели разведчики, изучая местность, в топком болоте, на стыке вражеских дивизий. На этом гнилом, непроходимом участке немцы не возвели сплошной оборонительной линии, выставив здесь только патрулей. Тут и перешли линию фронта разведчики Любы Шведовой. Потом этой же ночью вышли с тыла к селу, занятому врагом. Макс Винтер до этого точно и подробно описал дом, в котором жил командир немецкого батальона, он же комендант села, рассказал о привычке майора Рихтера пить по ночам коньяк и ром целыми стаканами.
Вот эта привычка старого нелюдимого алкоголика и погубила Рихтера.
Разведчики без шума сняли часового у дома майора. Когда ворвались внутрь, то увидели: майор Рихтер сидел за столам без кителя, покачивался из стороны в сторону и тупо смотрел на батарею опорожненных бутылок. В первые минуты он даже не сообразил, что произошло, ибо был мертвецки пьян. Его быстро связали, забили в рот кляп.
Так убийца русской женщины очутился с глазу на глаз с ее сыном.
– Любушка, спасибо! – говорит командир полка. – Никогда не забуду услуги. А теперь отдыхать…
Разведчики покидают блиндаж, шурша халатами.
Пленный по-прежнему стоит навытяжку. У него красивое холеное лицо, аккуратно подстриженные усики а ля Гитлер, тонкие губы. Он бледен, под глазами мешки от пьянства. Левая щека нервно подергивается.
В блиндаже наступила тишина. Майор Бойченков приподнялся с места, рука невольно потянулась к кобуре.
– Так вот ты какой, подлюка! – прошептал Бойченков бескровными губами.
Рихтер поднял руки, заслонил ими лицо, точно ожидая удара.
– А теперь рассказывай о своей обороне, показывай систему огня, расположение траншей, – приказал Бойченков.
Пленный водит по карте холеной рукой, от которой пахнет одеколоном, указывает огневые точки, позиции артиллерийских и минометных батарей. Он торопится, зная, что от этого зависит его жизнь.
– И это все? – спросил Бойченков.
– Все, господин майор.
В это время позвонили из штаба дивизии. Узнав, что взят в плен немецкий офицер, комдив приказал немедленно направить его в дивизию.
Бойченков устало опустился на скамью.
– Уведите, – произнес он, не глядя на пленного, – иначе не сдержусь, не выполню приказания…
Пленного увели.
Кармелицкий обнял Бойченкова.
– Выйдем на свежий воз-дух, Николай Петрович. Да и всем нам надо подышать кислородом, дыму-то сколько!
Офицеры выходят из блиндажа. Мы – следом.
Рядом слышится приглушенный голос майора Бойченкова.
– Понимаешь, душа горит! Вот как подумаю, что подлец ушел ненаказанный, грудь от ярости спирает. А ведь не расстреляют. Попадет в лагерь военнопленных, прикинется безобидным ягненком, потом возвратится после войны в Германию, к своей фрау и муттер, и будет слюнявить о собственных подвигах, о тяготах войны. Эх, мне бы самому объявить ему смертный приговор…
– Нельзя так, – говорит Кармелицкий. – Мы не звери, не можем платить врагу той же монетой. Мы – советские люди, Николай Петрович. К тому же приказы своих командиров мы должны выполнять свято.
– Все правильно, но мне от этого не легче.
– Нет, мы не забудем ни одного преступления, за все призовем к ответу.
Офицеры закуривают. Огонек зажженной спички выхватывает из темноты острый подбородок, худые щеки командира батальона.
– Виктор, когда я подумаю о том, что творит на нашей земле враг, – после непродолжительной паузы заговорил Бойченков, – честное слово, не верится, что когда-то на немецкой земле жил и писал Гете, что был Шиллер. Не верю сейчас, что существовала Гретхен, что страдал Вертер. Ни во что не верю! Если и живет сейчас в каком-нибудь тихом немецком городке голубоглазая Гретхен, то эта прелестная фрейлейн получает от мужа посылки из России, жрет награбленное сало, не брезгует носить кофточки и шубки, отнятые у русских женщин.
– Это гнев туманит твои мысли. Успокойся! Были у немцев и Гете и Шиллер. Много будет еще хороших людей. Но вот эту фашистскую нечисть мы должны уничтожить. За это и деремся, умираем, все переносим.
Долго еще беседуют между собой боевые друзья.
Но вот раздается голос командира полка:
– Майор Бойченков, выводите людей на исходные позиции.
– Слушаюсь, товарищ подполковник!
В темноте от отделения к отделению, от взвода к взводу, от роты к роте несутся короткие команды и приказания. На поляне колышутся массы людей. Через минуту бойцы и командиры неслышной поступью покидают поляну. На лица людей, обмундирование и оружие ложится роса. В воздухе свежеет. Чувствуется близость рассвета.
Ночь перед боем – тревожная ночь.