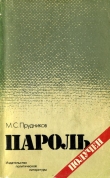Текст книги "Пока бьется сердце"
Автор книги: Иван Поздняков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Лицо врага
Дивизия с боями пробивается к Днепру. После тяжелого поражения на Курской дуге враг не может стабилизовать фронт, укрепиться на каком-либо рубеже. Все свои надежды он возлагает теперь на Днепр, где думает остановить стремительное наступление наших войск. Отступая под натиском наших войск, немцы жгут города и села, оставляя после себя мертвые пустыни. Горят нескошенные хлеба, горит степная трава, полыхают железнодорожные станции, взлетают на воздух железнодорожные мосты. Больше вреда нанести русским, стереть с лица земли все, что называется русским, осквернить их леса и реки, испоганить русские поля, зачадить трупным смрадом русское небо – вот чего хотят отступающие гитлеровские войска.
День и ночь над украинскими степями не умолкает гул артиллерийской канонады. Дрожит земля, как в малярийном ознобе.
Дороги усеяны немецкой техникой, брошенной при поспешном отступлении. Целехонькие танки и самоходные артиллерийские установки чередуются с разбитыми «оппель-кадетами», принадлежащими мелкой офицерской сошке, и «оппель-адмиралами», кожаные сиденья которых потерты жирными задами немецких генералов. В кюветах полулежат огромные штабные автобусы, валяются мотоциклы.
Повсюду разбросаны узлы, чемоданы, баулы, до отказа набитые награбленным тряпьем. Почти в каждом чемодане увидишь порнографические открытки, фляги с французским коньяком, банки португальских сардин, запечатанный порошок эрзац-лимонада. Тут же – парадные френчи с железными крестами, вшивое нательное белье, истоптанные носки, заношенные до черноты портянки. О, немцы бережливы, они не выбросят ни одну тряпку.
Эта рвань издает отвратительный запах, и даже воронье шарахается в сторону от всего, что оставил враг на дорогах отступления. Мой знакомый командир похоронной команды, служба которого и так была сопряжена с довольно-таки неприятным делом, ругался, проклинал судьбу за то, что ему приходится очищать дороги, закатывать всю эту дрянь в глубокие ямы или просто жечь на огромных кострах.
Войска быстрым маршем идут на запад. Тесно на дорогах. В воздухе висит многоголосый гомон, гул танковых моторов и артиллерийских тягачей, грохот походных кухонь, скрип армейских двуколок. В безоблачном небе одна за другой проходят эскадрильи наших штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей.
Вот оно, большое наступление! Ликует душа солдата. Хотя изнурительны марши, кровопролитны бои, адски тяжела работа солдата, полна неудобств и лишений походно-боевая обстановка, но в наших рядах не найдешь человека с постным и скучным лицом, не услышишь брюзжания, которое порой встречалось в дни обороны. Не подвезли обед – можно потуже стянуть ремень; не мылись в бане целый месяц – можно искупаться в какой-нибудь тихой украинской речушке; опаздывает с письмами полевая почта – не беда: в тылу и так знают, что мы наступаем.
Уже под вечер входим в сгоревшее село. Отсюда немцы были выбиты сегодня утром. По бокам дороги тянутся в ряд печки – все, что уцелело от хат. Из степи возвращаются к пепелищам жители.
В центре села, на площади, возле чудом уцелевшего здания правления колхоза видим пленных немцев. Бойцы-конвоиры с трудом сдерживают напор местных жителей, рвущихся к пленным. Немцы боязливо жмутся друг к другу.
– Ироды! Нашлась и на вас управа! – кричит беззубым ртом сухонькая, с трясущейся головой старуха.
Толпа неистовствует.
– Каты скаженни, смерть им!
– Смерть подлюкам!
– Дайте их нам, мы зробымо то, що воны з нами робылы!
Крики внезапно обрываются, на площади наступает тишина. Люди смотрят в одну сторону. К уцелевшему дому приближается несколько местных жителей. Они несут полуобнаженную мертвую женщину. Голова ее запрокинута, и две косы тянутся по дороге, оставляя в пыли неглубокие бороздки. Толпа расступается. Женщину кладут возле крыльца. Прекрасное, молодое, здоровое тело погибшей осквернено. На грудях, по-девичьи упругих, застыли черные сгустки крови, на теле – кровоподтеки и синяки.
– Ой, бабоньки, що ж воны зробылы с Оксаной?! – разрезало тишину женское причитание.
– Воны всим гуртом, як скоты знущались з ней, – пояснял солдатам-конвоирам высокий, худой, как скелет, дед. – Я в коноплях сидив, все бачив. Як скоты… А потим убылы.
Толпа снова волнуется, бросает в лицо пленным страшные проклятия.
Мы сделали для Оксаны гроб, обили красной материей и установили его в уцелевшем здании правления колхоза.
А вечером рядом с гробом, в котором лежала красавица Оксана, появился второй. В нем вечным сном уснула любимица дивизии смелая разведчица Люба Шведова.
…В канун этого дня Люба Шведова с тремя разведчиками углубилась далеко из тыл отступающего врага. Засекли на карту немецкие батареи, установленные на новых оборонительных рубежах, обнаружили свежую танковую дивизию врага, прибывшую на подкрепление отступающим частям. Эти ценные сведения нужно было срочно передать в штаб дивизии.
Разведчики возвращались назад. Шли поодаль от больших дорог, балками, редкими дубовыми рощами. Уже недалеко от своих наступающих частей, в дубовой роще, на поляне, разведчики увидели четырех немецких автоматчиков. Перед ними, на краю свежевырытой могилы, стояли обнявшись молодая женщина и паренек-подросток. Что могла предпринять Люба? Ей предписывалось избегать всего, что может помешать доставке в штаб добытых сведений. Но разве могла она не спасти этих двух приговоренных к смерти? Разве могла она уйти, оставив людей в беде?
По команде Шведовой разведчики открыли автоматный огонь по немцам. Трое из них были убиты наповал, четвертый, падая, успел пустить из автомата длинную очередь. Люба Шведова была смертельно ранена. К ней подбежали товарищи и те двое, которые спаслись от расстрела – местная учительница и ее братишка. Тело Шведовой несли километров двадцать, пока не пробились к своим. Вместе с разведчиками прибыли в дивизию и спасенные от смерти партизаны.
Проститься с Любой Шведовой пришли командир дивизии, начальник политотдела, офицеры полков.
Возле гроба своей невесты стоял Василий Блинов. Землистого цвета лицо его окаменело и казалось, что оно сейчас недоступно ни самому большому горю, ни самой большой радости. И только в глазах было столько отчаянной боли, столько жуткой тоски, что в них было страшно смотреть.
Степан Беркут надрывисто дышал, переминался с ноги на ногу, толкая людей. Он достал из вещмешка голубую газовую косынку, осторожно покрыл ею голову девушки.
– Хотел подарить в день Победы…
Степан дико завращал глазами и рванулся к порогу, чтобы не показать людям, как он умеет плакать – с матерной бранью и скрежетом зубов.
Трогаю за плечи Василия:
– Выйдем на улицу.
Блинов повинуется.
В сарае, где разместились разведчики, я налил из фляги полный стакан водки, протянул его своему другу.
– Выпей, полегчает…
Василий оттолкнул стакан.
– Убери!..
Солнце клонилось к горизонту, когда к нам пришла Анна Резекнес. Уселась рядам с Блиновым, долго молчала, потом осторожно коснулась руки Василия.
– Родной мой, я пришла, чтобы утешить вас. Мужайтесь! Я знаю, кем была для вас Люба, и теперь ваше горе – это мое горе.
Блинов поднял голову.
– Уйдите!
Анна жалко и виновато заулыбалась.
– Простите, если я сделала что-нибудь не то. Но я искренне волнуюсь и переживаю за вас…
Блинов поморщился:
– Уйдите!..
Сгущаются сумерки. Мимо полуразрушенного сарая идут войска. Гремят походные песни. Когда они стихают, слышен тысячеголосый говор:
– Иван, не стучи котелком: на нервы действует.
– Тебе тогда не на войне быть, а цветочки в поле собирать.
– Эй, славянин, застегни шинель! В таком виде ты на попа смахиваешь.
– Священных особ пуля не трогает, вот и хочу походить на попа.
– Папаша, дай понесу пулемет…
– Не папаша, а товарищ сержант!
– Тогда извините, а все-таки дайте я вам помогу.
– Что ж, пронеси его немного, уж больно тяжел. Спасибо, сынок, за помощь. Уважительный ты…
– Не сынок, а товарищ старшина…
– Простите, не разглядел.
– Шире шаг, товарищи! Держать равнение! Левой! Левой! Левой!
– Запевала, песню!
Шумит на дороге война. Ей нет дела ни до красавицы Оксаны, ни до разведчицы Любы, ни до горя, которым охвачен мой друг.
На похоронах не было речей. Мы стояли с обнаженными головами на окраине сожженного врагом села, стояли молча, и только громкий плач женщин и одержанное всхлипывание стариков нарушали эту тяжелую, горькую, как слеза, тишину.
И снова вперед, на запад, двинулись колонны бойцов. Не слышно шуток. Не слышно песен. Даже балагур и весельчак Григорий Розан не проронит слова. Идет, плотно сжав челюсти. Цыганские глаза блестят недобрым огонькам, брови сошлись на переносице; под смуглой и сухой, как пергамент, кожей играют желваки.
Пылит дорога. Угасает закат. Впереди ухают орудия. Ветер доносит едкий запах гари и трупов.
Что мы увидим завтра утром в освобожденных селах? Кого будем хоронить? Сколько еще мы увидим крови, страданий и слез? Вот об этом мы думали в ту теплую украинскую ночь, когда спешили на запад, где еще буйствовал, упивался русской кровью враг. В ту ночь бойцы упросили командиров не делать привала, хотя прошли более пятидесяти километров без сна и отдыха.
Надо было спешить, чтобы драться, гнать врага, уничтожить его и на Днепре.
Петро Зленко бунтует
Лишь десятки километров отделяют нас от Днепра. Но очень тяжелы эти километры.
На окраине уцелевшего села, в котором расположился на короткий отдых полк Бойченкова, я встретил своего старого знакомого повара Петра Зленко. Давно мы с ним не виделись. У командира полка я иногда отведывал обеды, приготовленные Зленко, но самого Петра не встречал: скромный и стеснительный по характеру, он не любил вертеться на глазах у начальства, предпочитая отсиживаться на своей кухне. Обеды командиру приносил его помощник, низкорослый, с угрюмым лицом и всегда молчаливый солдат Иван Костенко. Говорят, на полковую кухню он попал по протекции самого Зленко и почитает Петра больше отца родного.
Петро ничем не изменился с того дня, когда я видел его в последний раз в деревне на берегу Волховца. Тогда он бежал к Василию Блинову, чтобы передать кулек коржиков «маленькой дытыне» Марточке. Тот же простодушный взгляд, румяные щеки, могучие, как свинцом налитые плечи, огромные ручищи, которыми, пожалуй, можно задушить медведя.
– Вот и дошел ты до Украины, – оказал я Петру.
Глаза добряка-повара как-то сразу потемнели.
– Дошел, а на сердце сумно. Бачишь, що нимцы роблять: жгут, убивают, вешают. Каты, а не люды! – отозвался Зленко.
Он ваял меня за локоть, отвел к своей походной кухне, усадил на фанерный ящик, сам присел передо мной на корточки и заглянул мне в глаза просящим взглядом.
– У мэнэ дило до тэбэ…
– Говори, Петро, чем могу, тем и помогу.
– Порешил я бунт поднять, – произнес он полушепотом.
– Что за бунт и против кого?
Зленко заговорил быстро, смешивая русскую речь с украинской.
– Против полкового начальства бунт пидийму. Годи мени поваром воюваты. Треба в роту. Соромно подумать, що я, здоровый бык, на кухне працюю. Украину трэба вызволять, а не поварешкой орудовать. Ты разумиешь мэнэ?
– Все понимаю, Петро. Но тебя не отпустят.
Зленко насупил белесые брови.
– Нэма такого закона, щоб чоловика всю вийну поваром держаты. Нэма! Листа до Москвы напишу, а своего достигну. Побачать, який Петро Зленко! Ты поддержи меня, как ридного брата прошу – поддержи.
– Что ж, Петро, я поддержу тебя.
Зленко просиял.
– Значит, в газете напишешь, що соромно Петра Зленка заставлять працюваты на кухне, колы вин воевать просится.
– В газете, Петро, не напишу, а перед начальством слово замолвлю.
– Дякую и за это! Дуже дякую!
Зленко пододвинулся ко мне вплотную.
– Ты чув, як Микола Медведев в роту вернулся? Вин чоботы шив, но вот не захотел в тылу прохлаждаться и настояв на своем. Я с Мыколой позавчера беседовал. Боевой хлопец. Ордена мае. Обедом його угостил. Кушает и посмеивается: ты, мол, Петро, танки рукой опрокидывать можешь, но почему-то на кухне сидишь. Тут вин и про свою историю с чоботами рассказав. Дуже цикава история. Тильки не можу я так поступить. Зварю поганый обид, так командир полка цилый день в кусты бигаты буде, про боевую справу забудет. Не можу так. Уж я по-честному бунтовать буду. А теперь пойдем обедать.
В тесной украинской хате, с земляными полами и давно небелеными стенами, хлопотал возле стола Иван Костенко. Дымятся в огромной миске вареники, сдобренные перцем и топленым маслом, сюит кувшин молока.
Усаживаемся за стол.
– Идите, диду, снидать, – громко произнес Зленко, и тотчас же с печки донесся хриплый, словно простуженный старческий голос:
– Зараз, сынку, зараз…
С печки свесились сначала босые ноги, потом показалась взлохмаченная голова старика.
– Це наш хозяин, – пояснил Зленко. – Один остался. Старуху зимой схоронил, а дети и внуки в армии, известий никаких.
– Нэма, нэма чуток про них, – подтвердил старик, осторожно опускаясь с течи. Он не спеша подошел к столу, чинно уселся, деликатно кашлянул в кулак и, как ребенок, который ждет угощения от родителей, уставился на Зленко кротким взглядом подслеповатых слезящихся глаз.
– Вы, диду, не сумуйтэ, – попробовал успокоить хозяина Петро Зленко. – Може ще и побачите сынов и внуков.
– Колы поварами воюют, як ты, тоди побачу, – беззлобно и примирительно отозвался старик.
Лицо Петра вспыхнуло, и Петро выскочил из-за стола, как ошпаренный.
– Годи! Иду бунтовать!
– Да ты чого, сынку, гниваешься? – опросил хозяин. – Я не хотив над тобою насмихатысь. Радуюсь, що у тэбэ должность гарна.
– Эх, диду, ничего вы не разумиете! Снидайте, а я пиду.
Командира полка повар не застал: подполковника Бойченкова вызвали в штаб дивизии. Разговаривал Петро с заместителем командира полка по политчасти майором Гордиенко.
В полк Гордиенко был переведен из политотдела дивизии, где он служил инструктором. Сам напросился. Пришел как-то к начальнику политотдела и сказал: «Надоело все время представителем быть, хочется послужить самостоятельно. Пошлите в полк». Просьбу удовлетворили, и вскоре бойцы увидели на переднем крае коренастую фигуру нового замполита. Пулям он не кланялся, часто ночевал прямо в ротах, на передовой, «снимал крепкую стружку» с хозяйственников, когда у них случались казусы, любил и песни с бойцами попеть. Голос у него был приятный, грудной. В полку о нем говорили, что человек он дотошный, но справедливый, что по характеру своему напоминает Кармелицкого.
– Значит, ты окончательно решил оставить кухню и пойти в роту? – спросил у Зленко замполит.
– Окончательно, товарищ майор.
– Может быть, слово обратно возьмешь, передумаешь?
– Не возьму назад своих слов. Хочу в роту, хочу своими руками зныщать ворогив, которые лютують на моей батькивщине. Сердце горит, товарищ майор. Спать не можу. Вы уж не агитируйте…
В зеленоватых глазах замполита вспыхнул теплый огонек.
– А кухню на кого оставляешь? Кто меня и командира кормить будет?
– Я уже навчив Ивана Костенко. Не хуже меня готовит.
– Не преувеличиваешь?.
– Честное слово даю. Последнюю неделю он сам готовил обеды. Разве не подобались?
– Что ж, обеды хорошие, обижаться грех. Но скажи, Зленко, что ты умеешь делать по солдатскому ремеслу?
– Все умию. Стреляю гарно из пулемета, противотанкового ружья, из винтовки, гранату на восемьдесят метров бросаю.
– Не хвалишься?
– Можете испытать!
– Пусть будет по-твоему: испытаем тебя. Сдашь экзамен, тогда возражать не буду, иди в роту.
Экзамен на солдата Зленко держал на окраине села, в глубоком овраге. Сюда собралось немало бойцов и командиров, чтобы видеть, как великана-повара испытывают на солдатскую хватку.
Петро Зленко приказал завязать себе глаза. Василий Блинов охотно исполнил просьбу повара. С повязкой на глазах Петро разобрал и собрал станковый и ручной пулеметы, винтовку, автомат. Послышались одобрительные возгласы:
– Здорово получается!
– Словно у часового мастера.
– У такого оружие не откажет в бою.
– Теперь покажи, как стреляешь, – предложил замполит.
Зленко без промаха поразил все самодельные мишени, выставленные в овраге. Тут были порожние бутылки, консервные банки, листы из ученических тетрадей. Кто-то из бойцов-болельщиков примостил на дальнем склоне оврага тыкву, на желтом боку которой углем была намалевана физиономия Гитлера. Зленко методически посылал в затвор патрон за патроном, щурил левый глаз и плавно нажимал на спусковой крючок. Выстрелы рвали тишину, и разлетались вдребезги бутылки, с дребезжащим шумом подскакивали в воздух консервные банки, а на физиономии фюрера одна за другой появлялись пробоины. Кто-то подбросил в воздух пилотку. Петро Зленко вскинул карабин и продырявил неожиданно появившуюся цель с первого выстрела. И опять восхищенные возгласы:
– Ай, шельмец, любому снайперу нос утрет!
– Молодец, Петро! В солдаты годишься!
Майор Гордиенко хлопает Петра по спине.
– Ты скажи, где всему научился?
Зленко, польщенный похвалой замполита, простодушно улыбается, вытирает огромным носовым платком вспотевшее, возбужденное лицо и говорит нараспев:
– Давно готовлюсь в солдаты. Обид сварю и до Василя Блинова в гости. Вин и навчив.
Гордиенко переводит взгляд на командира взвода.
– Значит, ты готовил повара?! Выходит, ты подговорил, чтобы Зленко бросил поварскую должность?
– Так точно, товарищ майор! Я готовил Петра, я учил его. Но бросить кухню он задумал сам, сам до такого стратегического решения дошел. Уж тут я не виноват буду, если вы без повара-чудотворца останетесь.
– Может быть, ты еще попросишь, чтобы Зленко в твоем взводе был?
– Вот об этом я как раз и прошу вас, товарищ майор. Пусть Зленко будет у меня.
Замполит разводит руками, смотрит вопросительно на начальника штаба полка.
– А ведь хитер Блинов. Лучших бойцов забирает. Недавно Григория Розана взял, теперь подавай ему и Петра Зленко. Как ты думаешь, удовлетворим просьбу?
– Можно удовлетворить, – ответил начальник штаба. – У старшего лейтенанта Блинова наш повар без дела сидеть не будет.
На этом и порешили: бывшего повара Петра Зленко зачислить во взвод Василия Блинова.
Вечером, когда полк двинулся к линии фронта, Петро Зленко, сияющий и довольный, шагал с разведчиками, рядом с Григорием Розаном.
Молдаванин и украинец познакомились давно, еще на Северо-Западном фронте. В кругу солдат Григорий Розан так рассказывал об этом знакомстве:
– Иду в новый полк. Тут должна продолжаться моя служба. Жаль, конечно, прежних друзей, да что поделаешь – война! Не унываю: на новом месте будут и новые друзья. Выхожу на поляну. Вдалеке блиндажи, часовые, а немного на отшибе – кухня дымит. Обрадовался ей, как родной матери: три дня на сухом пайке был. Знакомство с полком начинаю с кухни – примета хорошая. Подхожу ближе и вижу, как верзила-повар черпаком, словно тростинкой, в котле вертит. Думаю, такому оглобля нужна, а не черпак. Делаю умилительное, подхалимское лицо и говорю: «Не попотчуете ли, дорогой товарищ повар, отощавшего и горемычного служивого. Всю дорогу шел и о кухне вашей мечтал». Великан смерил меня взглядом, молча кивнул. Эге, думаю, клюнуло. Усаживаюсь тут же, возле кухни, и не успел глазом моргнуть, как передо мною появился котелок со щами. От их запаха в голове кружение пошло. Начал я ложкой орудовать за семерых. Повар подсел и спрашивает: «Новичок?!» – «Новичок, товарищ повар». – «В боях бывал?» – «Не приходилось, товарищ повар!» Неспроста я солгал: к новичкам, к необстрелянным юнцам, люди относятся всегда покровительственно, рады во всем угодить. Я же, скажу вам, на второе блюдо рассчитывал. Вот тут и стал меня повар поучать, как в бою держаться, как окоп рыть, как из-под минометного огня выходить. Слушаю почтительно и жду, когда же он догадается котлеток подбросить. Тут как назло и расстегнись моя шинель. Увидел повар орден у меня на гимнастерке, вспыхнул от досады, глаза выкатил на лоб, да как гаркнет: ты, мол, обманщик, зачем простаком, невинным ягненком прикидываешься? Уходи, говорит, с моих глаз, людей с кривой душой терпеть не могу. Оробел я. Думаю, если такой схватит ручищами поперек тела, обязательно ребра недосчитаешься. Но повар тут же остыл и оказал примирительно: «Стыд я большой испытываю, что бывалого и храброго бойца военным наукам обучал. Ты уж прости»… Навалил он мне котлет в миску и с собой всякой снеди надавал. Словом, не ошибся я: встреча с полковой кухней – примета хорошая. Все равно, что женщина с полными ведрами. Иди тогда смело, не унывай, все, что задумал – исполнится.
Теперь бывший повар идет рядом с Григорием. Балагур-молдаванин не умолкает ни на минуту. Все мы с интересом прислушиваемся к его беседе с Петром Зленко.
– Ты, Петр о, заповеди солдатские знаешь?
– Ни, Грицко, нэ чув про таки заповеди.
– Тогда запомни, садовая твоя голова. Первая заповедь – никогда, не отрывайся от кухни, иначе без обеда останешься. Вторая – когда обстановка неясная, ложись спать. Пока обстановка прояснится, выспишься. Третью заповедь запомни – не попадайся на глаза начальству, кроме проборки, ничего не получишь…
– Ох, и язык же у тебя, как помело! Брешешь ты все, Грицко.
Григорий не унимался.
– Ты окажи, что солдату страшнее всего на свете?
– Ей-богу, не знаю, – признайся Зленко.
– Тогда запомни: мозоль на ноге – самое страшное, с нею ни отступать, ни наступать…
А Розан продолжал:
– Ты, медведь киевский, знаешь, как сало по компасу находить?
Петро Зленко от души рассмеялся.
– Знову байки казать станешь?
– Ты слушай и на ус мотай. На войне все пригодится. Вот представь, заходишь ты в село и так тебе сальца захотелось, что прямо под ложечкой сосет. Но где достать? Вот тогда и нужна солдатская смекалка. Обратишься ты к хозяйке, но она скажет, что сала у нее уже десять лет, как нет. Клади тогда на стол компас и говори молодке, что стрелка точно покажет, где спрятано это лакомство. Сразу появится перед тобой кусок свежего украинского сала, с чесноком и перчиком. Ты ей назамен баночку или две свиной тушенки или сахарку. Выходит, и вымогательства не будет, и оба вы при хороших интересах останетесь.
Долго еще длится эта беседа. Григорий Розан неистощим на выдумки. Хорошо иметь такого бойца рядом, тогда и ночной марш не будет слишком утомительным, и сон не посмеет одолеть тебя на фронтовой дороге. Идешь легко и свободно, и кажется, что можно пройти, без отдыха, одним махом, сотни километров.