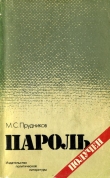Текст книги "Пока бьется сердце"
Автор книги: Иван Поздняков
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Испытание огнем
Оглушительно рвутся бомбы. Невольно зажимаешь уши, чтобы не лопнули перепонки. Вокруг стоит грохот и треск, точно ты накрыт цинковым ведром, по которому изо всей силы бьют железным прутом.
Огромные фонтаны земли взлетают вверх. Глыбы пересохшего грунта и мелкие камни барабанят по каске, больно бьют по спине, засыпают окопы. Рот, ноздри и уши залеплены пылью. Трудно дышать. Время от времени выклевываешь изо рта густую, грязную массу. Больно смотреть: глаза полны песка.
В воздухе стоит пронзительный вой осколков. Они поют на все лады: басом, фальцетом, дискантом – в зависимости от своих размеров.
Отсиживаться на дне окопа или траншеи нельзя, нужно следить за полем боя. Мы уже раскусили хитрые и коварные повадки врага. В то время, когда авиация обрабатывает наш передний край, немцы обычно почти вплотную подходят к нам, чтобы потом, когда отбомбятся их самолеты, броситься в атаку, оглушить нас внезапностью.
Мы замечаем на нейтральной полосе человеческие фигурки. Они приближаются к нам короткими перебежками, цепь за цепью. Враг уверен, что мы прижаты на дно окопов.
Бомбы уже не рвутся, хотя самолеты все так же заходят в атаку, пикируют почти до самой земли, но не бомбят. Немецкие летчики включили сирены, звук которых имитирует свист авиационной бомбы.
Продолжаем следить за полем боя. Идущие в атаку немецкие солдаты уже не опасаются, не делают коротких залеганий. Бегут в полный рост. Уже хорошо видны их разгоряченные лица.
Пора!
И мы открываем огонь. Захлебываются пулеметы и автоматы, заглушая сухой треск винтовок и карабинов. Бьем в упор.
Немецкие солдаты залегают. Наш огонь усиливается. Мы не даем врагу поднять головы, не даем опомниться.
В небо взвиваются две красные ракеты: фашисты подают сигнал своей авиации, которая начала уходить от переднего края. Самолеты возвращаются и опять пикируют, истошно и надрывисто завывая сиренами.
Хитрим и мы. На минуту прекращаем огонь. Пусть атакующий враг думает, что мы уже на дне траншей, что мы не покажем носа, пока не улетят самолеты.
Немецкие солдаты опять вскакивают, бегут вперед. Вновь оживают наши окопы, встречая атакующих дружным огнем. Враг откатывается к своим позициям.
И вдруг наступает тишина, которая давит на ушные перепонки сильнее только что умолкнувшего адского грохота. Эта тишина кажется чем-то невероятным, неестественным.
Стряхиваем с себя песок и глину, проверяем оружие, осматриваем друг друга.
У политрука Кармелицкого на щеке кровь. К нему подбегает Блинов.
– Вы ранены?
– Пустяки, осколком царапнуло. Только сейчас заметил.
– Сколько продолжался бой? – спрашивает кто-то из нас.
Кармелицкий вытаскивает карманные часы, долго смотрит на них из-под взлохмаченных бровей, прикладывает к уху, недовольно морщится.
– Остановились проклятые, не выдержали…
– Сейчас ровно десять, – сообщает техник-лейтенант Воробьев. – Значит, бой продолжался целых два часа.
– Не может быть! – восклицает Степан Беркут. – Не больше десяти минут длилась вся эта свистопляска.
– А по-моему, даже больше двух часов, – замечает Царин.
– Нет, ровно два часа, – повторяет командир взвода.
Техник-лейтенант Воробьев бледен. В глазах – нездоровый блеск. Губы запеклись, щеки ввалились. Льняные волосы прилипли к потному лбу. Под левым глазом подергивается тик. Заметно дрожат руки.
Он по-прежнему все время тихий, незаметный. Вместе с нами ходит в атаки, пулям не кланяется. Но все делает как-то угрюмо, с повышенной нервозностью. Воробьев еще больше замкнулся в себе. В беседы с нами не вступает, а если и заговорит, то лишь на сугубо официальные темы: все ли накормлены, исправно ли оружие, в достатке ли боеприпасов.
Ужинаем ли мы – он сидит в стороне, сутулится, сжимает между колен алюминиевый котелок и вяло работает ложкой; коротаем ли ночь в траншее, о чем-нибудь говорим, вспоминаем прошлое – он опять один. Смотрит на пылающий Новгород, о чем-то мучительно думает и курит, курит. Иногда хочется подойти к нему, назвать его не техником-лейтенантом, как положено по уставу, а просто по имени и сказать: «Евгений Васильевич, идемте к нам. Одиночество на войне – вещь очень плохая и неудобная…»
Итак, первая атака врага отбита. Оружие приведено в боевую готовность. Подсчитываем свои потери. В нашей роте трое ранено и двое убито – это всегда рассудительный, степенный сверхсрочник механик-водитель Масленкин и башенный стрелок Коротеев, совсем еще юнец. Только вчера он получил письмо от девушки, читал его почти всей роте, и почти вся рота сочиняла ответ.
– Может, уже не сунутся, – делает предположение Степан Беркут. – По зубам они крепко получили…
В ту же минуту слышим Царина:
– Кажется, опять будет жарко!..
На горизонте, в стороне противника, небо усеяно еле различимыми, крохотными точками. Они быстро увеличиваются в размерах, беззвучно приближаются. Изменивший направление ветер относит в сторону гул авиационных моторов. Самолеты идут на нас, как на экране немого кино.
– Торопятся на свидание! – громко зубоскалит Степан Беркут. Смеется, а лицо бескровное. Поблекли даже огромные веснушки, густо высыпавшие на чуть вздернутом носу, на щеках и подбородке. Из-под каски выбивается рыжая чуприна, и Степан сердито теребит волосы, торопливо запихивает их под каску, чтобы не мешали смотреть.
Немцы открывают артиллерийский огонь. Одновременно где-то позади нас раздается залп наших батарей. Значит, подошла к нам артиллерия.
И опять по обеим сторонам траншеи рвутся бомбы. На этот раз фашистские самолеты штурмуют наши позиции особенно долго и ожесточенно. Все сливается в сплошной грохот.
На поле боя появляются немецкие танки, за ними цепи солдат. Издалека танки похожи на неуклюжих мирных животных, которых гонят сзади маленькие человечки. Они покорно движутся вперед, покачиваясь бронированными телами.
На одно мгновение поворачиваю голову, чтобы видеть Кармелицкого, Василия Блинова, всех друзей по роте, и замечаю в нашей траншее командира дивизии. Рядом с Черняховским – незнакомый майор-артиллерист, командир батальона капитан Лямин – и еще несколько командиров. Майор-артиллерист надрывисто кричит что-то в телефонную трубку.
Командир дивизии одет в тот же синий комбинезон танкиста, в котором мы видели его на дорогах Прибалтики. Щеки чисто выбриты, между бровей – знакомая всем глубокая складка. Стоит в полный рост, не отрывая глаз от бинокля. Точно на обыкновенных тактических учениях.
Вокруг немецких танков вырастают султаны разрывов: ведут огонь наши артиллерийские батареи. Разрывы все ближе подступают к бронированным машинам. Вот останавливается один танк, он нелепо вертится на одном месте, как огромный котенок, играющий своим хвостом. Через минуту он обволакивается густым дымом. Загорается второй танк, потом третий…
– Огонь! Беглым из всех орудий! – кричит в телефонную трубку майор-артиллерист.
Фашистские танки пятятся назад, под их прикрытием отходит и пехота.
В этот день мы отбили пять неприятельских атак. Бой утих только с заходом солнца.
Командир дивизии идет но траншее.
– Вы давно здесь? – обращается он к политруку Кармелицкому.
– С прошлой ночи, товарищ комдив.
– Как настроение людей?
– Нытиков и трусов нет. Деремся… Черняховский замечает Блинова.
– Здравствуйте, красноармеец Блинов! Поздравляю вас с наградой! Вчера получен указ о награждении вас орденом Красной Звезды.
– Служу Советскому Союзу!
– Тяжело, товарищ Блинов, воевать? – спрашивает комдив.
– Нелегко, трудно даже, – отвечает Василий. – Вот авиации и танков наших не видим. Скучно без них.
– Знаю, что тяжело. Но дайте срок – будут у нас и танки и авиация. Пока их мало. Вывод один – рассчитывать надо только на самих себя. – И добавляет тише: – недавно был в медсанбате, видел там вашу Марту. О вас спрашивает. Дал слово ей, что прикажу вам, как только представится возможность, навестить ее.
– Рад буду выполнить такое приказание, товарищ командир дивизии.
Наступает ночь. Бодрствуем. Уже четвертые сутки нервное напряжение гонит от людей сон и усталость, заглушает позывы голода.
Новгород горит. Огромный пожар то затихает, то разгорается с новой силой. Отсветы огня ложатся на наши окопы, озаряют нейтральную полосу, где застыли черные остовы подбитых немецких танков.
Ветра нет. Воздух недвижим, душно, как днем.
Тут и там раздается говор людей.
– Вот тяну я эту стерву, этого борова, – десятый раз повторяет свой рассказ Степан Беркут, – а он, дьявол, к пистолету тянется…
– Ты эту штуку полковому интенданту подари, – советуют Беркуту. – Преподнеси с подхалимской рожей, в убытке не будешь…
– А ведь это идея, хлопцы! Обязательно подарю. Может быть, и подкинет в роту что-нибудь особенное.
– Проси шампанского на весь личный состав.
– Не забудь о черной икрице упомянуть.
– Ананасы пусть выпишет.
– А это что за штука? – спрашивает Беркут.
– Черт его знает, вычитал где-то: ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний подходит, буржуй. Вот и заключил, что штуковина эта съедобная.
В другом месте:
– Петро, осталось ли что во фляге?
– Есть, да не про вашу честь.
– Значит, сам вылакал?
– Дурень, и слова дурные. На, подержи, сам убедишься, что полная.
Минутная тишина и снова голос:
– И впрямь полная. Зачем бережешь?
– Запас еды не просит. Может, еще и пригодится.
– А все-таки для бодрости неплохо б пропустить глоточек…
– Опять дурные слова. Это фриц для бодрости шнапсом накачивается.
Максим Афанасьев разговаривает с бойцом соседнего взвода.
– Понимаешь, все поле излазил, кругом обыскал, но Николая так и не нашел. Куда он мог пропасть? Странно…
Не участвует в разговорах одни Царин. Сидит на дне траншеи притихший, съежившийся в клубок. Можно подумать, что он спит или дремлет, если бы не тлеющий огонек папиросы, которую нервно сосет Борис.
Блинов шепчет мне:
– Захандрил парень. Смотри, как приуныл. Стал маленьким, незаметным человечком.
– Ты несправедлив к нему.
Василий не сдается:
– Характер Бориса изучил я отлично. Еще в гражданке встречал таких, как Царин. Никого они не любят. Случится беда, они теряют голову, хнычут, думают лишь о своем горе, о самих себе, а на остальных им наплевать.
Не нравится мне, что Блинов говорит сейчас о Борисе с такой злостью и такой категоричностью. У всех сейчас на сердце кошки скребут, а в голове – тяжелые, невеселые думы. Настроение такое, что не захочешь ни песни петь, ни переброситься с друзьями безобидной шуткой.
– Почему его защищаешь?
– Потому что ему нелегко. Война – не прогулка.
– А другим легко?! Но другие не вешают носа… Ты заметил, с каким лицом он ходит в атаки? Однажды я взглянул и страшно стало. И на спину посмотри его. Сгорбился, вобрал в плечи голову. Может быть, это временно. Оботрется на войне.
Возле изгиба траншеи, за которым располагается соседняя рота, о чем-то беседуют политрук Кармелицкий и техник-лейтенант Воробьев.
Слабые покидают строй
Оставляем Новгород. Отходим, яростно отстреливаясь. Враг захватывает улицу за улицей. Город по-прежнему охвачен огнем.
Приказано отступать к Кирилловскому монастырю, который расположен на отшибе, уже за чертой города. Чтобы достигнуть монастыря, надо преодолеть большое, поросшее густой высокой травой поле.
Вечереет. Льет проливной дождь. На теле нет сухой нитки.
Ребята нашего взвода держатся кучно. Не видно среди нас только Бориса Царина. Рядом со мной бежит Степан Беркут. Еще утром осколком снаряда ему располосовало брюки и кальсоны так, что в прореху видно тело. В короткие перерывы между атаками над этим событием зубоскалила вся рота. Беркут хохотал вместе с товарищами, материл немцев за то, что они осрамили его перед всем светом.
Занимаем оборону возле монастыря. Когда отступали, все смешалось. Но вот роты и батальоны, страшно поредевшие, опять слились в боевые единицы. Из нашей роты едва ли составишь теперь взвод.
В наскоро отрытом окопе лежу вместе с Василием Блиновым.
– Здорово нас потрепали, – бурчит Василий и, наклонившись над моим ухом, продолжает уже шепотом: – Кажется, Царин остался в Новгороде. Мы бежали сначала рядом, потом он отстал. Когда я оглянулся, он юркнул в один из домов на окраине.
– Так это же плен!!!
– И я так думаю. Не понимаю только, как он решился на это, сволочью стал?
– А ты не ошибся?
– Категорически не утверждаю. В те минуты черт знает что могло померещиться. Пожалуй, я ошибся. Да, да, просто померещилось. В этом я уварен.
Подходит политрук Кармелицкий. Хмурый, злой, неразговорчивый. Усаживается на могильной плите, широко расставив ноги, молчит, попыхивает папироской, спрятанной от дождя в кулак.
Дождь не прекращается. Незаметно вечер переходит в ночь.
– Дайте кто-нибудь хоть кальсоны, – раздается в темноте голос Степана Беркута. – Неудобно так, да и холодновато…
Кальсоны для Степана находятся.
– После войны возвратишь, заказной бандеролью вышлешь, – смеется боец, выручивший Степана.
– Новые куплю, да еще галстук в придачу, – отвечает Беркут.
Все погружено в кромешную темноту. Над головами шумят вековые липы, потоки дождя хлещут но могильным плитам, барабанят по цинковой монастырской крыше.
Василий Блинов трогает меня за плечо.
– Перекусим что ли?
– Стоит ли возиться, смотри, как льет…
– Не обращай внимания. Подкрепиться надо, иначе богу душу отдашь…
Мой друг возится с вещевым мешком.
– Надрывай меня и себя плащ-палаткой, чтобы еду не замочить, – приказывает Василий.
Слышен скрежет ножа о жесть консервной банки.
– Товарищ политрук, – говорит в темноту Василий, – присаживайтесь к нам, перекусим малость.
Политрук Кармелицкий приподнимается с могильной плиты, шуршит одубевшей плащ-палаткой, подходит к нам.
– Что у вас тут?
– Консервы.
– Не откажусь.
– Тогда идите к нам и берите ложку, – предлагает Блинов. – У меня есть чем и согреться…
– Где добыл? – спрашивает Кармелицкий.
– В первый день, как вошли в Новгород. В разбитом винном погребе наполнил флягу. Берег для особого случая. На войне всякое бывает, порой и эта жидкость очень необходима человеку. Вот и не грех принять небольшую порцию, чтобы согреться.
У Блинова припасен для такого случая небольшой металлический стакан. Пьем по очереди.
– У тебя и сухари не промокли, прямо колдун, – замечает политрук.
– Вещевой мешок под животом держал, – поясняет Василий. – Война войной, а про харчи не забывай.
– Это верно, – соглашается Кармелицкий. – Вижу, человек ты хозяйственный, аккуратный. Все припасено у тебя.
– Без этого нельзя. Воевать не на один день собрался. Налегке по фронтовым дорогам не пройдешь…
– И это правильно. Кстати, нет ли спичек? Мои размокли.
– Найдутся, товарищ политрук. Держите коробку, она в пергаментную бумагу завернута. Сухонькая, как из магазина.
Политрук зажигает спичку. Огонек на мгновение озаряет крохотное пространство под плащ-палаткой, наши головы, склоненные над остатками скромного ужина. Защищены от дождя только головы. Остальное – плечи, спина, ноги мокнут под проливным дождем. Он барабанит по плащ-палатке, по нашим спинам. Дождевая вода хлюпает под животом и грудью, холодит тело.
Где-то в темноте, как хлопок мухобойки, раздается приглушенный пистолетный выстрел. Кто-то бежит в нашу сторону, хлюпая сапогами. Человек останавливается возле нас, натуженно, хрипло дышит, отодвигает край плащ-палатки, которой укрыты наши головы. В лицо бьют колючие струи дождя.
– Товарищ политрук, пойдемте, – зовет Степан Беркут. – Случилась беда…
Кармелицкий вскакивает.
– Что произошло, товарищ красноармеец?
– Техник-лейтенант Воробьев застрелился, – вполголоса сообщает Беркут.
– Не говори глупостей!
– Сам видел. Прямо в висок…
– Только тише, без шума, – предупреждает Кармелицкий.
Бежим, спотыкаясь на могилах, за Степаном Беркутом.
– Здесь, – произносит Беркут, останавливаясь.
Кармелицкий зажигает карманный фонарь. Его слабый, неровный свет с трудом пробивается через густую сетку дождя, ложится масляным пятном на землю, выхватывает из темноты высокую могилу и распростертого на ней человека. Воробьев лежит на спине, широко разбросав руки. В правой – крепко зажат наган, в левой – пучок влажной травы. Лицо у командира взвода восковое, в мелких морщинках, губы полуоткрыты. Капли дождя падают на лицо, смывая кровь, которая сочится из небольшой рамы на правом виске.
– Оставайтесь здесь, – приказывает Кармелицкий. – Не поднимайте шума, об этой смерти не должны знать другие.
Карманный фонарь гаснет, и темнота кажется еще гуще, она давит на глаза. Будто находишься в глубоком, замурованном склепе.
Стоим в темноте, прислушиваясь к удаляющимся шагам Кармелицкого.
На землю рушатся целые потоки воды. Это уже не дождь, а ливень. Блинов сбрасывает с себя плащ-палатку и накрывает ею тело техника-лейтенанта Воробьева.
– Ему уже все равно, – замечает Степан Беркут.
К нам приближаются люди. Слышен топот многих ног, шум плащ-палаток. Вспыхивают карманные фонари. Расплывчатые, мутные луч-и света прыгают по земле.
– Идите по своим местам, товарищи красноармейцы, – приказывает командир полка.
Через несколько минут нас опять разыскал Кармелицкий.
– Надо похоронить человека…
Работаем молча. Тут же и Кармелицкий. Он помогает рыть могилу. В темноте то и дело натыкаемся друг на друга. Пущены в ход малые саперные лопаты, выданные нам перед тем, как идти в Новгород. Яму заливает водой, наверх выбрасываем не землю, а жидкую грязь.
– Надо касками, так будет сподручнее, – советует Степан Беркут.
Управились с делом далеко за полночь. Опускаем в могилу тело Воробьева, завернутое в плащ-палатку, засыпаем яму землей.
Все устали. Хочется спать. Вот так лечь бы прямо под дождем и забыться в крепком сне.
А дождь все льет.
Трудно представить себе, что где-то есть города – большие, светлые, шумные. Трудно поверить в то, что в эту минуту где-то спокойно и мирно отдыхают люди. Теплая комната, чистая постель, тишина, мереное постукивание маятника стенных часов; в открытую форточку долетают приглушенные звуки и шорохи ночной улицы; на полу играют блики электрических фонарей. Не верится, что есть на нашей планете места, где можно ходить в полный рост без опасения, что тебя возьмет на прицел вражеский снайпер.
Кажется, что эта ночь будет тянуться целую вечность, что нет в этом мире ни розовых рассветов, ни восходов солнца, ни хлопотливых дней с их большими и малыми заботами, ни вечерних закатов, когда все в природе дышит покоем. Осталась одна сплошная ночь вот с этой густо чернильной, осязаемой физически темнотою, с этим нудным и безжалостным дождем.
На плечо ложится чья-то рука. Тяжелая, но горячая.
– О чем думаешь, Климов? – опрашивает политрук Кармелицкий. – Почему притих?
Что-то бессвязное говорю ему о городах, где спокойно отдыхают люди, о розовых рассветах, о вечной ночи.
– Такого не ожидал от тебя, – признается Кармелицкий. – Видно, нервы пошаливают. Это бывает. Надо взять себя в руки, иначе можно до всякой чертовщины дойти, как дошел техник-лейтенант Воробьев.
Садимся на могильную плиту. Тут же Василий Блинов и Степан Беркут.
– Нет сейчас в мире такого города, где бы спокойно отдыхали люди! – со злостью говорит Кармелицкий. – Простыни чистые, комната теплая, конечно, есть, но вот спокойствия нет.
И немного смягчившись, продолжает:
– Вся планета в тревоге. В любом доме, в любой трудовой семье большая тревога. И знает каждый, что если мы не выдержим, война придет в его дом. Будут рваться бомбы везде, где живут люди. Если не выдержим мы, фашизм захватит весь мир. Так-то оно, Климов! А ты толкуешь о чистой постели, о постукивании маятника стенных часов, о тишине. Не хватает только канарейки да гитары над кроватью…
Кармелицкий затягивается табачным дымом. Огонек папиросы на секунду освещает массивный влажный подбородок, насупленные брови, сдвинутые к переносице.
– Вы, конечно, ждете от меня, что я скажу о смерти Воробьева? – произносит Кармелицкий. Голос его звучит опять жестко. – Трусливо поступил Воробьев. Он ушел от друзей в самую трудную, тяжелую для них минуту. Вот и все о смерти вашего командира взвода.
На мое плечо снова ложится рука Кармелицкого.
– Наше светило трудится исправно, – мягко говорит политрук. – После ночи всегда наступает утро. Об этом забывать не надо. А то что розовые рассветы хороши – не спорю. Я сам их люблю, ой, как люблю!
И снова оборона
Занимаем оборону на окраине деревни, раскинувшейся на берегу Волховца, недалеко от Новгорода. Местных жителей нет, они покинули насиженные места. По улицам бродят недоеные коровы, бездомные овцы и свиньи, куры. Многие коровы больны грудницей. Их врачует Петре Зленко. Он добыл в погребах несоленый жир, смазывает им вымя животных, выдавливает молоко с кровью. Великана-повара животные узнают, они собираются вокруг сарая, где расположена его кухня. Когда из сарая показывается огромная фигура Петра, коровы приветствуют его разноголосым ревом.
На эту сцену смешно и грустно смотреть.
Окопы и траншеи тянутся по огородам. Земля рыхлая, копать легко, и мы с удовольствием, без особых усилий, хорошо углубили оборону. Таскаем бревна для накатов блиндажей и дзотов. Мастерим землянки.
Впереди простирается огромная низменность, поросшая высокой травою. Узкой полоской серебрится Волховец, за ним возвышается Кирилловский монастырь, а дальше, на горизонте, в фиолетовой дымке виднеются контуры большого города. Это Новгород. По утрам или перед заходом солнца, когда воздух особенно чист и прозрачен, он хорошо виден. Он предстает взору таким же, каким был до пожара – большим, многоэтажным, и только в бинокль можно отчетливо рассмотреть страшные разрушения, причиненные обстрелом и бомбежкой. Стоят лишь остовы зданий с черными провалами окон, рухнувшими крышами.
Немцы часто обстреливают деревню. На улицах валяются туши коров, овец. Мясо убитых животных идет в солдатский котел.
В нашем рационе появились свежее молоко, яички, картофель, зеленый лук. Всем этим снабжает нас покинутая людьми деревня.
В эти дни мы хорошо выспались, помылись в бане, надели новое обмундирование – общевойсковые бриджи и гимнастерки. Получили и шинели. Обмундирование танкистов – кирзовые тужурки, гимнастерки стального цвета, кирзовые бриджи, шлемы – все пошло на склад. Теперь мы заправские пехотинцы. Прощай, мечта о танках!
Идем на поправку. Петро Зленко старается изо всех сил. Для батальона наш повар – неоценимая находка.
– Так можно воевать сто лет, – часто говорит Степан Беркут. Одет он в новенькое из английского шевиота обмундирование, полученное по блату от полкового интенданта за трофейный парабеллум.
– Подожди радоваться, – предостерегаем мы всегда оптимистически настроенного товарища. – Послушай, что творится на правом фланге…
Вот уже третьи сутки недалеко от нас, на правом фланге, гремит, не переставая, артиллерийская канонада. Немцы снова таранят нашу оборону, и, очевидно, нам придется участвовать в горячем деле.
Афанасьев официально числится теперь батальонным санитаром, но живет по-прежнему в нашей роте. В ту ночь с проливным дождем, когда застрелился техник-лейтенант Воробьев, Афанасьев вынес с поля боя более десяти тяжелораненых бойцов.
Максим Афанасьев получил письмо от матери Николая Медведева. Та справляется, почему сын ничего не пишет, тревожится, не случилось ли с ним беды. Мы не докучаем нашему санитару. Пусть сам решит, как ответить.
– Нет, ничего не отвечу, – решительно заявляет Максим.
– Я бы ответил, пропал, мол, без вести, – советует Степан Беркут. – Лучше сказать правду, чем трусливо отмалчиваться. Ведь не по твоей вине погиб Николай.
– Нет, не отвечу на письмо, – упрямо повторяет Афанасьев. – Тебе легко рассуждать, а каково мне?..
Разозленный Степан Беркут вспылил не на шутку:
– Послушай, Максим, мое слово. Николая Медведева все мы любили, и я любил его. Мы потеряли в боях не одного Медведева, много хороших парней не вернулось с поля боя. Они были нашими друзьями. Но мы не раскисли, ты раскис. Чего ты хочешь от нас? Чтобы и мы все вместе с тобой с утра и до вечера вздыхали, лили слезы? Этого ты хочешь? Надоел ты мне со своим горем!
Максим Афанасьев растерялся. Огромный кадык на тонкой шее заходил, как поршень – вверх и вниз, будто к горлу Максима подкатился тяжелый ком, который никак не проглотишь.
– Если мы последуем твоему примеру, – продолжает Беркут, – то в нашем блиндаже целый день поминальный вой будет стоять. А нам жить надо, воевать надо, бить врата надо.
– Ты уж извини, – произносит Максим. – Я не хотел обидеть тебя и никого не хотел обидеть. О Медведеве говорить больше не буду. Ответ на письмо обязательно напишу.
На горячего, вспыльчивого, но доброго и великодушного Степана эти слова, как ушат воды. По его лицу и глазам догадываемся, что Беркут проклинает теперь свою горячность, что ему стыдно перед Афанасьевым.
– И ты, Максим, извини за резкое слово, – просит Беркут.
В этот же день провожаем Блинова в штаб дивизии. Его вызвали, чтобы вручить орден. Василий до блеска начистил сапоги, подшил чистый подворотничок, побрился.
Василий, конечно, навестит Марту: медсанбат расположен рядом со штабом дивизии. Собираем подарки для девочки.
– Куда мне все это? – протестует Блинов.
Мы неумолимы.
– Бери, не модничай…
К блиндажу спешит Зленко. Запыхался. На ходу смахивает пот, что-то кричит. Под мышкой зажат огромный сверток.
– Почекай, Василь! Прийми и мой подарунок для Марты.
– Что у тебя?
– Коржики, сдобни, смачни коржики. На масле пик.
Зленко с тревогой косится на вещмешок Блинова, раздутый, увесистый, набитый снедью.
– Знайды, Василь, мисто для коржиков. Уважь.
Находится место и для свертка, который принес Петро Зленко.
Была уже глубокая ночь, когда Блинов возвратился в роту. В эту ночь мы вышли в боевое охранение, сюда сразу и пришел Василий. Наши окопы рядом.
– Поздравляю, Василий!
– Спасибо, дружище.
– Расскажи, как вручали.
– Вручал командующий армией, расцеловал, поздравил. К таким нежностям, признаться, не привык и поэтому совсем растерялся. Потом торжественный обед, поднесли по сто граммов водки, пожелали успехов. Вот, пожалуй, и все.
– Марту видел?
– А как же! Медсанбат рядом. Встретила, захлопала в ладоши, бросилась обнимать. Славная девчурка. По-русски уже говорит. За ней там присматривают неплохо. Общая любимица. Особенно старается старший врач. До самого вечера гулял с Мартой. Там у них красиво – озеро, острова на нем. Даже лодки есть…
По ходу сообщения к нам приближается грузная, высокая фигура. Это политрук Кармелицкий. Что за человек! Когда он только отдыхает?!
Политрук обнимает Василия за плечи, целует.
– Молодчина, Блинов! Первый орденоносец в полку. Это, брат, звучит весомо!
– И вы будете орденоносцем.
– Почему знаешь?
– Уж поверьте на слово.
– И поверю, Блинов! Тебе поверю. Спасибо за доброе пожелание. Теперь присядь на дно траншеи, хочу на него посмотреть.
Вспыхивает карманный фонарь. На груди Василия сверкает, переливается радужными цветами новенький орден Красной Звезды.
– Красив, ничего не скажешь! – любуется орденом политрук Кармелицкий. – Приятно носить его, Блинов, правда?
– Конечно, приятно.
– Вот это хорошо, что говоришь искренние. Иной получит награду и кокетничает: я, мол, и не ожидал такого, и вообще, мол, я человек маленький и незаметный и удивляюсь, как это удостоили меня орденом. Врет такой человек, кокетничает, рисуется. Встречаются и другие, которые сразу же нос задирают. К таким не подходи, потому что люди они необыкновенные, не чета другим. С тобой так не случится?
– Никогда, товарищ политрук.
– Верю, Блинов. Человек ты башковитый, скромный. Держись теперь крепко, на тебя люди смотрят. Надеюсь, что не засохнешь на одном ордене…
– Постараюсь не засохнуть…
– Золотые слова! Тот не солдат, кто не мечтает стать генералом. Правильно рассуждаешь, Блинов.
Кармелицкий уходит в соседнюю роту. Мы опять остаемся вдвоем.
Небо на востоке начитает сереть. Дует свежий ветер. В деревне кричат осиротевшие петухи.
– Я тебе не все рассказал, – говорит Василий. – Получала медаль «За охвату» и дивизионная разведчица.
– Значит познакомился?
– Угу! Любой зовут. Фамилия Шведова. Младший лейтенант. Увидел ее, и в сердце кольнуло что-то. Глаза у нее особенные. Большие, темно-серые. Прямо в душу заглядывают. Такие глаза, по-моему, у Анны Карениной были. Славная девушка. Веселая, разговорчивая. С полчаса побеседовали и точно всю жизнь знакомы. Завидовала мне, что я орден получал. Так и сказала: догоню, будет и у меня орден. Обещала к нам на днях заглянуть…
– Значит, свидание назначено?
Блинов хватает меня за плечи и старается повалить на дно траншеи. Несколько минут боремся, тяжело дышим, беззвучно хохочем. Наконец, устали.
– А хотя бы и свидание?! – смеется Василий. – Разве на войне запрещается любовь?
И сам ответил:
– Не запрещается!
Уже совсем светло. По траншее к окопу Блинова спешат бойцы. Впереди Степан Беркут.
– Мы думали, что ты по-пански сегодня отдыхаешь, на белоснежной простыне и на пуховой подушке, – кричит он еще издали, – а ты, оказывается, прямо в окоп, и так прошмыгнул, что никто не заметил.
Беркут тормошит Василия, рассматривает орден. Потом трясет Блинова за плечи.
– Поздравляю, чертяка! От души поздравляю! – на все боевое охранение горланит Беркут.