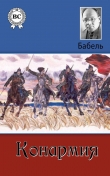Текст книги "Том 1. Одесские рассказы"
Автор книги: Исаак Бабель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
Битые *
Это было неделю тому назад. Все утро я ходил по Петрограду, по городу замирания и скудости. Туман – мелкий, всевластный – клубился над сумраком каменных улиц. Грязный снег превратился в тускло блистающие черные лужи.
Рынки – пусты. Бабы обступили торговцев, продающих то, что никому не нужно. У торговцев все еще тугие розовые щеки, налитые холодным жиром. Их глазки – голубые и себялюбивые – щупают беспомощную толпу женщин, солдат в цивильных брюках и стариков в кожаных галошах.
Ломовики проезжают мимо рынка. Лица их нелепы и серы; брань нудна и горяча по привычке; лошади огромны, кладь состоит из сломанных плюшевых диванов или черных бочек. У лошадей тяжелые мохнатые копыта, длинные, густые гривы. Но бока их торчат, ноги скользят от слабости, напряженные морды опущены.
Я хожу и читаю о расстрелах, о том, как город наш провел еще одну свою ночь. Я иду туда, где каждое утро подводят итоги.
В часовне, что при мертвецкой, идет панихида.
Отпевают солдата.
Вокруг три родственника. Мастеровые, одна женщина. Мелкие лица.
Батюшка молится худо, без благолепия и скорби. Родственники чувствуют это. Они смотрят на священника тупо, выпучив глаза.
Я заговариваю со сторожем.
– Этого хоть похоронят, – говорит он. – А то вон у нас лежат штук тридцать, по три недели лежат, каждый день сваливают.
Каждый день привозят в мертвецкую тела расстрелянных и убитых. Привозят на дровнях, сваливают у ворот и уезжают.
Раньше опрашивали – кто убит, когда, кем. Теперь бросили. Пишут на листочке – «неизвестного звания мужчина» и относят в морг.
Привозят красноармейцы, милиционеры, всякие люди.
Эти визиты – утренние и ночью – длятся год без перерыва, без передышки. В последнее время количество трупов повысилось до крайности. Если кто, от нечего делать, задает вопрос – милиционеры отвечают: «убит при грабеже».
В сопровождении сторожа я иду в мертвецкую. Он приподнимает покрывала и показывает мне лица людей, умерших три недели тому назад, залитые черной кровью. Все они молоды, крепкого сложения. Торчат ноги в сапогах, портянках, босые восковые ноги. Видны желтые животы, склеенные кровью волосы. На одном из тел лежит записка: – Князь Константин Эболи де Триколи.
Сторож отдергивает простыню. Я вижу стройное сухощавое тело, маленькое, оскаленное, дерзкое, ужасное лицо. На князе английский костюм, лаковые ботинки с верхом из черной замши. Он единственный аристократ в молчаливых стенах.
На другом столе я нахожу его подругу – дворянку, Франциску Бритти. Она после расстрела прожила еще в больнице два часа. Стройное багровое ее тело забинтовано. Она также тонка и высока, как князь. Рот ее раскрыт. Голова приподнята – в яростном быстром стремлении. Длинные белые зубы хищно сверкают. Мертвая – она хранит печать красоты и дерзости. Она рыдает, она презрительно хохочет над убийцами.
Я узнаю самое главное: трупы не хоронят, потому что не на что их хоронить. Больница не хочет тратиться на похороны. Родных нет. Комиссариат не внемлет просьбам, отговаривается и отписывается. Администрация пойдет в Смольный.
Конечно. Все там будем.
– Теперь ничего, – повествует сторож, – пущай лежат, погода держит, а как теплота вдарит, тогда всей больницей беги…
Неубранные трупы – злоба дня в больнице. Кто уберет – это, кажется, сделалось вопросом самолюбия.
– Вы били, – с ожесточением доказывает фельдшер, – вы и убирайте. Сваливать ума хватает… Ведь их, битых-то, что ни день – десятки. То расстрел, то грабеж… Уж сколько бумаг написали…
Я ухожу из места, где подводят итоги. Тяжко.
Дворец материнства *
По преданию, его строил Растрелли.
Темно-красный фасад, оживленный тонкими колоннами, – этими верными, молчащими и изысканными памятниками императорского Петрополя, – менее торжественен, чем великолепные, в тонкой и простой своей законченности, дворцы Юсуповых и Строгановых.
Дворец принадлежал Разумовскому. Потом в нем воспитывались благородные девицы – сироты. У благородных сирот была начальница. Начальница жила в двадцати двух высоких, светлых голубых комнатах.
Теперь нет Разумовского, нет начальницы. По растрелли-евским коридорам, шаркая туфлями, тяжелой поступью беременных, расхаживают восемь женщин с оттопыренными животами.
Их только восемь. Но дворец принадлежит им. И так он называется – Дворец Материнства.
Восемь женщин Петрограда с серыми лицами и вспухшими от беготни ногами. Их прошлое: месяцы хвостов и потребительских лавок; гудки заводов, призывающие мужей на защиту революции; тяжкая тревога войны и неведомо куда влекущее содрогание революции.
Уже теперь бездумность нашего разрушения бесстрастно предъявляет счета безработицы и голода. Людям, возвращающимся с фронта, нечего делать, женам их не на что рожать, фабрики возносят к небу застывшие трубы. Бумажный туман – денежный и всяческий, – призрачно мелькавший перед оглушенными нашими лицами, замирает. А земля все вертится. Человеки мрут, человеки рождаются.
Мне приятно говорить об огоньке творчества, затеплившегося в пустых наших комнатах. Хорошо, что здание Института не отведено для комитетов по конфискации и реквизиции. Хорошо, что с белых столов не льются жидкие щи и не слышны столь обычные слова об арестах.
Дом этот будет называться Домом Материнства. В декрете говорится: он будет помогать женщинам в тяжких и величественных ее обязанностях.
Дворец порывает с жандармскими традициями Воспитательного дома, где дети мерли или, в счастливом случае, выходили в «питомцы». Дети должны жить. Рождать их нужно для лучшего устроения человеческой жизни.
Такова идея. Ее надо провести до конца. Надо же когда-нибудь делать революцию.
Вскинуть на плечо винтовку и стрелять друг в дружку – это, может быть, иногда бывает неглупо. Но это еще не вся революция. Кто знает – может быть, это совсем не революция.
Надобно хорошо рожать детей. И это – я знаю твердо – настоящая революция.
Дворец Материнства начал работать три дня тому назад. Районные Советы прислали первых пациенток. Начало положено. Главное – впереди.
Предположено открыть школу материнства. Приходить будет всякий, кто захочет. Будут учить – чистоте, тому, как сохранить жизнь ребенка и матери. Этому поучиться надо. В начале столетия в родильных наших приютах умирало до 40 % рожениц. Цифра эта не спускалась ниже 15–20 %. Теперь, в связи с худосочием и малокровием, количество смертей увеличивается.
Женщины будут поступать во Дворец на восьмом месяце беременности. Полтора месяца до родов они проведут в условиях покоя, сытости и разумной работы. Платы никакой. Рождение детей – дань государству. Государство оплачивает ее.
После родов матери остаются во Дворце в течение 10–20–42 дней, до полного восстановления сил. Раньше из приютов уходили на третий день: «по хозяйству некому присмотреть, дети не кормлены…»
Предполагается устроить школу хозяек-заместительниц. Заместительницы будут следить за домом рожениц, находящихся во Дворце.
Есть уже начатки музея-выставки. В нем мать увидит хорошую простейшую кровать, белье, нужную пищу, увидит муляжи с сифилитическими, оспенными язвами, прочтет наши статистические карты с приевшимися, но все же первыми в мире цифрами о смертности детей. На выставке она сможет купить за дешевую плату белье, пеленки, препараты.
Таковы зародыши идеи, революционной идеи «социализации женщины».
В просторные залы пришли первые восемь матросских и рабочих жен. Залы принадлежат им. Залы нужно удержать и раскинуть широко.
Эвакуированные *
Был завод, а в заводе – неправда. Однако в неправедные времена дымились трубы, бесшумно ходили маховики, сверкала сталь, корпуса сотрясались гудящею дрожью работы.
Пришла правда. Устроили ее плохо. Сталь померла. Людей стали рассчитывать. В вялом недоумении машины тащили их на вокзалы и с вокзалов.
Покорные непреложному закону, рабочие люди бродят теперь по земле неведомо зачем, словно пыль, ничем не ценимая.
Несколько дней тому назад происходила «эвакуация» с Балтийского завода. Всунули в вагон четыре рабочих семьи. Вагон поставили на паром и – пустили. Не знаю – хорошо ли, худо ли был прикреплен вагон к парому. Говорят – совсем почти не был прикреплен.
Вчера я видел эти четыре «эвакуированных» семьи. Они рядышком лежат в мертвецкой. Двадцать пять трупов. Пятнадцать из них дети. Фамилии все подходящие для скучных катастроф – Кузьмины, Куликовы, Ивановы. Старше сорока пяти лет никого.
Целый день в мертвецкой толкутся между белыми гробами женщины с Васильевского, с Выборгской. Лица у них совсем такие, как у утопленников, – серые.
Плачут скупо. Кто ходит на кладбище, тот знает, что у нас перестали плакать на похоронах. Люди все торопятся, растеряны, мелкие и острые мыслишки без устали буравят мозг.
Женщины более всего жалеют детей и кладут бумажные гривенники на скрещенные малые руки. Грудь одной из умерших, прижавшей к себе пятимесячного задохнувшегося ребенка, вся забросана деньгами.
Я вышел. У калитки, в тупичке, на сгнившей лавочке сидели две согнутые старухи. Слезливыми бесцветными глазами они глядели на рослого дворника, растапливавшего черный ноздреватый снег. Темные ручьи растекались по липкой земле.
Старухи шептались об обыденной своей суете. У столяра сын в красногвардейцы пошел – убили. Картошки нету на рынках и не будет. Грузин во дворе поселился, конфектами торгует, генеральскую дочь институтку к себе сманил, водку с милицией пьет, денег ему со всех концов несут.
После этого – одна старуха рассказала бабьими и темными своими словами, – отчего двадцать пять человек в Неву упали.
– Анжинеры от заводов все отъехамши. Немец говорит – земля евонная. Народ потолкался, потом квартиры все побросали, домой едут. Куликовы, матушка, на Калугу подались. Стали плот сбивать. Три дня бились. Кто – напился, а другому горько, сидит, думает. А инженеров – нету, народ темный. Плот сбили, отплыл он, все прощаться стали. Река заходила, народ с детишками, с бабами попадал. Вырядили-то хорошо, восемь тысяч на похороны дали, панихиды каково служат, гробы все глазетовые, уважение сделали рабочему народу.
Мозаика *
В воскресенье – день праздника и весны – товарищ Шпицберг говорил речь в залах Зимнего дворца.
Он озаглавил ее: «Всепрощающая личность Христа и блевотина анафемы христианства».
Бога товарищ Шпицберг называет – господин Бог, священника – попом, попистом и чаще всего – пузистом (от слова – пузо).
Он именует все религии – лавочка шарлатанов и эксплуататоров, поносит пап римских, епископов, архиепископов, иудейских раввинов и даже тибетского далай-ламу, «экскременты которого одураченная тибетская демократия считает целебным снадобьем».
В отдельном углу зала сидит служитель. Он брит, худ и спокоен. Вокруг него кучка людей – бабы, рабочие, довольные жизнью, бездельные солдаты. Служитель рассказывает о Керенском, о бомбах, рвавшихся под полами, о министрах, прижатых к гладким стенам гулких и сумрачных коридоров, о пухе, выпущенном из подушек Александра II и Марии Феодоровны. Рассказ прервала старушка. Она спросила:
– Где, батюшка, здесь речь говорят?
– Антихрист в Николаевской зале, – равнодушно ответил служитель.
Солдат, стоявший неподалеку, рассмеялся.
– В зале – антихрист, а ты здесь растабарываешь…
– Я не боюсь, – так же равнодушно, как и в первый раз, ответил служитель, – я с ним день и ночь живу.
– Весело живешь, значит…
– Нет, – сказал служитель, подняв на солдата выцветшие глаза, – невесело живу. Скучно с ним.
И старик уныло рассказал улыбающемуся народу, что его черт – куцый и пугливый, ходит в калошах и тайком портит гимназисток.
Старику не дали договорить. Его увели сослуживцы, объявив, что он после Октября «маненько тронулся».
Я отошел в раздумье. Вот здесь – старик видел царя, бунт, кровь, смерть, пух из царских подушек. И пришел к старику антихрист. И только и нашел черт дела на земле, что мечтать о гимназистках, таясь от адмиралтейского подрайона.
Скучные у нас черти.
Проповедь Шпицберга об убиении господина Бога явно не имеет успеха. Слушают вяло, хлопают жидко.
Не то происходило неделю тому назад, после такой же беседы, заключавшей в себе «слова краткие, но антирелигиозные». Четыре человека тогда отличились – церковный староста, щуплый псаломщик, отставной полковник в феске и тучный лавочник из Гостиного. Они подступили к кафедре. За ними двинулась толпа женщин и угрожающе молчавших приказчиков.
Псаломщик начал елейно:
– Надобно, друзья, помолиться. А кончил шепотком:
– Не все дремлют, друзья. У гробницы отца Иоанна мы дали нынче клятвенное обещание. Организуйтесь, друзья, в своих приходах.
Сошедши, псаломщик добавил, от злобы призакрыв глаза и вздрагивая тощим телом:
– До чего все хитро устроено, друзья. О раввинах, о раввинах-то никто словечка не проронит…
Тогда загремел голос церковного старосты:
– Они убили дух русской армии.
Полковник в феске кричал: «не позволим», лавочник тупо и оглушающе вопил: «жулики», растрепанные, простоволосые женщины жались к тихонько усмехавшимся батюшкам, лектора прогнали с возвышения, двух рабочих-красногвардейцев, израненных под Псковом, прижали к стене. Один из них кричал, потрясая кулаком:
– Мы игру-то вашу видим. В Колпине вечерню до двух часов ночи служат. Поп службу новую выдумал, митинг в церкви выдумал… Мы купола-то тряхнем…
– Не тряхнешь, проклятый, – глухим голосом ответила женщина, отступила и перекрестилась.
Во время пассии в Казанском соборе народ стоит с возжженными свечами. Дыхание людское колеблет желтое, малое горячее пламя. Высокий храм наполнен людьми от края до края. Служба идет необычайно долгая. Духовенство в сверкающих митрах проходит по церкви. За Распятием искусно расположенные электрические огни. – Чудится, что Распятый простерт в густой синеве звездного неба.
Священник в проповеди говорит о святом лике, вновь склонившемся набок от невыносимой боли, об оплевании, о заушении, о поругании святыни, совершаемом темными, «не ведающими, что творят». Слова проповеди скорбны, неясны, значительны. «Припадайте к церкви, к последнему оплоту нашему, ибо он не изменит».
У дверей храма молится старушонка. Она ласково говорит мне:
– Хор-то каково поет, службы какие пошли… В прошлое воскресенье митрополит служил… Никогда благолепия такого не было… Рабочие с завода нашего, и те в церковь ходят… Устал народ, измаялся в неспокойствии, а в церкви тишина, пение, отдохнешь…
Заведеньице *
В период «социальной революции» никто не задавался намерениями более благими, чем комиссариат по призрению. Начинания его были исполнены смелости. Ему были поручены важнейшие задачи: немедленный взрыв душ, декретирование царства любви, подготовка граждан к гордой жизни и вольной коммуне. К своей цели комиссариат пошел путями не извилистыми.
В ведомстве призрения состоит учреждение, неуклюже именуемое «Убежище для несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных деяниях». Убежища эти должны были быть созданы по новому плану – согласно новейшим данным психологии и педагогики. Именно так – на новых началах – мероприятия комиссариата были проведены в жизнь.
Одним из заведующих был назначен никому не ведомый врач с Мурмана. Другим заведующим был назначен какой-то мелкий служащий на железной дороге – тоже с Мурмана. Ныне этот социальный реформатор находится под судом, обвиняется в сожительстве с воспитанницами и в вольном расходовании средств вольной коммуны. Прошения он пишет полуграмотные (этот директор приюта), кляузные, неотразимо пахнущие околоточным надзирателем. Он говорит, что «душой и телом предан святому народному делу», предали его «контрреволюционеры».
Поступил сей муж на службу в ведомство призрения, «указав на свою политическую физиономию, как партийного работника-большевика».
Это все, что оказалось нужным для воспитания преступных детей.
Состав других воспитателей: латышка, плохо говорящая по-русски, окончила четыре класса неведомо чего.
Старый танцовщик, окончивший натуральную школу и тридцать лет пробывший в балете.
Бывший красноармеец, до солдатчины служивший приказчиком в чайном магазине.
Малограмотный конторщик с Мурмана.
Девица конторщица с Мурмана.
К призреваемым мальчикам было еще приставлено пять дядек (словцо-то какое коммунистическое).
Работа их официальным лицам характеризуется так: «день дежурят, день спят, день отдыхают, делают – что сами находят нужным, заставляют мыть полы кого придется».
Необходимо добавить, что в одном из приютов числилось на 40 детей – 23 служащих.
Делопроизводство этих служащих, многие из которых преданы уже суду, находилось, согласно данным ревизии, в следующем состоянии:
Большинство счетов не заверено подписью, на счетах нельзя усмотреть, на какой предмет израсходованы суммы, нет подписи получателей денег, в расписках не сказано, за какое время служащим уплачено содержание, счет разъездных одного мелкого служащего за январь сего года достиг 455 рублей.
Если вы явитесь в убежище, то застанете там вот что.
Никакие учебные занятия не производятся, 60 % детей полуграмотны или совсем неграмотны. Никакие работы не производятся. Пища состоит из супа с кореньями и селедки. Здание пропитано зловонием, ибо канализационные трубы – разбиты. Дезинфекция не произведена, несмотря на то, что среди призреваемых имели место 10 тифозных заболеваний. Болезни часты. Был такой случай. В 11 часов ночи привезли мальчика с отмороженной ногой. Он пролежал до утра в коридоре, никем не принятый. Побеги часты. По ночам детей заставляют ходить в мокрые уборные нагишом. Одежду припрятывают из боязни побегов.
Заключение:
Убежища комиссариата по призрению представляют собой зловонные дыры, имеющие величайшее сходство с дореформенными участками. Администраторы и воспитатели – бывшие люди, нечистоплотные люди, безграмотные люди, примазавшиеся к «народному делу», никакого отношения к призрению не имеющие, в огромном большинстве никакой специальной подготовкой не обладающие. На каком основании они приняты на службу властью крестьян и рабочих – неизвестно.
Я видел все это – и босых угрюмых детей, и угреватые припухшие лица унылых их наставников, и лопнувшие трубы канализации. Нищета и убожество наше поистине ни с чем не сравнимы.
О грузине, керенке и генеральской дочке *
(Нечто современное)
Два печальных грузина навещают ресторацию Пальмира. Один из них стар, другой молод. Молодого зовут Ованес.
Дела плохи. Чай подают жидкий. Молодой смотрит на русских женщин. Любитель. Старик смотрит на музыкальную машину. Старику грустно, но тепло.
Молодой обнюхивает обстоятельства.
Обнюхал. Молодой одевает национальный костюм, кривую шашку и мягкие кавказские сапоги.
Горизонты проясняются. В ресторации Пальмира молодому предлагают изюм и миндаль. Ованес покупает. Знакомая из государственного контроля варит на дому гузинаки.
Товар приносит барыш.
Идут дни и недели. У Ованеса, на Моховой, лавка восточных сластей.
У Ованеса лавка на Невском. Услуживающий ему мальчик Петька щеголяет в сияющих новых калошах. Знакомым прислугам Ованес не кланяется, а козыряет. Домовому старосте на именины подносится не что иное, как шоколадный торт. Все уважают Ованеса.
В то же время живет на Кирочной генерал Орлов. Его сосед – отставной фельдшер Бурышкин.
В институте, когда дочь Орлова – Галичка – переходила из третьего класса во второй, императрица поцеловала ее в щеку. Родные и знакомые думали, что Галичка выйдет за инженера путей сообщения. У Галички стройная и тонкая нога, обтянутая замшевым башмачком.
Фельдшер Бурышкин состоит на службе при всех режимах. Бурышкин начеку. Он носит вату в ушах и в то же время смазанные сапоги. Придраться нельзя.
Придрались. Бурышкин изгнан. Много свободного времени. Заметил весну. Пишет прошение. Почерк красивый.
Удар среди ясного неба: Галичка переходит на жительство к Ованесу.
Генералу так грустно, что он заводит дружбу с Бурышкиным. Провизии мало. Управа выдала кету. С дочерью не встречается.
Однажды утром, проснувшись, генерал подумал: все тюфяки, большевики – настоящие люди. Подумал и заснул снова, довольный своими мыслями.
Галичка сидит у Ованеса за кассой. Подруги из института служат у нее в лавке продавщицами. Очень весело. От публики нет отбоя. Магазин совсем как у Абрикосова. Публику все презирают. Подруг зовут Лида и Шурик. Шурик очень веселая, наставляет рога подпоручику. Галичка затеяла ежедневные горячие завтраки. В министерстве продовольствия, где она служила раньше, служащие всегда устраивали горячие завтраки на кооперативных началах.
Генерал задумывается чаще.
Генерал примиряется с дочерью. Генерал каждый день ест шоколад. Галичка нежна и хороша необыкновенно. Ованес завел себе николаевскую шинель. Генерал удивляется тому, что никогда не интересовался грузинами. Генерал изучает историю Грузии и кавказские походы. Бурышкин забыт.
Городская управа выдала кету. Пенсию заплатили керенками.
Весна. Галичка с отцом проезжает по Невскому в экипаже. Бурышкин бродит в рассуждении – чего бы поесть. Хлеба нет. Старику обидно.
Бурышкин решает купить гузинаки для умерщвления аппетита.
Лавка Ованеса полна народа. Фельдшер стоит в хвосте. Лида и Шурик презирают его. Генерал рассказывает Ованесу анекдоты и хохочет. Грузин снисходительно улыбается. Бурышкин в ничтожестве.
Ованес не хочет дать фельдшеру сдачи с керенки. А у Ованеса есть мелочь.
– Декрет насчет сдачи читали? – спрашивает Бурышкин.
– Наплевал я на декреты, – отвечает грузин.
– Нет у меня мелочи, – шепчет Бурышкин.
– Коли нету – отдавай гузинаки.
– А в Красную Армию не хочешь?
– Наплевал я на Красную Армию.
– Ага!
Бурышкин в штабе. Бурышкин рассказывает. Комиссар отряжает 50 человек.
Отряд в лавке. Шурик в обмороке. Побледневший генерал трясущейся рукой с достоинством водружает пенсне.
Обыск у Ованеса. Найдены: мука, крупа, сахар, золото в слитках, шведские кроны, сухие яйца «Эгго», подошвенная кожа, рисовый крахмал, старинные монеты, игральные карты и парфюмерия «Модерн». Все кончено.
Ованес сидит. По ночам ему снится, что ничего не случилось, что он находится в ресторации Пальмира и смотрит на женщин.
Бурышкин исполнен энергии. Он – свидетель.
Аборт у Галички прошел благополучно. Она слаба и нежна. Муж Шурика поступил инструктором в Красную Армию, участвовал в каких-то боях на внутреннем фронте, получает фунт хлеба в день, очень весел, вернулся с нехорошей болезнью. Шурик лечится у дорогого врача и капризничает. Подпоручик говорит, что теперь все больны.
Генерал сводит знакомство с провизором Лейбзоном. Генерал слаб, исхудал. Ему начинает нравиться еврейская предприимчивость.
Не оправившуюся от болезни Галичку навещает Лида. Она подурнела, служит секретаршей в Смольном, на нее очень действует весна. Она говорит, что женщине трудно устроиться теперь. Железные дороги не действуют, нельзя поехать в деревню.