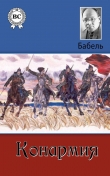Текст книги "Том 1. Одесские рассказы"
Автор книги: Исаак Бабель
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц)
Ди Грассо *
Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импрессарио не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал сицилианский трагик ди Грассо с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:
– Дети, это не товар…
Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером – с другой кошелкой – он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.
Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.
– Мертвое дело, – сказал в антракте Коля Шварц, – это товар для Кременчуга…
Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии – она была нетерпима, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей и раскрашенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:
– Синьора, – сказал он низким своим голосом и отвернулся, – святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня… Джованни, приехавшему из города, святая дева даст столько женщин, сколько он захочет; мне же никто не нужен, кроме вас, синьора… Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора…
Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле – о, горе нам! – нет женщины, которая не была бы безумна в те мгновенья, когда решается ее судьба… Она остается одна в эти мгновения, одна, без девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее…
В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча, среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух – играл его ди Грассо – стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес, – грозно, бесшумно сдвигаясь, – скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия.
Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника», каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.
На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире – горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство.
Струя пыльного розового зноя была впущена в Театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутыли вина и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали в экипажах к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками – актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке, кроме одного человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kеnt» [20]20
«Граф Кентский» (англ.).
[Закрыть], но, перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в никому не видимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.
– Босяк, – выходя из театра, сказала она Коле, – теперь ты видишь, что такое любовь…
Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.
– Циленька, – называют эти мужья своих жен, – золотко, деточка…
Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновенье, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.
– Босяк, – вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, – пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы…
Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.
– Что я имею от него, – безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц, – сегодня животные штуки, завтра животные штуки… Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?..
Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, – затихшим и невыразимо прекрасным.
Справка *
В ответ на ваш запрос сообщаю, что литературную работу я начал рано, лет двадцати. Меня влекла к ней природная склонность, поводом послужила любовь к женщине по имени Вера. Она была проституткой, жила в Тифлисе и слыла среди своих подруг деловой женщиной: брала в заклад вещи, покровительствовала начинающим и при случае торговала в компании с персами на восточном базаре. Каждый вечер выходила она на Головинский проспект и – рослая, белолицая – плыла впереди толпы, как плывет богородица на носу рыбачьего баркаса. Я крался за ней безмолвно, копил деньги и, наконец, решился. Вера запросила десять рублей, прижалась ко мне мягким, большим плечом и забыла обо мне. В харчевне, где мы ели люля-кебаб, она, разгоревшись от волнения, убеждала кабатчика расширить торговлю, переехать на Михайловский проспект. Из харчевни мы отправились к сапожнику за туфлями, потом, оставив меня одного, Вера пошла к подруге, у которой были крестины в тот день. В двенадцатом часу ночи пришли мы в гостиницу, но и там нашлись дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Вера тискала коленями ее чемоданы, заворачивала в масляную бумагу пирожки. Старуха с рыжей сумкой на боку и в газовой шляпенке ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами.
Я ждал Веру в ее номере, заставленном трехногими креслами, с глиняной печью и сырыми углами в разводах. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи, каждая умирала по-своему; чужая жизнь шаркала и разражалась хохотом в коридоре. Прошла вечность, прежде чем явилась Вера.
– Сейчас сделаемся, – сказала она и прикрыла за собой дверь.
Приготовления ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку, поставила на нее кастрюлю с водой, перелила согревшуюся воду в кружку, от которой отходила белая кишка. Она бросила кристалл в кружку и стала стягивать с себя платье.
– Проводили Федосью Маврикиевну, – сказала Вера, – поверишь, она нам как родная была… Старушка одна едет, ни попутчика, никого…
В постели, слепо уставившись на меня расплывшимися сосками, лежала большая женщина с опавшими плечами.
– Что сидишь невесел? – спросила Вера и потянула меня к себе, – или денег жалко?..
– Моих денег не жалко…
– Почему так – не жалко?.. Или ты вор?
– Я не вор, а мальчик…
– Вижу, что не корова, – зевнув, сказала Вера, глаза ее слипались.
– Мальчик… – повторил я и похолодел от внезапности моей выдумки.
Отступать было некуда, и я рассказал случайной моей спутнице такую историю:
– Мы жили в Алешках Херсонской губернии, – придумано было для начала, – отец работал чертежником, пытался дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, картежницу и лакомку. Десяти лет стал я воровать у отца деньги, а подросши, убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня со стариком. Звали его Степаном Ивановичем, я сошелся с ним, и мы прожили всего четыре года…
– Да тебе лет-то сколько было?..
– Пятнадцать…
Вера ждала злодейств от человека, развратившего меня. Тогда я сказал:
– Мы прожили с ним четыре года, Степан Иванович оказался доверчивым человеком, всем верил на слово… Мне бы ремесло изучить за эти годы, но у меня на уме одно было – биллиард… Приятели разорили Степан Иваныча. Он выдал им бронзовые векселя, векселя предъявили ко взысканию…
Как взбрели мне на ум бронзовые векселя – кто знает? – но я сделал правильно, упомянув о них. Женщина всему поверила, услышав о векселях. Она закуталась в шаль, красный платок заколебался на ее плечах.
– …Степан Иваныч разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд, я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, к церковному старосте…
Церковный староста… Это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца… Чтобы поправиться – я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья… Старик вскакивал по ночам и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь… Он скоро умер… Родственники прогнали меня. И вот я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане. Номерной гостиницы, где я остановился, обещал богатых гостей, но пока он приводит одних духанщиков…
И я стал молоть о духанщиках, о грубости их и корыстолюбии – вздор, слышанный мной когда-то… Жалость к себе разрывала мне сердце, гибель казалась неотвратимой. Я замолчал. История была кончена; керосинка потухла. Вода закипела и остыла. Женщина неслышно прошла по комнате. Передо мной двигалась ее спина, мясистая и печальная.
– Чего делают, – прошептала она и развела створки окна, – боже, чего делают…
В квадрате окна уходил каменистый подъем, кривая турецкая уличка. Остывающие камни посвистывали на улице. Запах воды и пыли шел от мостовой.
– Ну, а баб ты знаешь? – обернулась ко мне Вера.
– Откуда мне их знать… Кто меня допустит…
– Чего делают, – сказала Вера, – боже, чего делают…
Я прерву здесь рассказ, для того чтобы спросить вас, товарищи, видели ли вы, как рубит деревенский плотник избу для своего собрата плотника, как споро, сильно и счастливо летят стружки от обтесываемого бревна?..
В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня немудрой своей науке. Я испытал в ту ночь любовь, полную терпения, и услышал слова женщины, обращенные к женщине.
Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города. Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. Караван пыли летел на Тифлис – город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки.
Когда испарина бисером обложила меня – я поставил стакан донышком вверх и придвинул к Вере две золотые пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги.
– Расплеваться хочешь, сестричка?..
Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых – мой первый гонорар.
Мой первый гонорар *
Жить весной в Тифлисе, иметь двадцать лет от роду и не быть любимым – это беда. Такая беда приключилась со мной. Я служил корректором в типографии Кавказского военного округа. Под окнами моей мансарды клокотала Кура. Солнце, восходившее за горами, зажигало по утрам мутные ее узлы. Мансарду я снимал у молодоженов-грузин. Хозяин мой торговал на восточном базаре мясом. За стеной, осатанев от любви, мясник и его жена ворочались как большие рыбы, запертые в банку. Хвосты обеспамятевших этих рыб бились о перегородку. Они трясли наш чердак, почернелый под отвесным солнцем, срывали его со столбов и несли в бесконечность. Зубы их, сведенные упрямой злобой страсти, не могли разжаться. По утрам новобрачная Милиет спускалась за лавашом. Она так была слаба, что держалась за перила, чтобы не упасть. Ища тонкой ногой ступеньку, Милиет улыбалась неясно и слепо, как выздоравливающая. Прижав ладони к маленькой груди, она кланялась всем, кто ей встречался на пути, – зазеленевшему от старости айсору, разносчику керосина и мегерам, продававшим мотки бараньей шерсти, мегерам, изрезанным жгучими морщинами. По ночам толкотня и лепет моих соседей сменялись молчанием, пронзительным, как свист ядра.
Иметь двадцать лет от роду, жить в Тифлисе и слушать по ночам бури чужого молчания – это беда. Спасаясь от нее, я кидался опрометью вон из дому, вниз к Куре, там настигали меня банные пары тифлисской весны. Они накидывались с размаху и обессиливали. С пересохшим горлом я кружил по горбатым мостовым. Туман весенней духоты загонял меня снова на чердак, в лес почернелых пней, озаренных луной. Мне ничего не оставалось, кроме как искать любви. Конечно, я нашел ее. На беду или на счастье, женщина, выбранная мною, оказалась проституткой. Ее звали Вера. Каждый вечер я крался за нею по Головинскому проспекту, не решаясь заговорить. Денег для нее у меня не было, да и слов – неутомимых этих пошлых и роющих слов любви – тоже не было. Смолоду все силы моего существа были отданы на сочинение повестей, пьес, тысячи историй. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Одержимый бесовской гордостью, я не хотел писать их до времени. Мне казалось пустым занятием – сочинять хуже, чем это делал Лев Толстой. Мои истории предназначались для того, чтобы пережить забвение. Бесстрашная мысль, изнурительная страсть стоят труда, потраченного на них, только тогда, когда они облачены в прекрасные одежды. Как сшить эти одежды?..
Человеку, взятому на аркан мыслью, присмиревшему под змеиным ее взглядом, трудно изойти пеной незначащих и роющих слов любви. Человек этот стыдится плакать от горя. У него недостает ума, чтобы смеяться от счастья. Мечтатель – я не овладел бессмысленным искусством счастья. Мне пришлось поэтому отдать Вере десять рублей из скудных моих заработков.
Решившись, я стал однажды вечером на страже у дверей духана «Симпатия». Мимо меня небрежным парадом двигались князья в синих черкесках и мягких сапогах. Ковыряя в зубах серебряными зубочистками, они рассматривали женщин, крашенных кармином, грузинок с большими ступнями и узкими бедрами. В сумерках просвечивала бирюза. Распустившиеся акации завывали вдоль улиц низким, осыпающимся голосом. Толпа чиновников в белых кителях колыхалась по проспекту; ей навстречу летели с Казбека бальзамические струи.
Вера пришла позже, когда стемнело. Рослая, белолицая – она плыла впереди обезьяньей толпы, как плывет богородица на носу рыбачьего баркаса. Она поравнялась с дверьми духана «Симпатия». Я качнулся, двинулся.
– В какие Палестины?
Широкая розовая спина двигалась передо мною. Вера обернулась.
– Вы что там лепечете?..
Она нахмурилась, глаза ее смеялись.
– Куда бог несет?..
Во рту моем слова раскалывались, как высохшие поленья. Переменив ногу, Вера пошла со мною рядом.
– Десятка – вам не обидно будет?..
Я согласился так быстро, что это возбудило ее подозрения.
– Да есть ли они у тебя, десять рублей?..
Мы вошли в подворотню, я подал ей мой кошелек. Она насчитала в нем двадцать один рубль, серые глаза ее щурились, губы шевелились. Золотые монеты она положила к золотым, серебряные к серебряным.
– Десятку мне, – отдавая кошелек, сказала Вера, – пять рублей прогуляем, на остальные живи. У тебя когда получка?..
Я ответил, что получка через четыре дня. Мы вышли из подворотни. Вера взяла меня под руку и прижалась плечом. Мы пошли вверх по остывающей улице. Тротуар был засыпан ковром увядших овощей.
– В Боржом бы от этакой жары…
Бант охватывал Верины волосы. В нем лились и гнулись молнии от фонарей.
– Ну и дуй в Боржом…
Это я сказал – «дуй». Для чего-то оно было мною произнесено – это слово.
– Пети-мети нет, – ответила Вера, зевнула и забыла обо мне. Она забыла обо мне потому, что день ее был сделан и заработок со мной был легок. Она поняла, что я не подведу ее под полицию и не заберу ночью денег вместе с серьгами.
Мы дошли до подножия горы святого Давида. Там, в харчевне, я заказал люля-кебаб. Не дожидаясь пищи, Вера пересела к группе старых персов, обсуждавших свои дела. Опершись на стоящие палки, кивая оливковыми головами, они убеждали кабатчика в том, что для него пришла пора расширить торговлю. Вера вмешалась в их разговор. Она стала на сторону стариков. Она стояла за то, чтобы перевести харчевню на Михайловский проспект. Кабатчик, ослепший от рыхлости и осторожности, сопел. Я один ел мой люля-кебаб. Обнаженные Верины руки текли из шелка рукавов, она пристукивала по столу кулаком, серьги ее летали между длинных выцветших спин, оранжевых бород и крашеных ногтей. Люля-кебаб остыл, когда она вернулась к столику. Лицо ее горело от волнения.
– Вот не сдвинешь его с места, ишака этого… На Михайловском с восточной кухней, знаешь, какие дела можно поднять…
Мимо столика, один за другим, проходили знакомые Веры – князья в черкесках, немолодые офицеры, лавочники в чесучовых пиджаках и пузатые старики с загорелыми лицами и зелеными угрями на щеках. Только в двенадцатом часу ночи попали мы в гостиницу, но и там у Веры нашлись нескончаемые дела. Какая-то старушка снаряжалась в путь к сыну в Армавир. Оставив меня, Вера побежала к отъезжающей и стала тискать коленями ее чемодан, увязывать ремнями подушки, заворачивать пирожки в масленую бумагу. Плечистая старушка в газовой шляпёнке, с рыжей сумкой на боку, ходила по номерам прощаться. Она шаркала по коридору резиновыми ботиками, всхлипывала и улыбалась всеми морщинами. Час – не меньше – ушел на проводы. Я ждал Веру в прелом номере, заставленном трехногими креслами, глиняной печью, сырыми углами в разводах.
Меня мучили и таскали по городу так долго, что самая любовь моя показалась мне врагом, прилипчивым врагом…
В коридоре шаркала и разражалась внезапным хохотом чужая жизнь. В пузырьке, наполненном молочной жидкостью, умирали мухи. Каждая умирала по-своему. Агония одной была длительна, предсмертные содрогания порывисты; другая умирала, трепеща чуть заметно. Рядом с пузырьком на потертой скатерти валялась книга, роман из боярской жизни Головина. Я раскрыл ее наугад. Буквы построились в ряд и смешались. Предо мною, в квадрате окна, уходил каменистый подъем, кривая турецкая уличка. В комнату вошла Вера.
– Проводили Федосью Маврикиевну, – сказала она. – Поверишь, она нам всем как родная была… Старушка одна едет, ни попутчика, никого…
Вера села на кровать, расставив колени. Глаза ее блуждали в чистых областях забот и дружбы. Потом она увидела меня, в двубортной куртке. Женщина сцепила руки и потянулась.
– Заждался небось… Ничего, сейчас сделаемся…
Но что собиралась Вера делать – я так и не понял. Приготовления ее были похожи на приготовления доктора к операции. Она зажгла керосинку и поставила на нее кастрюлю с водой. Она положила чистое полотенце на спинку кровати и повесила кружку от клизмы над головой, кружку с белой кишкой, болтающейся по стене. Когда вода согрелась, Вера перелила ее в клизму, бросила в кружку красный кристалл и стала через голову стягивать с себя платье. Большая женщина с опавшими плечами и мятым животом стояла передо мной. Расплывшиеся соски слепо уставились в стороны.
– Пока вода доспеет, – сказала моя возлюбленная, – подь-ка сюда, попрыгунчик…
Я не двинулся с места. Во мне оцепенело отчаяние. Зачем променял я одиночество на это логово, полное нищей тоски, на умирающих мух и трехногую мебель…
О, боги моей юности!.. Как не похожа была будничная эта стряпня на любовь моих хозяев за стеной, на протяжный, закатывающийся их визг…
Вера подложила ладони под груди и покачала их.
– Что сидишь невесел, голову повесил?.. Поди сюда…
Я не двинулся с места. Вера подняла рубаху к животу и снова села на кровать.
– Или денег пожалел?
– Моих денег не жалко… Я сказал это рвущимся голосом.
– Почему так – не жалко?.. Или ты вор?
– Я не вор.
– Нинкуешь у воров?
– Я мальчик.
– Я вижу, что не корова, – пробормотала Вера. Глаза ее слипались. Она легла и, притянув меня к себе, стала шарить по моему телу.
– Мальчик, – закричал я, – ты понимаешь, мальчик у армян…
О, боги моей юности!.. Из двадцати прожитых лет – пять ушло на придумывание повестей, тысячи повестей, сосавших мозг. Они лежали у меня на сердце, как жаба на камне. Сдвинутая силой одиночества, одна из них упала на землю. Видно, на роду мне было написано, чтобы тифлисская проститутка сделалась первой моей читательницей. Я похолодел от внезапности моей выдумки и рассказал ей историю о мальчике у армян. Если бы я меньше и ленивей думал о своем ремесле, – я заплел бы пошлую историю о выгнанном из дому сыне богатого чиновника, об отце-деспоте и матери-мученице. Я не сделал этой ошибки. Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь; жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю. Поэтому и еще потому, что так нужно было моей слушательнице, – я родился в местечке Алешки, Херсонской губернии. Отец работал чертежником в конторе речного пароходства. Он дни и ночи бился над чертежами, чтобы дать нам, детям, образование, но мы пошли в мать, лакомку и хохотунью. Десяти лет я стал воровать у отца деньги, подросши, убежал в Баку, к родственникам матери. Они познакомили меня с армянином Степаном Ивановичем. Я сошелся с ним, и мы прожили вместе четыре года…
– Да лет-то тебе сколько было тогда?
– Пятнадцать…
Вера ждала злодейств от армянина, развратившего меня. Тогда я сказал:
– Мы прожили четыре года. Степан Иванович оказался самым доверчивым и щедрым человеком из всех людей, каких я знал, самым совестливым и благородным. Всем приятелям он верил на слово. Мне бы за эти четыре года изучить ремесло – я не ударил пальцем о палец… У меня другое было на уме – бильярд… Приятели разорили Степана Ивановича. Он выдал им бронзовые векселя, друзья представили их ко взысканию…
Бронзовые векселя… Сам не знаю, как взбрели они мне на ум. Но я сделал правильно, упомянув о них. Вера поверила всему, услышав о бронзовых векселях. Она закуталась в шаль, шаль заколебалась на ее плечах.
…Степан Иванович разорился. Его выгнали из квартиры, мебель продали с торгов. Он поступил приказчиком на выезд. Я не стал жить с ним, с нищим, и перешел к богатому старику, церковному старосте…
Церковный староста – это было украдено у какого-то писателя, выдумка ленивого сердца, не захотевшего потрудиться над рождением живого человека.
Церковный староста – сказал я, и глаза Веры мигнули, ушли из-под моей власти. Тогда, чтобы поправиться, я вдвинул астму в желтую грудь старика, припадки астмы, сиплый свист удушья в желтой груди. Старик вскакивал по ночам с постели и дышал со стоном в бакинскую керосиновую ночь. Он скоро умер. Астма удавила его. Родственники прогнали меня. И вот – я в Тифлисе, с двадцатью рублями в кармане, с теми самыми, которые Вера пересчитала в подворотне на Головинском. Номерной гостиницы, в которой я остановился, обещал мне богатых гостей, но пока он приводит только духанщиков с вываливающимися животами… Эти люди любят свою страну, свои песни, свое вино и топчут чужие души и чужих женщин, как деревенский вор топчет огород соседа…
И я стал молоть про духанщиков вздор, слышанный мною когда-то… Жалость к себе разрывала мне сердце. Гибель казалась неотвратимой. Дрожь горя и вдохновения корчила меня. Струи леденящего пота потекли по лицу, как змеи, пробирающиеся по траве, нагретой солнцем. Я замолчал, заплакал и отвернулся. История была кончена.
Керосинка давно потухла. Вода закипела и остыла. Резиновая кишка свисала со стены. Женщина неслышно пошла к окну. Передо мной двигалась ее спина, ослепительная и печальная. В окне, в уступах гор, загорался свет.
– Чего делают, – прошептала Вера не оборачиваясь, – боже, чего делают…
Она протянула голые руки и развела створки окна. На улице посвистывали остывающие камни. Запах воды и пыли шел по мостовой… Голова Веры пошатывалась.
– Значит – бляха… Наша сестра – стерва… Я понурился.
– Ваша сестра – стерва…
Вера обернулась ко мне. Рубаха косым клочком лежала на ее теле.
– Чего делают, – повторила женщина громче. – Боже, чего делают… Ну, а баб ты знаешь?
Я приложил обледеневшие губы к ее руке.
– Нет… Откуда мне их знать, кто меня допустит?
Голова моя тряслась у ее груди, свободно вставшей надо мной. Оттянутые соски толкались о мои щеки. Раскрыв влажные веки, они толкались, как телята. Вера сверху смотрела на меня.
– Сестричка, – прошептала она, опускаясь на пол рядом со мной, – сестричка моя, бляха…
Теперь скажите, мне хочется спросить об этом, скажите, видели ли вы когда-нибудь, как рубят деревенские плотники избу для своего же собрата плотника, как споро, сильно и счастливо летят стружки прочь от обтесываемого бревна?.. В ту ночь тридцатилетняя женщина обучила меня своей науке. Я узнал в ту ночь тайны, которых вы не узнаете, испытал любовь, которой вы не испытаете, услышал слова женщины, обращенные к женщине. Я забыл их. Нам не дано помнить это.
Мы заснули на рассвете. Нас разбудил жар наших тел, жар, камнем лежавший в кровати. Проснувшись, мы засмеялись друг другу. Я не пошел в этот день в типографию. Мы пили чай на майдане, на базаре старого города.
Мирный турок налил нам из завернутого в полотенце самовара чай, багровый, как кирпич, дымящийся, как только что пролитая кровь. В стенках стакана пылало дымное пожарище солнца. Тягучий крик ослов смешивался с ударами котельщиков. Под шатрами на выцветших коврах были выставлены в ряд медные кувшины. Собаки рылись мордами в воловьих кишках. Караван пыли летел на Тифлис – город роз и бараньего сала. Пыль заносила малиновый костер солнца. Турок подливал нам чаю и на счетах отсчитывал баранки. Мир был прекрасен для того, чтобы сделать нам приятное. Когда испарина бисером обложила меня, я поставил стакан донышком вверх. Расплачиваясь с турком, я придвинул к Вере две золотых пятирублевки. Полная ее нога лежала на моей ноге. Она отодвинула деньги и сняла ногу.
– Расплеваться хочешь, сестричка?..
Нет, я не хотел расплеваться. Мы уговорились встретиться вечером, и я положил обратно в кошелек два золотых – мой первый гонорар.
Прошло много лет с тех пор. За это время много раз получал я деньги от редакторов, от ученых людей, от евреев, торгующих книгами. За победы, которые были поражениями, за поражения, ставшие победами, за жизнь и за смерть они платили ничтожную плату, много ниже той, которую я получил в юности от первой моей читательницы. Но злобы я не испытываю. Я не испытываю ее потому, что знаю, что не умру, прежде чем не вырву из рук любви еще один – и это будет мой последний – золотой.