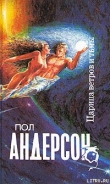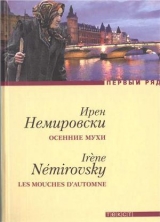
Текст книги "Осенние мухи. Повести"
Автор книги: Ирен Немировски
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Ницца, 1931
В 1903 году Революционный комитет поручил мне, как тогда выражались, уладить дело Курилова. На дальнейшую мою жизнь это событие мало повлияло, но теперь, вознамерившись написать автобиографию, я рассматриваю его как начало революционной деятельности, хоть и сменил впоследствии лагерь.
Четырнадцать лет я провел в тюрьме и в изгнании. Потом произошла Октябрьская революция («Буря и Натиск»), за ней последовало новое изгнание.
Пятьдесят лет жизни пролетели как один миг, вот только конец затянулся…
Я родился в 1881-м, 12 марта, в маленькой сибирской деревеньке на берегу Лены. Мои родители, Виктория Салтыкова и Максим Давидович М., террорист М., были политкаторжанами. Сегодня их имена всеми забыты.
Отца я помню смутно: на каторге и в ссылке нелегко быть примерным главой семьи. Отец был высоким, очень худым, с крупными костистыми руками и узкими сверкающими глазами под тяжелыми веками… Он был немногословен, а смех его звучал резко и печально. Когда за отцом пришли в последний раз, я был еще совсем мал. Он поцеловал меня, с усмешкой заглянул в глаза, устало улыбнулся, вышел из комнаты, вернулся за папиросами и навсегда исчез из моей жизни. Отец умер в тюрьме, в одной из камер Петропавловской крепости, которые во время осенних наводнений затопляла вода. Ему тогда было столько же лет, сколько исполнилось сейчас мне.
После ареста отца меня отправили в Женеву, к матери. Ее я помню лучше – она умерла весной 1891-го. Худая, тщедушная, светловолосая женщина в пенсне… Типичная интеллигентка 80-х годов… Помню, как мы возвращались из Сибири, – мне было шесть лет, а мой брат только что родился.
Мама держала его на руках, но как-то удивительно неловко – далеко от груди, словно это был не младенец, а придорожный камень, – и с ужасом слушала его голодный писк. Когда она меняла пеленки, у нее дрожали руки, пальцы не могли удержать булавки. У мамы были очень красивые, тонкие, но слабые руки. В шестнадцать лет она выстрелом в упор убила шефа жандармского корпуса Вятки – тот издевался над старой женщиной, женой политкаторжанина, заставляя ее стоять по стойке «смирно» на солнцепеке.
Она сама рассказала мне о том случае, не дожидаясь, пока я повзрослею, как будто боялась, что может не успеть…
Помню, с каким странным чувством я слушал этот рассказ. Голос ее был звонким и громким, а не устало-терпеливым, как в обычные дни:
– Я думала, что меня казнят. И считала свою смерть высшей формой протеста против мира слез и насилия.
Она замолчала, стараясь успокоиться, потом спросила:
– Ты понимаешь, Лёня?
Лицо матери было совершенно спокойным, только щеки слегка порозовели от возбуждения. Она не нуждалась в ответе. Мой брат заплакал, она со вздохом поднялась, взяла его, подержала несколько минут на руках, как тяжелый кулек, а потом оставила нас, вернувшись к своим письмам.
В Женеве она была членом боевой организации, которая после ее смерти заботилась обо мне.
Мы жили на партийное пособие и на деньги за уроки английского и итальянского, которые давала мама, весной относили зимние вещи в ломбард, осенью туда же отправлялась летняя одежда…
Мама была высокой и худой, она увяла в тридцать лет, превратилась в старуху со сгорбленными плечами и впалой грудью. Туберкулез «сожрал» ее правое легкое, но она говорила:
– Разве я могу лечиться, когда несчастные фабричные работницы харкают кровью? (С таким вот пафосом выражались в ту эпоху революционеры…)
Матери не приходило в голову отослать нас жить в другое место: разве больные матери-пролетарки не заражают своих детей?
Была, правда, одна вещь, которой мама никогда не делала: она нас не целовала. Правда, и мы были угрюмыми детьми – я, во всяком случае… Когда мама очень уставала, она иногда гладила нас по голове – медленно, с тяжелым вздохом проводила один раз по волосам и убирала руку.
Я думал, что забыл вытянутое бледное лицо матери, желтые зубы, устало моргающие за стеклами пенсне глаза, тонкие руки, не умевшие ни шить, ни готовить, но отлично писавшие шифрованные письма и подделывавшие паспорта, но стоит мне задуматься, и оно выплывает из тумана прошлого.
Два-три раза в месяц, по ночам, она переправлялась на другой берег Женевского озера, чтобы доставить во Францию брошюры и взрывчатку.
Меня она тоже брала с собой – может, хотела приучить к полной опасностей жизни «потомственного революционера» или надеялась усыпить бдительность таможенников, а может, потеряв двух сыновей, была не в силах оставить меня одного в гостинице. Так особо беспокойные мамаши тащат с собой детей даже в кино. На пароме я всегда засыпал. Происходило это, как правило, зимой, ночи стояли холодные, над озером висел густой туман. Во Франции мама на несколько часов оставляла меня у фермеров по фамилии Бо, они жили в доме на берегу. В семействе Бо было то ли шестеро, то ли семеро детей, целая орава маленьких, крепких, румяных и очень глупых крестьянских отпрысков. Меня поили обжигающе горячим кофе, давали свежеиспеченный хлеб и каштаны. Дом Бо – теплый, наполненный ароматом кофе и детскими криками – казался мне раем на земле.
Мне очень нравилась большая наклонная терраса: было здорово ходить там по колено в снегу и притоптывать, слушая, как хрустит ледок…
Два моих младших брата оставались на какое-то время одни в гостиничном номере. Оба они умерли, один – в два года, другой – в три.
Особенно хорошо помню ночь смерти второго брата, хорошенького, белокурого крепкого малыша.
Мать стояла в изножье старой кровати с зажженной свечой в руке и смотрела, как уходит ее ребенок. Я сидел у нее в ногах на полу и видел серое от усталости лицо. Мальчик дернулся раз или два, повернул к нам голову, взглянул на нас с немым удивлением и умер. Мать стояла неподвижно, только рука со свечой сильно дрожала. Потом она опомнилась, заметила меня, хотела что-то сказать («Лёня, смерть – естественное явление…»), но лишь печально улыбнулась. Она уложила мертвое тельце сына на свою подушку, взяла меня за руку и отвела к соседке. Тишина, ночь, бледное лицо матери в белой ночной рубашке, ее длинные распущенные волосы… все это напоминало смутный сон. Спустя немного времени она тоже умерла.
Мне было всего десять, и я унаследовал от матери чахотку. Революционный комитет отправил меня в лечебницу доктора Швонна. Этот швейцарец русского происхождения был одним из видных партийцев. Санаторий на двадцать коек, где я поселился, находился в Монсе, недалеко от Сьерры.
Моне, деревенька между Монтаной и Сьеррой, стоявшая в окружении темного ельника и серых гор, казалась мне тогда ужасно скучной…
Много лет я смотрел на мир из стоявшего на веранде шезлонга и видел лишь верхушки деревьев и окна павильона на другой стороне озера, в которых отражались лучи заходящего солнца.
Когда я начал поправляться, мне позволили выходить и спускаться в деревню. По дороге брели мои товарищи по несчастью – закутанные в пледы чахоточники. Все тяжело, со свистом дышали, то и дело останавливались передохнуть, считали деревья и с ненавистью и тоской смотрели на закрывающие горизонт горы. Я по сию пору помню этот пейзаж, помню, как пахло в санатории – дезинфицирующим средством и свежевымытым линолеумом, и слышу во сне шум осеннего фёна, сухого и теплого альпийского ветра.
Находясь в заведен и и доктора Швонна, я учил языки и медицинскую науку, к которой питал особую склонность, а окончательно окрепнув, стал выполнять задания Революционных комитетов Швейцарии и Франции.
Я – революционер по рождению…
Глава IIЯ начал делать эти заметки, когда решил было писать автобиографию. Время тянется долго. Нужно найти занятие, которое скрасит мои последние годы. Но меня одолевают сомнения. Помню, как говорил старина Герц: «Нелегко откровенно и понятно объяснить, что есть формирование революционера…» Моя легенда, «легенда Леона М.», стала частью октябрьской иконографии, к которой лучше не прикасаться. Я был сыном политкаторжан, воспитанным на пламенных речах и чтении книг, но мне не хватало революционного огня и силы духа.
Помню, с какой завистью слушал в Женеве рассказы товарищей об их бурной молодости. Один из них – ему было тридцать лет – совершил четырнадцать терактов (четыре из них удались) и четыре кровожадных хладнокровных убийства средь бела дня, прямо на улице. Однажды, когда мы возвращались декабрьской ночью из Комитета, этот бледнолицый рыжий человек с маленькими белыми влажными ручками рассказал, как сбежал из дома в шестнадцать лет и восемнадцать дней бродил по Москве.
– Знаете, чего вам недостает? – с улыбкой спросил он. – Смерти убитой горем матери и чтения нелегальных брошюр майскими ночами на берегу реки при свете костров…
Он говорил со странным придыханием, короткими фразами, то и дело замолкал и повторял со вздохом:
– Славные были времена…
Золотые слова…
Прошло время, и я узнал ссылку, казематы Петропавловки, маленькие зловонные камеры, где содержалось по двадцать – тридцать заключенных одновременно, огромные мрачные ледяные застенки в провинциальных тюрьмах… Страшнее всего было слушать, как приговоренные к смертной казни женщины поют революционные песни.
Впрочем, романтика революции быстро перестала меня возбуждать.
Автобиография – чистой воды тщеславие… Лучше повспоминать в одиночестве, как делали заключенные в государственных тюрьмах, записывая свои мысли в тетрадки (как только они заполнялись рассказами и воспоминаниями, их отбирали и сжигали).
Да и успею ли я закончить автобиографию? Прожитые годы до предела заполнены событиями… Я знаю – моя смерть не за горами: все, что когда-то воспламеняло – споры с товарищами, яростная полемика внутри партии, – теперь утомляет и оставляет равнодушным. Притупились не только мои чувства – износилось и тело. Мне все чаще хочется отвернуться к стене, закрыть глаза и заснуть глубоким сном – последним сладким сном.
Глава IIIЯ принадлежал партии по рождению, первым годам жизни и вере в то, что социальная революция неизбежна, необходима и справедлива настолько, насколько вообще могут быть справедливы дела людей. Я жаждал не только власти, но и человеческого тепла, и партия дала мне его.
Я люблю массы, люблю людей. Здесь, в Ницце, я живу в доме Лурье. Он выстроен из белого камня и стоит в саду, где нет ни одного высокого дерева, а рядом проходят две дороги – одна ведет в Монако, другая петляет вдоль моря. Воздух пахнет пылью и выхлопными газами, которые скоро прикончат мои измученные легкие. Я живу один: по утрам старая служанка убирает четыре пустые комнаты, готовит мне еду и уходит. Но вокруг шумит жизнь, и мне это нравится: люди, машины, трамваи, ссоры, крики и смех… Чьи-то тени, незнакомые лица, обрывки фраз… Внизу, за садиком, где растет шесть хилых кустиков – однажды они станут персиковыми деревьями, а может, миндальными, кто знает! – находится маленькое итальянское бистро с механическим пианино и скамьями в обвитой зеленью беседке. Рабочие – итальянцы и французы – приходят сюда выпить вина.
Ближе к ночи, когда они начинают подниматься по петляющей вдоль моря дороге, я выхожу из дома, сажусь на низенькую стенку, отделяющую сад от бистро, и разглядываю этих людей, слушаю их разговоры.
Посетители засиживаются далеко за полночь, и время пролетает почти незаметно. К счастью для меня – я все время кашляю и засыпаю только на рассвете. Я не любуюсь цветами и морем, потому что терпеть не могу природу. Я был счастлив лишь в городах – грязных, уродливых, тесно застроенных домами городах, где летом улицы дышат жаром, а мимо идут незнакомые люди с усталыми лицами. Когда на Ниццу опускается тишина, когда последние авто возвращаются вдоль моря в Монте-Карло, я остаюсь наедине с собой и предаюсь воспоминаниям. Раньше я работал. Теперь с этим покончено.
Моя жизнь революционера началась в восемнадцать лет. Я много раз выполнял задания на юге Франции, провел некоторое время в Париже. В 1903 году Комитет направил меня в Россию, поручив убить министра народного образования. После этой истории я порвал с боевиками и сблизился с Т. За дело Курилова меня приговорили к смерти, но за несколько дней до казни родился наследник престола цесаревич Алексей, и я получил помилование – бессрочную каторгу. Помню, что ничего не почувствовал: я харкал кровью и был уверен, что умру по дороге в Сибирь. Но смерть, как и жизнь, непредсказуема.
Я выжил на каторге, поправился и бежал.
Помню, что в 1905-м, в первые месяцы революции, я так уставал, что спал как убитый, но был очень счастлив.
Я сопровождал Р. и Л. на заводы, где они выступали перед рабочими. Голос у меня всегда был резким и неприятным, а из-за слабости легких я не мог произносить длинных речей, они же часами агитировали толпу. Я спускался с трибуны, смешивался с людьми и разъяснял им все, что было непонятно, давал советы, старался помочь. Бледные лица рабочих, их сверкающие глаза, их крики, их гнев и даже их глупость опьяняли меня, как вино. Меня возбуждало чувство опасности, в отличие от остальных я не пугался, когда по улице мимо окон проходил состоявший на жалованье у полиции дворник.
Рабочие расходились по одному, растворяясь в осеннем тумане ледяной петербургской ночи. Выждав некоторое время, мы тоже исчезали и до самого утра петляли по улицам, сбивая со следа шпиков.
Я покинул Россию и вернулся только накануне революции.
В своих прежних статьях и исторических работах я описал, что тогда происходило и что за этим последовало.
В 1917-м я стал большевиком Львом М. На карикатурах в западной прессе меня изображали в кепке и с ножом в зубах. Год я был сотрудником ЧК, но хорошо выполнять эту чудовищную работу могли только люди, переполненные жгучей личной ненавистью. Я же…
Странное дело: я спасал не только ни в чем не повинных людей, но и некоторых врагов новой власти, однако меня ненавидели сильнее, чем моих товарищей, например матроса Ностренко, истеричного позера, пьяницу и педераста, лично расстреливавшего приговоренных к смерти узников (хорошо помню его напудренное лицо с выщипанными бровями и белую гладкую, как у женщины, кожу на груди…), или поляка Ладислава, горбуна с изуродованной шрамом отвислой нижней губой.
Думаю, идущим на смерть становилось легче от сознания, что их палачи – безумцы или чудовища, я же выглядел вполне заурядно – маленький человечек в пенсне, курносый, с тонкими руками.
Когда политический курс изменился, меня выслали из страны. С тех пор я живу недалеко от Ниццы на скромные гонорары за книги и статьи для партийных газет и журналов.
Я осел в Ницце не случайно: мне в руки попали документы некого Жака Лурье, умершего от тифа в Петропавловской крепости. Лурье, латышский еврей, получивший французское подданство, был совершенно одинок и имел маленькую виллу, которую я, так сказать, «унаследовал». Я мог встретить соседей настоящего Жака или его друзей, и это щекотало мне нервы, но все о нем забыли. Я живу в его доме и скоро умру.
Дом маленький и неудобный, к тому же лишних денег у Лурье не было, так что высокой ограды, чтобы скрыть его от чужих взглядов, он не соорудил.
Слева от дома находится каменистый клочок земли, куда козы приходят щипать пахучую жесткую траву. Справа стоит такой же маленький каменный домик с выкрашенными в розовый цвет стенами – его каждый год сдают разным людям.
Позади проходит дорога из Ниццы в Монте-Карло, внизу протянулся виадук. До моря далеко, но дом уютный, светлый и прохладный.
Вот так я и существую, временами переставая понимать, благо этот покой или медленная смерть. В России мой день начинался в пять утра, и теперь я неизменно просыпаюсь в этот час, а если не сплю, меня одолевает тоска. Я хватаю первую попавшуюся под руку книгу, тут же откладываю, беру тетрадь, начинаю писать. Светает, розы источают нежный аромат. Я отдал бы все на свете, даже жизнь, чтобы оказаться в комнате, где мы спали вповалку сразу после того, как в туманно-снежную ноябрьскую ночь взяли власть. Дул сильный ветер, в городе стреляли, глухо рокотала высокая, как всегда по осени, невская вода. Беспрестанно звонил телефон. Иногда у меня мелькает мысль: «Будь я сейчас моложе и здоровее, вернулся бы в Россию, начал бы все сначала и умер счастливым, ни о чем не думая… в одном из тех застенков, которые так хорошо знаю».
Власть, иллюзия господства над судьбами людей пьянит как вино. Лишаясь их, человек испытывает немыслимые страдания и тоску. В другие моменты мне все безразлично, ожидание смерти приносит облегчение. Я не чувствую боли, разве что по вечерам, когда поднимается температура и кровь шумит в ушах. К утру все проходит. Я зажигаю лампу и сижу за столом у открытого окна, а когда встает солнце, успокаиваюсь и засыпаю.
Глава IVИсполнительный комитет собирался в Швейцарии раз в год, чтобы вынести приговор нескольким высшим сановникам империи, известным своей жестокостью. Моя мать входила в эту организацию. В мое время членами Исполкома были двадцать человек.
В 1903 году министром народного образования Российской империи был Валерьян Александрович Курилов, реакционер победоносцевского толка, очень умный, холодный и грубый человек, которому благоволил император Александр III и покровительствовал князь Нельроде. Он не принадлежал к высшей знати империи и, как это часто случается, пытался быть «святее Папы Римского». Он ненавидел революцию и революционеров и презирал народ в тысячу раз сильнее собратьев по правящему классу.
Курилов был высоким и толстым, говорил и двигался медленно, студенты прозвали его Кашалотом («свирепым и ненасытным») за жестокость, властолюбие и жажду почестей. Этого человека очень боялись.
Руководители партии хотели ликвидировать Курилова демонстративно, чтобы поразить воображение публики. По этой причине осуществить покушение было сложнее, чем всегда: нельзя было просто бросить бомбу или выстрелить из револьвера, следовало очень тщательно и точно выбрать время и место. Доктор Швонн первым рассказал мне о Курилове. Самому Швонну было тогда около шестидесяти. Он выглядел легким и хрупким, как танцовщик. Маленькое тонкое личико обрамляли пушистые курчавые седые волосы странного, совершенно белого цвета, над узким, с жестоким оскалом, ртом нависал загнутый как клюв нос. Я знал, что Швонн безумен, хотя в лечебницу в Лозанне он попал уже после моего отъезда. Там он и умер. Швонн внушал мне ужас и инстинктивное отвращение, но был невероятно талантлив – он одним из первых использовал пневмоторакс для лечения легочного туберкулеза, ему одинаково нравилось уничтожать людей и лечить их.
Помню, как он приходил на балкон (мне было предписано спать на свежем воздухе зимой и летом, чтобы «проветривать» легкие) одетый в роскошный халат в розово-голубых разводах, и разъяснял мне, «что есть террор».
– Вообрази, Лёня, что видишь перед собой огромного толстяка, выжимающего из людей последние соки… Ты посмеиваешься и думаешь: «Уже скоро, старина, совсем скоро…» Он тебя не видит. Ты где-то там, в тени. Делаешь движение… вот так… поднимаешь руку… Бомба небольшая, ее легко спрятать – завернуть в платок, засунуть в букет… Фьюить!.. Полетела! Старика разорвало в клочья…
Возбужденный шепот Швонна прерывался взрывами смеха.
– И душа его отлетела… animula vagula, blandula [2]2
Душонка непостоянная и льстивая (лат.)
[Закрыть](Швонн, как и бедняга Курилов, обожал крылатые латинские выражения…)
Он все время шевелил пальцами, как будто заплетал косички, его профиль с крючковатым носом и тонкими губами отчетливо выделялся на фоне освещенного луной ночного неба и посеребренных снегом елей.
Один из руководителей партии время от времени передавал Швонну крупные суммы денег – я никогда не понимал, как именно это осуществлялось. Кое-кто – но не я – считал его провокатором охранки.
Именно Швонн в 1903 году повез меня на заседание Исполнительного комитета. Холодной ясной зимней ночью мы ехали в Лозанну по зубчатой узкоколейке, спускавшейся вдоль покрытых жесткой ледяной коркой склонов. Других пассажиров в вагоне не было. Швонн облачился в широкий пастушеский плащ, но шляпы, несмотря на холод, как всегда, не надел.
Он продолжил разговор о Кашалоте.
Комитет дважды посылал боевиков для устранения министра – оба были задержаны и повешены. Комитет констатировал, что никто из членов организации не сумеет совершить покушение: слишком уж хорошо работает полиция. Маскироваться бессмысленно, а арест скомпрометирует других членов партии.
С некоторых пор иностранная пресса не публиковала сообщений о терактах, а покушение на Курилова следовало осуществить на глазах у всех, в присутствии послов иностранных государств, в общественном месте, во время церемонии или праздника, что удесятеряло сложность задачи. Меня никто не знал – ни полиция, ни революционеры в России, я говорил по-русски, хоть и с сильным иностранным акцентом, кроме того, мне не составит труда въехать в страну по швейцарскому паспорту.
Сегодня, по прошествии стольких лет, я не могу вспомнить, что чувствовал, слушая тихий голос Швонна. Считалось, что Комитет приговаривает к смерти только виновных, я рисковал жизнью и мог погибнуть вместе со своей жертвой, что оправдывало убийство и отпускало убийце грехи. В двадцать два года я был совсем другим человеком. Я не видел ничего, кроме санатория Швонна и темной комнатенки в Монруже. Я спешил жить, мне казалось, что я держу в своих руках судьбу другого человека, и это ощущение мне нравилось…
Я молчал и смотрел в окно, постукивая пальцами по занесенному снегом стеклу. Мы подъезжали к долине. Еловый лес поредел, обледеневшие лапы деревьев сверкали в темноте, освещаемые пламенем костров дровосеков.
Наконец мы прибыли в Лозанну, где этой ночью должен был собраться Комитет.
Я был знаком с каждым из членов Комитета, но впервые видел их всех вместе – Лудина с женой, Рубакова, Бродского, Дору Эйзен, Леонидова, Герца…
Большинство этих людей погибли насильственной смертью.
Кое-кто успел вовремя отойти от дел. Герц теперь живет здесь, во Франции. Один раз я видел его в Ницце, на Английской набережной: он шел с болонкой на поводке, опираясь на руку жены, и выглядел старым, больным, но вполне умиротворенным – этакий добропорядочный французский буржуа.
Герц прошел мимо, не узнав меня. Когда-то по его приказу убили генерал-губернатора Римского и министра Бобринова.
В 1907 году он должен был взорвать царский поезд, но по ошибке бросил бомбу под колеса состава Санкт-Петербург – Ялта: император с семьей ехали в другую сторону. Ошибка Герца оборвала жизнь двадцати человек (не считая действовавших по его приказу бомбистов, но эти люди знали, на что идут и чем рискуют).
Заседание Комитета проходило в комнате Лудина и продлилось меньше часа. Чтобы отвести глаза соседям, на стол перед открытым окном выставили бутылки с вином. Время от времени одна из женщин подходила к старенькому пианино, чтобы сыграть вальс. Мне выдали паспорт на имя уроженца Женевы доктора медицины Марселя Леграна, дипломы и деньги. Потом все разошлись по домам, а я вернулся в гостиницу.