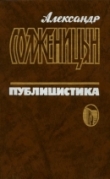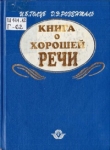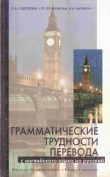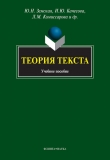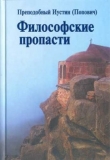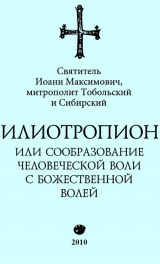
Текст книги "Илиотропион, или Сообразование с Божественной Волей (редакция 2010)"
Автор книги: Иоанн Святитель (Тобольский)
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
1
Не только христианская мудрость знает ту доблесть, о которой упомянули мы выше, но великодушие это было известно и древним язычникам. Гораций верно описывает тип своего великодушного героя-мудреца такими чертами: доблестный муж крепко держит свои обещания и данного слова никогда не изменяет. Это явно открывается из того, что никакие угрозы и лишения не могут изменить объявленного им праведного обета или совестливого положения о каком-либо предмете: не изменит он их ни по страху своих сограждан, повелевающих ему злое дело, ни угрозы мучителей и самые их действия, многих обыкновенных (слабых) устрашающие, не подвигнут его ум в измене своей совести и данному обету. Невозможно приклонить его в своих пожеланиях, он устоит, пребудет в нападении на него непоколебимым, как недвижимый столб[88]. Если всё обратится в прах, в ничто, само небо обрушится, и под такой тяжестью сердце, уповающее на Бога, не устрашится: ибо не тщетные обещания утверждают это сердце, но невидимо пребывающий в нём Сам Бог, Который открыто сказал всем устами пророка и царя Давида: не прикасайтесь к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла (Пс 104:15). И действительно, души праведных в руке Божией, и мучение не коснётся их (Прем 3:1). К этому пророк Захария присовокупляет: касающийся вас касается зеницы ока Его (Зах 2:8); а возлюбленный ученик Христов Иоанн выражается так: Мы знаем, что всякий, рождённый от Бога, не грешит; но рождённый от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается в нему (1 Ин 5:18), то есть не прикасается столь могущественно, чтобы мог победить его.
Ассирийский царь Сеннахирим все иудейские города разорил и покорил (при царе Езекии), но Иерусалима не только не мог взять – не сумел даже сделать вокруг него осаду и увидеть этот город. Пространно написано об этом в Книге пророка Исаии. Посему так говорит Господь о царе Ассирийском: «не войдёт он в этот город и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. По той же дороге, по которой пришёл, возвратится, а в город сей не войдёт, говорит Господь (Ис 37:33–34). Подобно этому бывает с людьми богобоязненными. Муж праведный, имея путеводителем для своих поступков закон Божий и волю Божию относительно внешних событий, остаётся со всех сторон непреоборимым: всё горестное, с ним случившееся, не побеждает его и чрезмерной печалью не убивает, поражает ли болезнь все члены его тела или постигают бесчисленные бедствия; однако же он, вознося мужественный ум и сердце к Богу, прибегает к Нему с крепкой надеждой на Его помощь и вместе с этим, при всех неудобствах, согласует собственные желания с Божественной волей. У него любящее сердце, движения которого к Вечному Благу никогда и никакими узами пристрастия к чему-либо иному не могут быть связаны против его воли, если только он хочет, чтобы они стремились в вечные объятья воли Божественной.
В церковных хрониках сохранились воспоминания о муже мудром, великом и славном в добродетели, с которым приключилось происшествие весьма неудобное для рассказа, причём он прославил этот случай так: «Приветствую (радуйся) тебя, горесть прегорчайшая, но вместе с сим и полная всякой милости Божией и благословения!» Подобное случилось с Сократом, который принял с величайшей радостью приготовленную для него отраву. То же самое было со святым апостолом Андреем, который, когда вели его на распятие, ещё издали приветствовал святой Крест и, приблизясь к нему, радостно обнял и поцеловал его. Таким же образом ценят ограду ради сбережения ею сада, и дерево любят ради приносимых им плодов.
2
Ты скажешь, любезный читатель: в училищах мы благодушно и пространно говорим об этом, но иначе поступаем дома, сталкиваясь с неприятностями на деле: голод, бесчестье, потери имущества, жестокие мучения, причиняемые болезнью, никого не веселят, ибо всё это тяжело поражает человека, который был бы крепче железа, если бы только его не сокрушили упомянутые удары. Извини меня, любезный, мне кажется, что ты принадлежишь к числу друзей, утешавших праведного Иова, который сказал им в лицо: «Много я слышал такого: все вы жалкие утешители, многоречивые друзья мои! К Богу слезит око моё (Иов 16:20); оно слезит, не прекословлю, и это не есть утешение; но оно слезит перед Богом: в этом истинное, постоянное веселие; Господь не отвергнет беззлобного и, напротив, величайшего дара не примет от нечестивца. Чего же вы желаете? Рука Господня коснулась меня, но лучше быть побитым этой рукой, чем принимать ласки от иной руки. Десница Господня одним прикосновением исцеляет, биением же дарит не болезнь, но здоровье, не смерть, но жизнь». Так отвечал Иов своим друзьям. То же прилично ответить и тебе на твоё возражение и вместе с тем предложить один вопрос: если кто на фехтовании ударит тебя металлической перчаткой и причинит кровавую рану, едва ли ты станешь обвинять в этом перчатку? Это – дело руки, но едва ли ты подашь судье жалобу и на руку: человек нанёс тебе удар. Так и Бог руку, которой бьёт, покрывает перчаткой, иногда кожаной, иногда деревянной, а иногда и железной: сегодня наказывает голодом, в другой раз – бесчестьем; теперь попустил Он оскорбить тебя этому человеку, в другое время – иному; а иногда Он наказывает тебя через твоих родных, через домашних или братьев. Чего же тебе хочется? Одна и та же Божественная рука бьёт, но не одинаково, а различно, и через других лиц посещает тебя и наказывает. Зачем ты порицаешь других? Этот хитрец по зависти нанёс мне вред; тот вор и разбойник поверг меня в такую беду, а этот льстец отнял у меня мою честь, славу и моё имущество.
Что ты рассказываешь, неразумный? Что учиняешь судебный процесс против перчатки? Обрати внимание на руку Бога, ниспосылающего тебе как милости Свои, так и наказания. Всё это ниспосылается тебе от Бога. Вспомни царя Давида, который не жаловался на причиняемые ему бедствия и молчал, крепко содержа в памяти, что Бог попускает озлоблять его: ибо Ты соделал так (Пс 38:10). Соломон, ведя разговор о днях благополучных и днях несчастья, сказал: В дни благополучия пользуйся благом, а в дни несчастья размышляй (то есть подумай о своём прошедшем и тяжкое настоящее считай для себя за лучшее): то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него (Еккл 7:15). Почему мы настолько неблагодарны пред Богом, в то же время благодарим своего врача, который сделал нам удачную операцию: отлично, – говорим мы ему, – любезный доктор! Хоть и больно было мне терпеть разрезы твои, но я весьма благодарен вам в надежде быть совершенно здоровым! Мы хвалим того врача, который яд ехидны умело использует для излечения недугов, и удивляемся ему. Зачем же мы не принимаем с радостью ниспосылаемые нам от Бога бедствия и человеческие обиды с целью вразумить нас и обратить на путь спасения? Да будет всем известно, что пред Богом открыты все наши дела и Он знает, ради чего Он посылает то или другое, хотя это и сокрыто для нас. Мы же тайно ропщем на Бога: о, Господи! Как тяжко Ты наказал меня, невыносимо тяготеет на мне рука Твоя! Напротив, любезнейший христианин, произнося такие дерзновенные жалобы перед Богом, ты сам очень ошибаешься: не Он жесток и не рука Его тяжела в наказании тебя. Он, обнимая одним взором твоё прошедшее, настоящее и будущее, избирает, ниспосылает для тебя, по Своему милосердию, всё то, что для тебя есть самое лучшее, хотя это была бы и самая смерть твоей земной жизни, но душа твоя – вечна, и тебе неизвестно, что постигнет тебя в будущем при твоём малодушии и нетерпеливости, превосходящей непостоянство погоды. Бог желает уврачевать тебя, сделать крепким по духу, а тебе кажется, что Он приготовляет тебе смертоносную отраву. По слову мудрого: праведник, подобно вечному основанию, во веки не поколеблется, нечестивые же (безбожники) не поживут на земле (живых) (Притч 10:30). Праведник крепок в самом себе, в сердце своём, где ничто не может ни поколебать его, ни устрашить: он спокоен духом во всяких бедствиях, постигающих его.
3
Сенека обращался к своему любимцу Луцилию с такими пожеланиями: «Желаю тебе быть постоянно весёлым, да будет всегда радость в доме твоём, и не удалится она из него, если только будет она пребывать внутри тебя самого. Всякая внешняя радость не наполнит сердца, она часто наводит скуку или причиняет нечто скорбное, ибо она непостоянна. Не думай, что каждый смеющийся весел; тот только истинно весел и доволен, у кого весело на сердце, у кого сердце мужественно, неустрашимо и возвышается над всем земным»[89]. Действительно так: пусть стремится сердце каждого из нас выше всего земного к Богу (высочайшему вечному добру), живя согласно велениям и воле Божией до такой степени, чтобы ничто случившееся с нами не возгордило бы нас, равно и не повергло бы в печаль, и не сокрушало бы, и тогда истинным для нас весельем будет собственное внутреннее сознание, что мы стоим выше утех мира сего, попирая их ногами. И если с помощью Божией достигнем мы такой степени духовного восхождения нашего к Богу, то милость Божия будет ниспосылать нам в горькие минуты искушения нашего свою непреодолимую силу для попрания их и породит в сердце нашем истинную и неизменную радость и веселье, пред которыми мирские утехи и греховные сладости обнаружатся во всей своей ничтожности, бессилии и мерзости, как недостойные внимания разумного человека и истинного христианина. Все мирские увеселения забавляют только внешним образом не душу человека, а его животный организм и, не будучи управляемы душою, низводят человека до подобия неразумного животного. Иначе смотрит благоразумный человек на нечестивые (языческие) забавы, об этом свидетельствует тот же Сенека, говоря: «Радость, порождённая духом человека (от себя, то есть бессмертной души), верна и крепка и растёт, постоянно увеличиваясь, и даже до кончины пребывает»[90]. Заметь и пойми правильно слова: «и даже до кончины пребывает»: кончина здесь означает конец, окончание совершения, достижение полноты совершенства какого-либо существа, как и апостол Павел выразился: доколе все придём… в меру полного возраста Христова (Еф 4:13). Ибо одна добродетель доставляет радость постоянную, вечную, безбедную; если же случится нечто и печальное добродетельному, то оно находит на него не иначе, как туча или облака, носящиеся ниже солнца, но сияния солнечного и света дневного не помрачающие. Это верный образ сердца чистого, сокрушённого и смиренно преданного воле Божественной. Ибо как высшая твердь небесная, находящаяся выше луны, имеет постоянное светлое пространство, никогда облаками не помрачаемое, ни землетрясением не колеблемое, никакой бури и никакому возмущению не подлежит; подобно этому и ум человеческий, радушно предавший себя воле Божией, пребывает всегда в тишине душевной кротким, светлым, общительным с другими и миролюбивым: ничто, приключившееся с ним не печалит его. Муж праведный не будет постоянно находиться ни в радости, ни в печали; он будет иметь и две радости, и две печали, сменяющиеся по распоряжению Промысла. Приятно и таинственно это соединение веселья со скорбью; ибо оно есть не что другое, как только внутренний покой, и мир, и согласие ума с Промыслом и нравственного величества с кротостью (образ учения Христова).
Всего этого не имеют неразумные и злобные люди: внутри них воюют и сопротивляются друг другу разные страсти, ими же самими порождаемые, которые возбуждают и умножают в их уме и сердце целые легионы и полки печальных и неприятных помыслов. Напротив, добрый человек, преданный во всём воле Божией, находясь и в несчастье никогда не жалуется и не воздыхает, встречающиеся невзгоды презирает и всё недоброе исправляет и покрывает добрым советом и обращает таким способом в доброе; в конце концов, он никогда не жалуется пред Богом на других, причиняющих ему оскорбления. В этом состоит спокойствие и нравственная высота ума, достигаемые безмолвным пребыванием в добродетельной жизни. В этом заключается величайшее и непоколебимое веселие праведных душ, которых не может поразить и опечалить никакое внешнее злоключение: ибо то, что изрекла Премудрость в Священном Писании, достигается в действительности кротким и смиренным исполнением нами воли Божией: слушающий Меня вселится на уповании, то есть будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла (никакого несчастья) (Притч 1:33). Это подтверждает и блаженный Амвросий: «Мудрый не сокрушается телесными болезнями и не скорбит о них, не печалится находясь в бедах, но и в скорбях пребывает благодушным и терпеливым, ибо не в наслаждениях и утехах телесных состоит блаженство и счастье: оно достигается только совестью, чистой от всякого порока»[91].
4
Нельзя сказать категорично, что праведники не претерпевают бедствий: они чувствуют их боль, ибо никакая сила и добродетель не могут угасить чувственного страдания, но они не страшатся его, не падают духом, который возносит их выше всякой боли и делает непреодолимыми. Это заметил ещё Сенека, выражаясь о добродетельном человеке так: «Доброму мужу не может приключиться ничего злого», как бы поясняя, что для добродетельного человека неугодные для него приключения не причиняют зла: «как множество рек, текущих в океан, не изменяют вкуса морской воды, так и многоразличные наветы и напасти, совершаемые против мужа доблестного и непоколебимого, не извращают его ума и сердца. Он всегда пребывает неизменным в своих понятиях и действиях и всё противное себе, считая как ниспосланным или допущенным свыше, обращает в конце концов в истинное для себя добро. Всякое внешнее приключение с ним делает его сильнее – не говорю, чтобы оно не было для него ощутимым, но он побеждает это воздействие и всегда остаётся в душе своей умиротворённым и довольным, – словом, он становится выше всякого приключения. Всякое злоключение считает он для себя практическим поводом к вразумлению и нравственному усовершенствованию»[92]. Таковыми мужами действительно были многострадальный Иов, пророк Давид, апостол Павел и многие другие.
Давид говорил: Если я пойду и долиною смертной тени (то есть переселюсь в загробную жизнь), не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Господи (Пс 22:4). Павел же ободрял верующих во Христа словами: Если Бог за нас (то есть содействует нам), то кто против нас? (Рим 8:31).
Святитель Павлин Милостивый, епископ Ноланский, говорил: «Если Бог нам помощник в борьбе с врагом, то и паутинные сети охранят нас лучше, чем каменные стены; напротив, если Бог оставил меня и нет Его со мной, тогда тончайшая паутинная ткань сделается для меня сильнейшей препоной к достижению цели, чем самые крепкие стены». В доказательство справедливости своих слов он приводит такой факт: один ноланский священник по имени Феликс укорял язычников за их мерзкое идолопоклонство; язычники за это преследовали его и хотели убить; он, убегая от преследования, скрылся в тесном промежутке между двух каменных старых построек; в одной из последних находилась расселина, через которую пролез гонимый священник. Таким образом преследователи потеряли его из виду, хотя и прилежно осматривали ту расселину, затканную паутиной, которую паук немедленно поправил. И заключили они, что через расселину никто не пролезал, иначе паутина была бы разорвана, а потому и прекратили преследование[93].
Истинно сказано: Взывают [праведные], и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. (Пс 33:18). Это же самое исповедует святой царь Давид пред всем миром: Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня (Пс 33:5). Того ради и мы вместе с апостолом Павлом, которого спас Бог в Асии от смертных скорбей, возблагодарим Бога: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих! (2 Кор 1:3–4; ср.: 1:8–10).
Никакое скорбное приключение не одолеет праведника, как никто не может коснуться зрачка Христова, кроме того, кому бы то позволил Сам Христос. Точно таким образом без воли Божией не исторгнется у праведника и волос с головы его (см.: Лк 21:18). Зная же, что всякое с ним приключение случается по воле Божией, праведник встречает оное молитвенными словами: Да будет воля Твоя и на земле, как на небе – в том убеждении, что всё, происшедшее относительно его, послужит ему во благо. Пророк Исаия, перечисляя многоразличные бедствия, угрожающие Иерусалиму и всему народу иудейскому за крайне безнравственное его поведение: за умножившиеся преступления и грехи против заповедей Божиих? – изрекает при этом для всех, имеющих добрую совесть, защиту и Божие к ним благоволение в таких словах: Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды от дел своих (добрых) (Ис 3:10). О, святой и преславный пророк! У этого доброго человека умерла жена; но ты говоришь: скажите ему, что это во благо ему; а у этого – сгорел дом, также скажите: благо ему; тот перенёс величайшую личную обиду, бесчестие: благо ему! А этот похоронил всех своих детей – скажите: благо ему! Некто потерял огромнейшее имение, – вдвойне скажите: благо ему! Ибо, как мне кажется, он сам бы погиб, если бы не был прежде лишён своего золота и драгоценностей.
Когда Иаков на пути к Лавану, будущему его тестю, застигнут был ночью и лёг спать, земля служила ему вместо кровати, а камень, там же взятый, положил он себе под голову: как видите, и постель и ночлег были у него незавидны, но он заснул и видел чудный сон, видел лестницу, основание которой было на земле, а вершина её касалась неба, опираясь на него; по этой лестнице восходили вверх и нисходили вниз Ангелы Божии, и Сам Господь вверху её стоял на ней (ср.: Быт 28:11–13). Да послужит это видение подобием и объяснением встречающихся нам в жизни приключений. Многие из нас видят в них положенный себе камень под голову, но да будет им известно, что окружены они, невидимо для плотских очей, бодрствующими Ангелами с Самим Богом, каждое мгновение видящим их беды. Вот почему никакое горькое приключение не побеждает людей с чистой совестью, и чистым сердцем, и духом смиренным: надеющийся на Господа будет благоденствовать (безопасен, без страха) (Притч 28:25).
Альфонс V, неаполитанский и арагонский царь, названный Великодушным (1416–1458), будучи уже стариком, каждый день читал Ливия и Цезаря, перевёл на испанский язык послания Сенеки. Но он занимался не только чтением исключительно светских писателей: он прочёл четырнадцать раз все книги Ветхого и Нового Завета и все толкования на них, и при этом читал их не как-нибудь, наскоро, но с величайшим вниманием и размышлением. Этот царь, столь великий в добродетели и благоразумии, оставил вместе с другими изречениями следующее, бывшее последним из его речей. Когда спросили его однажды: кого бы он по глубокому своему разуму назвал счастливейшим и блаженным? «Того, – отвечал он, – считаю я весьма счастливым и совершенно блаженным, кто всего себя с величайшим благоговением и чистым сердцем предал в руководительство Богу; и вследствие сего всё, что с ним ни случается в его жизни, считает он за Божие распоряжение и принимает оное хваля и благодаря Бога». Это такое изречение, которое и сам Ангел небесный счёл бы истинным и справедливым.
5
Ираклий оставил нам свою беседу со святым пустынножителем Дорофеем, который шестьдесят лет богоугодно прожил в каменной расселине. «Однажды навестил я Дорофея в пустыне, – говорит Ираклий, – он же, между прочим, предложил мне сходить к источнику, там же в пустыне находящемуся, чтобы почерпнуть воды; я отправился и, увидевши в колодце плавающего огромнейшего ужа, со страхом возвратился к старцу с порожним кувшином. Старик усмехнулся, долго смотрел на меня и сказал: “Если бы Бог дозволил диаволу набросать во все источники змей, то ты не почерпнул бы воды ни из одного источника?” Затем он, выйдя из пещеры, поспешно пошёл к тому же источнику, наполнил кувшин водой, перекрестил воду крестным знамением и начал пить, говоря мне: “Где крест, – оттуда зловредный сатана бежит бессильным. Надеющийся на Господа будет безопасен, будет, как лев без страха (ср.: Притч 28:25): никакое злоключение не преодолеет праведника, хотя оно может быть горьким для его чувства (ср.: Притч 12:21)”»[94].
Мы заметили выше, что злоключение, постигшее праведника, хотя огорчает его, но не побеждает, то есть внутренний его человек, его «я», остаётся постоянно спокойным и ещё более укрепляется. Сказанное здесь требует доказательств. Святитель Иоанн Златоуст представил нам их[95]. Первое: когда наше тело обуревается различными болезнями (болью разнородной), то часто бывает, что одна боль заглушает другую, то есть делает последнюю нечувствительной. Так, например, человек повредил палец и вместе с тем страдает от головной боли и боли в животе: о боли в пальце он молчит, не чувствует её при сильнейших болях, но горько жалуется медику или друзьям на сильную боль головы и в желудке. Так святитель велит поступать и тебе, страдающему от лишения богатства, от оскорбления другими твоей чести, доброго имени или гражданского сана и достоинства – ты пробуди в себе тяжкую болезнь о грехах своих и из глубины души вздыхай о том, сколько за твои грехи пострадал Христос, твой Искупитель. Представь себе, как бьют Его, привязанного к судилищному столбу, как обессилевшего от душевных и телесных страданий влекут Его по улицам иерусалимским на Голгофу, как пригвождают Его ко кресту, какие Он терпит даже на кресте насмешки, поругания, укоризны и самую мучительную смерть. А вместе с этим пойми и уразумей и свою будущую казнь, соразмерную твоим грехам, то есть нарушениям заповедей Божиих: эта тяжкая печаль твоя о грехах, если ты только глубоко прочувствуешь её, смягчит и заглушит всякое твоё внешнее страдание. В этом смысле и Христос Спаситель сказал Своим последователям: не бойтесь убивающих тело (всех внешних телесных страданий и самой смерти, убивающих тело), души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне (Мф 10:28). Второе доказательство святитель Иоанн Златоуст заимствует из врачебной науки: он говорит, что каждый пластырь прикладывается не к здоровой части тела, не требующей врачевания, но к повреждённой части; глазная мазь или примочка полезна для исцеления глазных зрачков, но не для плеч; жидкие лекарства помогают от расстройства желудка; мазь прикладывается к ране, а не к смежной с ней части тела. Таким же образом и наши огорчения, причиняемые нам или потерей золота, или оскорблением нашей чести, или долговременной болезнью, или другим каким-либо злоключением, не могут быть удалены от нас ни убийственной для здоровья нашего скорбью, ни слезами, ни бесполезными воплями. В них не найдёшь ни малейшей себе отрады: богатства, чести, здоровья через них не возвратишь, а ещё приумножишь скорбь. Скорбь и печаль не служит для таких потерь или страданий действительным врачеванием: они действительны только для врачевания греха вообще. В наставление нам святой Златоуст приводит многие примеры, указывая: наказан ли кто конфискацией имущества? он скорбит, но скорбью его наказание не отменяется; лишился ли кто сына? болезнует о нём, но этим сына не воскресить; нанесены ли кому побои? он скорбит, но нанесённое ему бесчестье невозвратимо; постигла ли кого тяжкая болезнь? он мучится, но страдание его не возвращает ему здоровья, но ещё более расстраивает оное; заметь, что ни одному из упомянутых лиц скорбь не принесла никакой пользы, но лишь преумножила его страдания. Напротив, некто согрешил; он раскаивается, скорбит о своём нравственном падении, исповедует свой грех пред Богом – и этим истребил грех, уплатил свой долг[96]. Об этом ясно свидетельствует святой апостол Павел: вы опечалились ради Бога и таким образом нисколько не понесли вреда, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению; а печаль мирская (то есть о мирских потерях и огорчениях) производит смерть. Следовательно, печаль может быть и действительным врачеванием, и смертоносным ядом, а потому должно употреблять её благоразумно.
В заключение тысячу раз повторю: никакое злоключение не одолеет праведника.
Глава III. Сообразование человеком своей воли с Божией волей составляет благоприятную жертву Богу
Мы веруем и исповедуем, что всегдашнее бескровное жертвоприношение Агнца Божия Христа Господа, совершаемое на литургии под видом хлеба и вина, есть благоприятная жертва Богу, от нас Ему приносимая: то есть при нашем участии в этом таинственном богослужении мы как бы всецело самих себя приносим Ему, нашему Господу, в жертву, следовательно и нашу волю всецело подчиняем во всём Его Божественной воле. Блаженный Иероним в послании к Луцинию очень удачно выразил это в словах: «Жертвовать золото – дело людей начинающих, ещё несовершенных: это делали Кратет, Антисфен[97] и другие любители мудрости; но свойственное христианину дело состоит в принесении самого себя Богу и своему Искупителю Господу Христу, в посвящении всей своей жизни на беспрекословное исполнение воли Божией во всех наших делах и поступках»[98]. Тот всё отдал Богу, кто самого себя принёс Ему в жертву, отказавшись от своеволия, гордости и прочих пороков: только этого одного и требует от нас Бог, говоря: Сын Мой! отдай сердце твоё Мне, и глаза твои да наблюдают пути Мои (Притч 23:26). Тогда, будь уверен, ты всё отдашь Богу, если отдашь Ему своё сердце.
1
Приношение нашей воли в жертву Богу будет Ему приятно только при таком условии, когда приносящий эту жертву пребывает в благодати Божией, ведёт жизнь по возможности безгрешную, исправляя её всегдашним покаянием. Святитель Василий, объясняя слова псалма 28:1: Воздайте Господу, сыны Божии (то есть сыны по благодати Божией), принесите… сыны овни[99] (в жертву Богу) говорит, что прежде чем станешь совершать своё жертвоприношение пред Богом, прилежно испытай сам себя – принадлежишь ли ты к благодатным сынам Божиим? И если ты действительно сын благодати, приноси твой дар к алтарю. В таком только случае жертва твоя будет благоприятна Богу, и сердечно жалей, если совесть твоя уличает тебя в грехе, и приложи все старание и твёрдую решимость остерегаться грехопадения, которым отнимается от тебя милость Божия, и тем испросить себе прощение у Бога: сердца сокрушённого и смиренного Ты не презришь, Боже (Пс 50:19)[100].
«Ничего я не желал бы, как только иметь возможность отдать всего себя Тому, у Кого нахожусь я в неоплатном долгу, и сделаться таким образом Божиим доброхотным пленником у Господа», по выражению стихотворца. Святой Августин даёт всем это наставление: «Несомненно веруй в Бога и всего себя, насколько возможно это тебе, Ему отдай. Не желай никогда принадлежать самому себе и неограниченно пользоваться самовластием, но признавай себя рабом премилосердного и благоуветливого Господа. Этим обращением к Господу ты сделаешься приятным Ему, и Он не перестанет приближать тебя к Себе, и не попустит приключиться ничему злому или горькому для тебя, кроме того, что необходимо для твоей же пользы, хотя о полезности сей ты и не подозреваешь»[101]. Это же самое наставление Августин подтверждает в другом месте: «Ничего не можем мы принести Господу, как только сердечное повторение слов пророка Исаии: “Господствуй над нами, о Боже!”»[102]. Некоторые жертвуют в святые храмы воск для свечей или елей для возжигания лампад, но и это – денежный обет, а потому он и недостаточен и не составляет особенной добродетели. Иные обещают пред Богом воздерживаться от употребления вина, особенно от пьянства, а иные раздают щедрое подаяние убогим, неимущим: это действительно многоценное пожертвование, но не превосходящее других обетов; ибо чем тебе помогут бедные относительно спасения души твоей? Бог не поставил Своей целью твоё подаяние, но Его цель – искупить твою душу (отклонить её от злодеяний, искупить от них и обратить на путь добродетели). Итак, принеси Ему в дар то, что Он искупил, то есть душу твою принеси Ему! Если спросишь меня: как принести мне свою душу, пребывающую в Его власти? Слушай: принеси душу свою, то есть самого себя, в своём добронравии, в чистых мыслях своих, в делах доброполезных. Так были принесены Богу пророчицей Анной сын её Самуил, Пресвятой Девой – Христос Господь; Иоанн Креститель, Григорий Назианзин[103] и другие – их родителями принесены Богу: они достигли возраста славных знаменитых мужей. Если же столь полезно посвящение Богу других личностей, то во сколько раз полезнее посвящение самого себя Господу? Царь Давид в совершенстве исполнил это, предавая себя Богу на служение молитвенными словами: Я усердно принесу Тебе жертву, то есть охотно стану приносить Тебе жертвы, прославлю имя Твоё, Господи, ибо оно благо (Пс 53:8).
И нам самим весьма приятно, если кто сам добровольно готов ко всем нашим услугам. Некогда знаменитому Сократу почитатели его приносили от изобилия своих богатств много драгоценных подарков. Один из его учеников, Эсхин, весьма бедный, пришёл к нему и сказал: «Я ничего не имею, чтобы принести тебе дар, достойный тебя, и этим самым сознаю себя нищим; одно, что имею, это – я сам, самого себя посвящаю тебе на служение, каков бы ни был сей мой дар, но ты рассуди, что другие приносят тебе подарки от избытков своих, себе же оставили ещё больше, я же всё тебе отдаю, да будет же приятно моё приношение!» «Действительно, величайший и драгоценнейший подарок принёс ты мне, – отвечал ему Сократ, – разве сам себя считаешь ты малоценным; но я постараюсь употребить всё возможное, чтобы возвратить тебе тебя же самого гораздо лучшим, чем принимаю тебя»[104].
Эсхин превзошёл таким образом своим сердечным приношением Сократу самого Алкивиада, имевшего равное Эсхину сердце по таланту, и невольно посрамил все обильнейшие дары богатых юношей. Достойно обратить нам на это своё внимание: как может здравый ум в самом крайнем убожестве изобрести величайшее изобилие! Ценится предмет не по тому, какова его стоимость на рынке, но по тому, с каким усердием, с какой охотной волей приносится в дар. Тот приносит величайшую жертву Богу, правильнее, всё приносит в жертву, кто приносит Ему ежедневно всю свою волю (то есть покоряет её Божественной воле) и кто поступает так каждый день не один раз, не дважды, но многократно (сколько того потребуют обстоятельства), в особенности тогда, когда видит себя обуреваемым различными приманками, несчастьями, когда он – в величайшей беде, или же когда всё сбывается по его желанию, тогда преимущественно должно обращаться к Богу с молитвою: «О Господи, Боже мой, я приношу всего себя в жертву Тебе, да будет надо мной Твоё благоволение: да будет воля Твоя!» Эта жертва Богу устроит для нас в наших злоключениях – терпение, в нашем счастье и успехах – целомудрие и умеренность. Эта жертва при злобных нападениях на нас умеряет нашу печаль и удерживает наши уста от неприличных нареканий на Бога, удаляет от нас нетерпеливость; она же умножает воздаяние за добрые дела и более всего привлекает к нам милосердие Божие. Словом, это – непобедимый щит наш против всех бед, напастей и искушений.