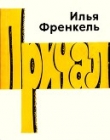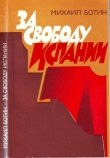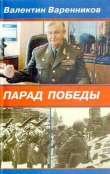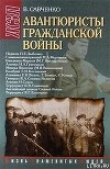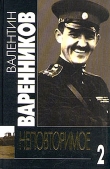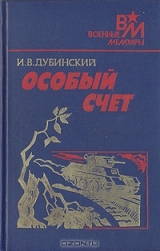
Текст книги "Особый счет"
Автор книги: Илья Дубинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Новый год отдыхающие встречали радостно и шумно. В комфортабельной гостиной, где был накрыт праздничный стол, собралось дружное общество.
Главным распорядителем, или тамадой, выбрали веселого, но, по убеждениям многих, недалекого человека, первого заместителя председателя Киевского горсовета Мануйловича, по прозвищу Абдул Гамид. Он часто, ни к селу ни к городу, вставлял бессмысленную присказку: «Абдул Гамид среди левкоев – полугибрид среди ковбоев».
Абдул Гамиду деятельно помогала миловидная статная женщина, прозванная в шутку Женбат. Марфа Гаенко была инструктором Киевского горкома по работе среди женщин. В санатории она пеклась о всеобщей нравственности. Строго следила за тем, чтобы женщины не засиживались в мужских комнатах, брала на заметку ухажеров и во всеуслышание прорабатывала их.
И все же это ее заботами получилось так, что за праздничным столом все сидели парами. Самое почетное место отвели старшим – престарелому харьковскому профессору и его миниатюрной жене. Справа от уважаемой четы уселись тамада и его помощница – тамадесса – Женбат. Как единственному в санатории военному и мне оказали почет. Рядом со мной усадили нашу иноземную гостью – молоденькую француженку Флорентину д'Аркансьель.
Необычно для француженок рослая, хорошо сложенная, с каштановыми локонами, небрежно ниспадавшими на высокий белый лоб, с зелеными игривыми глазами, она, несмотря на широкий приплюснутый нос, привлекала всеобщее внимание.
Похвальные усилия гостьи изъясняться на чужом языке делали ее очень забавной.
Получив слово, она подняла тост за всех «камрадов» и отдельно за профессорскую чету: за «ма chere старюшка!» и за «mon cher старух!». Это вызвало всеобщий хохот, и больше всех смеялся «шер старух», начавший тут же бегло и бойко изъясняться с француженкой на ее родном языке.
Мое детство прошло без бонн, но спасибо нашим академическим наставникам – мадам Нико, бывшей царской фрейлине, и месье Аниловичу – 60-летнему карлику. Месье Анилович, преподаватель Военной академии имени М. В. Фрунзе, юношей покинул родной Гомель и обосновался в Париже. После Октября вернулся на родину. На первом же уроке заявил нам, слушателям, что ни слова не знает по-русски. И это дало свой результат. С большим терпением искусного педагога и доброго друга он настойчиво «офранцуживал» нас. И не только в классе, но и в тесной, заваленной книгами келье бывшего Страстного монастыря (там сейчас кинотеатр «Россия»), куда мы часто заглядывали. Все тепло своего сердца отдавал нам этот гомельский француз. Зато и мы с радостью отдали за него свои голоса, когда он на склоне лет решил стать членом Коммунистической партии.
Не раз с благодарностью я вспоминал и мадам Нико, и особенно месье Аниловича, когда осенью 1928 года в качестве гида сопровождал Марселя Кашена в его поездках по частям Красной Армии.
Обращаясь к соседке, я назвал ее мадемуазель Флорентин. Она меня поправила:
– Мадам Флорентин. Зовите Флор, Лор – как вам нравится. Моя маман звала меня просто Жаба.
– Почему? – спросил удивленный профессор.
– Почему, почему? – от выпитого вина разгорелись глаза и раскраснелись щеки гостьи. – Видите мой нос? Ничего себе украшение молодой парижанки? Галоша, не нос! А случилось вот что. Сожгла я утюгом фестоны важной заказчицы – жены субпрефекта. Хозяйка ателье швырнула мне в лицо горячий утюг. Месяц лежала в постели. А мать меня точит и точит: «Кому ты после этого, жаба, будешь нужна? Век не сойдешь с моей шеи». Ах, Биби, Биби, – вдруг взгрустнула наша гостья, – как было бы хорошо, если бы рядом со мной сидели не вы, – указала она на меня вилкой, – а мой Биби!..
Что мы знали о нашей гостье? Привез ее в Гагры какой-то военный с ромбом. В беседах с нами она сообщала, что ее брат – коммунист, служивший на Мадагаскаре, был замешан в заговоре мальгашей. Брат скрылся. Пришлось покинуть Францию и ей. А почему – ни я, ни другие собеседники не стали ее расспрашивать. И это было естественно.
Но... чужая душа – потемки. В лекциях о разведке сколько раз подчеркивалась роль в ней женщины. Имя знаменитой Матта Хари стало нарицательным. Наполеон, выслушав доклад Фуше о том или ином происшествии, внушал ему: «Ищите женщину!» И почему, думалось мне, агентом должна быть графиня, поэтесса или оперная певица. Ею может быть и простая швея. Но это уже была перестраховка. Поневоле становишься перестраховщиком.
Во время ужина гостья непрестанно вспоминала своего Биби.
– Он не пролетарий, – откровенничала Флорентина. – Его отец крупный подрядчик-строитель. Сам Биби инженер, а любит меня ужасно. Но дурачок... Повел меня, невесту, к своей матери. Та посмотрела на меня, стала кривить носом. Смотрю, и Биби скис. Ну, думаю, вот какая твоя любовь. Попрощалась, ушла. Позвонила знакомому летчику. Думала – все кончено. Нет! Уломал-таки Биби своих стариков. Мы поженились...
В разгар откровенной исповеди Флорентины в холл вошел отдыхавший в Гаграх черный, как жук, врач-горьковчанин. С трубкой в зубах, с огромной черной шевелюрой. Абдул Гамид всегда подшучивал над ним: «Трубка у вас, как у Сталина, а патлы, как у Махно».
Заметив вошедшего, Флорентина шепнула мне:
– Мой ухажер. Но вот беда – трудно мне с ним. Он знает французский, как я русский. Да и с вами мне не легко, – с издевкой рассмеялась француженка, обнажая изумительный набор белоснежных зубов.
Да, как ни старался месье Анилович, а мой французский язык был далек от живого, обыденного.
Врача-горьковчанина посадили за стол против француженки. С ним за столом стало тридцать три человека.
Часы отбили двенадцать. Тамада поднялся и произнес речь.
Вскоре курортники покинули стол. Всех потянуло на свежий воздух.
Вышли на широкий балкон холла тамада с тамадессой, профессор с женой. За ними потянулись и мы, но уже не парой, а неразлучным трио – Флорентина, ее воздыхатель-врач, попыхивая трубкой, и я.
В Москве, Харькове, Киеве лютовала зима, а здесь, хотя к ночи свежело, нас радовало почти весеннее гагринское тепло. Освещенные луной, застыли на склонах усадьбы вечнозеленые кусты лавровишни, рододендрона, самшита. Давно уже отцвели миндаль и маслина, но тонкий аромат их листвы доносился к нам на балкон. Уходило к горизонту присмиревшее море. Слегка волнуемое легкой зыбью, оно казалось огромной кольчугой, набранной из мелких серебристых пластинок. От берега до далекого горизонта стлалась ровная серебристая дорожка. Доносился к нам лишь ласковый плеск волн и сонное скрипение ночных птиц. Умолк даже наш неуемный тамада.
Необыкновенная черноморская ночь навеяла на всех мечтательное настроение. Мечтали тогда все, мечтал и я. Не хотелось думать о прошлом, хотя и было в нем много радостного, хорошего. Все мысли были устремлены в будущее. Безусловно, каждый из нас с великой надеждой лелеял мечту, что новый, наступающий в такой красоте 1936 год принесет людям и много счастья, и много тепла, И пора!
Поездка в Сухуми
Директор санатория посоветовал съездить в Сухуми, посмотреть отель «Синоп» – чудо современного зодчества и курортного комфорта.
В директорской машине со мной отправились на экскурсию заммэра Киева Мануйлович и только что прибывший из Киева Юлиан Бржезовский. От последнего, как обычно, исходил приторный запах крепких духов. Усаживаясь в машине, он предложил:
– Прихватим с собой парижанку. Будет веселей.
– Какое там веселье? – возразил Мануйлович. – Что ты ей скажешь? Марсе-парсе, Макар телят пасе? Если уж приглашать, то лучше киевлянку, нашего Женбата.
Посло непродолжительных дебатов решили ехать в наличном составе – все же это был допотопный, невместительный газик.
Наш путь лежал через благодатные земли сказочной Колхиды. Над нами раскинулось по-летнему голубое чистое небо, а вдоль шоссе тянулись бесконечные плантации цитрусов. Ни конца ни края этим ветвистым, низкорослым деревьям, густо усыпанным золотистыми плодами. Мы ехали райской долиной Ориона, огражденной с востока высоченным хребтом. На его крутых склонах зеленели широкие шатры падуба и густые заросли куцего, с корявыми стволами, самшита.
Новая гостиница в Сухуми, построенная в гуще пальмовой рощи, поражала своей красотой и строгим великолепием. Сооруженная в первые годы нашего индустриального роста, она являлась шикарным подарком советским курортникам. Страна, заботясь о росте своей мощи и достатка людей, не переставала заботиться об их здоровье. Действительно, каждый тогда мог убедиться, что «самый ценный капитал – это человек». Эти слова сказал Сталин на выпуске слушателей военных академий.
В шикарном холле, устланном богатыми коврами, с чудесными картинами на стенах, развесистыми фикусами и олеандрами в углах, царило оживление. Обращала на себя внимание огромная доска с фамилиями гостей отеля. Среди немногих, знакомых мне, я нашел одну, которая немного взволновала меня.
С писателем Фадеевым мне приходилось встречаться не раз. Была в те времена одна организация, которая объединяла всех пишущих на военную тему, – Локаф.
Мы поднялись на этажи. Постучав, зашли в номер Фадеева. Он, заканчивая бриться, с лицом бледнее обычного, в расстегнутой нижней рубахе, лежал в постели. Поверх плюшевого одеяла высился ворох развернутых газет.
Я познакомил Александра Александровича с моими спутниками. Он, сославшись на недомогание, извинился, что не может встать. Велел взять стулья.
Завязалась содержательная беседа, обычная для людей, связанных общей идеей. Не наступили еще те времена и те обстоятельства, которые превратили ряд простых душевных ребят в недоступных вельмож. Фадеев, очевидно, был рад нашему приходу.
– Читали новогоднюю «Правду»? – спросил Фадеев, достав с тумбочки пульверизатор и обрызгивая одеколоном свежевыбритое лицо. – Передовая окрылила меня, подняла настроение. Подумать только – за одну лишь первую пятилетку нам удалось ликвидировать безработицу в городе, нищету в деревне. Уничтожить основной бич старой России. Стоимость килограмма хлеба снижена на тридцать копеек. Вот одно только огорчает нас, советских людей, – кровавый террор в Германии. Чует моя душа – рано или поздно придется нам ошибиться с фашистами.
– Да, – подтвердил Бржезовский – начальник особого отдела КВО. – Наша разведка твердо установила – Гитлер плюнул на Версальский договор. У него под ружьем не сто тысяч, а уже весь миллион.
– И мы, верно, не спим? – вопросительно глянул на меня Александр.
– Разумеется! Кое-что сделано, кое-что на мази! – ответил я, вспомнив разговор с Туровским. – Знаю, что недавно вернули с Соловков большую группу командиров, осужденных по делу Промпартии.
– Это верно, – продолжал Юлиан. – Тут малость перехлестнули. Какурина; профессора Военной академии, может, взяли за дело. А многих просто по спискам. Только потому, что они бывшие царские офицеры. Ну, их после Соловков собрали к Ворошилову. Нарком извинился перед ними за ошибку. Выдали им по три оклада, новое обмундирование и направили на прежнюю работу.
– Знаю одного из них, – подтвердил я. – Владиславского – профессора академии. Он в царской армии был полковником, и у нас недавно получил это звание.
– А о деле Штромбаха слышали? – спросил Юлиан. – Интересно! Иностранные разведки не дремлют...
Штромбаха я знал. Это был самый веселый, самый живой, самый общительный из всех слушателей Военно-академических курсов сессии 1924–1925 годов. В 1918 году он перешел в Красную Армию из чехословацкого мятежного корпуса. Храбрый, высокограмотный, дисциплинированный, чистенький, подтянутый, он, как командир дивизии, был на высоком счету. Товарищи, подтрунивая над ним, рвали с его головы фуражку и искали заколотую в ее подкладке иголку с ниткой. Иголка всегда была на месте. Всем было известно, что с этого Штромбах начинал любой смотр вверенных ему частей. Не найдя в красноармейской фуражке иголку, снижал общую оценку инспекторского смотра.
– И что же вы думаете, – оттопырил толстые губы особист. – Начальник 44-й дивизии, знаменитый своими таращанцами и богунцами, оказался искусным шпионом.
– Вот тебе на! – изумился Фадеев.
– Понимаете, – продолжал Юлиан, – как шпион он перешел к нам еще под Казанью. Снабжал генерала Гайду сведениями о Красной Армии. Белочехов выгоняли из России, а Штромбах остался. О нем там, за границей, долго не вспоминали. Как будто он и сам этому радовался – ведь как выдвинулся! Но вот в 1932 году прибыла из Чехословакии экскурсия знакомиться с колхозами. Ее руководитель настойчиво просил повезти их в Житомир. Что ж? Пришлось удовлетворить эту просьбу. А там, в Житомире, не стоило больших трудов кое-что уточнить. Штромбаха накрыли во время его нелегальной встречи с одним экскурсантом. То был его родной брат. Младший Штромбах сознался во всем. Чехословацкая разведка через него напомнила о себе Штромбаху-старшему... И Гитлер дает о себе знать. Недавно в Проскурове задержали подозрительного монаха. Оказался немецким шпионом...
– Слава чекистам! – с неподдельным восхищением выпалил Мануйлович.
– Что ж? Враг не спит! – сказал Фадеев. – Но и наш карающий меч не дремлет. Вот «Правда» нынче пишет, – он протянул нам газету и прочел: «Процесс над руководителями презренной зиновьевско-каменевской банды в начале 1935 года был последним актом в разгроме организованных покушений на диктатуру пролетариата и жизнь вождей партии. Очистив партию от врагов, от чуждых людей, проверка укрепила партийные ряды...»
Слава нашим вождям. Вот они в почетном президиуме московского актива – Сталин, Молотов, Каганович, Калинин, Орджоникидзе, Андреев, Микоян, Чубарь, Коссиор, Жданов, Постышев, Эйхе, Петровский, Рудзутак, Ежов, Хрущев. Вот они же, наши дорогие товарищи, принимают в Кремле передовиков сельского хозяйства... И во главе их наш родной, любимый Сталин. Здесь его портрет на первой странице «Правды». А вот адресованные к нему жаркие слова Джамбула: «Сталин, словно степной орел, счастье солнечное привел». Стихи Лахути: «Тому, кто Родину такую дал мне... тебе, о Сталин, мой тебе привет».
– Со Сталиным нам никто не страшен! – восхищенно произнес Мануйлович.
– Пусть бесятся фашисты, – продолжал Фадеев, откладывая газету, – а передовые умы человечества с нами. Почитайте в «Правде» новогодние пожелания Советскому Союзу Ромена Роллана, Генриха Манна, Жан-Ришар Блока, Эптона Синклера, Уолдо Франка, Луи-Гийю, Майкл Голда, Синклера Льюиса и даже американского инженера Купера – того самого, что помогал нам строить Днепрогэс...
В дверь постучали. На пороге, с микстурой в руках, показалась интересная молодая женщина. От неожиданности она с минуту оставалась прикованной к порогу. Затем замахала левой, свободной, рукой, разгоняя облако сизого табачного дыма.
– Ну и накурили. Ничего себе больной. А духи? Откуда такие запахи? – сморщилась женщина. – Больной, примите лекарство!
Наступило время прощания. Фадеев, виновато улыбаясь, словно извиняясь за так неожиданно прерванную беседу, протянул нам горячую руку. Мы, отступая перед строгой сестрой, покинули номер, в котором незаметно провели полдня.
Я вспомнил нашу беседу с Фадеевым спустя две недели, читая передовую «Правды» от 22 января 1936 года. В ней приводилось высказывание Сталина: «Сопротивление разгромленного классового врага и его агентуры становилось тем отчаяннее и ожесточеннее, чем ярче вырисовывались очертания бесклассового социалистического общества. Этот непреложный закон классовой борьбы, к сожалению, не все поняли».
Лишь много лет спустя партия и народ поняли, что это сталинское высказывание, противоречившее тому, что говорилось раньше в передовой «Правды», было зловещим провозглашением программы бесчеловечного избиения лучших кадров партии, советского аппарата, народного хозяйства, науки, культуры и Красной Армии.
И спустя много лет люди узнали, что и «глава военной хунты Промпартии» Николай Евгеньевич Какурин, и «чехословацкий шпион» Ярослав Штромбах, честные советские командиры, погибли зря.
Пришел день отъезда. На машине санатория нас доставили в Сочи. В купе мягкого вагона кроме нас, троих харьковчан, находилась и возвращавшаяся в Москву Флорентина д'Аркансьель. В интересной беседе дорога прошла незаметно.
В Харькове нам, покидавшим вагон, шел навстречу мой друг Николай Савко, замначпуокра. Мы с ним крепко подружились в Запорожской дивизии. Вместе написали книгу по истории червонного казачества. Николая прозвали «строгим холостяком». Его друзья всячески, но безуспешно старались его женить. Однажды Вера Константиновна познакомила его со своей подругой, рекомендуя узнать поближе ее приятельницу Веру. А Николай Аркадьевич ответил:
– Прошу не обижаться. Но я не верю ни одной Вере.
Вернувшись в купе, где оставалась француженка, я познакомил ее со своим другом, следовавшим за мной.
– Ca bon! – заявила Флорентина. – Не так будет скучно. До Москвы еще далеко.
Затем, бросив взгляд на петлицы Николая, с неподдельным восхищением воскликнула:
– О! Три ромба!
Пожелав им счастливой дороги, я покинул вагон. На перроне крепкий морозный воздух перехватил дыхание.
Верный друг зима
Я не узнавал нашего казарменного двора на Холодной горе. Все его площадки и закоулки были запружены боевыми машинами. А танки все шли и шли в наш адрес – из Ленинграда, Москвы, с нашего ХПЗ, освоившего к тому времени уже седьмую модель быстроходного танка.
Прибывали со всех концов Советского Союза танкисты для укомплектования новых частей. Суетились, кричали, возмущались их командиры, ежедневно штурмуя меня, и в их словах постоянно звучало одно слово «давай». Возникали обычные споры, недоразумения, конфликты. Наш 4-й танковый полк являлся базой формирования новых боевых единиц, но ведь и он имел свою программу боевой подготовки. Кроме этого, я, посоветовавшись со своими помощниками, наметил решить несколько тактических задач с выводом в зимнее поле всего состава полка и большого количества боевых машин. Наши танковые соединения не имели опыта действий в зимних условиях. Этот пробел чувствовался и в уставах, и в наставлениях того времени.
Выход намечался с длительным, трехдневным отрывом от основной базы. Это заставило всех нас – строевиков, штабников, политработников, снабженцев, техников и особенно медиков – серьезно готовиться к зимнему выходу.
В лице Хонг-Ый-Пе я имел прекрасного помощника. То ли уже полностью, до дна был исчерпан мед супружеской жизни, то ли так безраздельно отдавался работе, но Хонг засиживался в штабе до полуночи, а иногда и ночевал там. Женат он был на худенькой, невзрачной, старше его тремя годами, московской ткачихе. Двое малышей – Ревком и Марат – своими прелестными личиками пошли не в мать, а в отца. Майор Луи Легуэст, льнувший к командирским детям, особенно сдружился с малышами Хонга. А ведь душу взрослого легко узнать по его отношению к детям.
Ко всем нашим прямым заботам добавлялись и косвенные. В части все еще проходил стажировку литовец Печюра. Отличник учебы, он из кожи лез, стараясь оправдать затраты каунасского правительства. К Новому году он был даже премирован вместе с рядом отличников полка.
В середине января как снег на голову свалился на нас, приехав из Москвы, военный атташе Болгарии. Накануне о его приезде нас предупредила телеграмма из Москвы и звонок командующего Дубового. Мы имели право принимать иностранных военных представителей лишь по телеграмме Ворошилова, шедшей в два адреса – мой и Дубового.
Высокий, грузный брюнет, в форме, скопированной с царской, он и по умонастроению ничем не отличался от царских полковников. С фотоаппаратом в руках, с необычной для его комплекции подвижностью гость проявлял неуемное любопытство. Осмотрев детально все парки, каждый бокс в них, неудержимо рвался в гараж, где стояли тяжелые танки Т-28 учебного батальона Ильченко. Мы ему сказали, что там нет ничего интересного – обычные пожарные машины. Но он настаивал, Хонг махнул рукой: «Машины разобраны, на ремонте! Двинемся дальше»...
Болгарин не упустил и боевую технику, заполнившую казарменный двор. Ну что ж? Пусть знает, а если хочет, пусть напишет, куда найдет нужным, что в нашем полку колоссальный против штатов избыток машин.
Военному атташе захотелось сняться с нами на фоне боевого танка. Пожалуйста! Снимки этих машин уже сотни раз помещали во всех наших газетах.
Банкеты иностранным гостям давались двух разрядов. По первому – в гостинице «Красная», по второму – у себя в части. Болгарину по указанию Москвы был устроен банкет по высшему разряду. Птица!
После первого нашего тоста за болгарского гостя и его армию «птица» подняла тост за Советский Союз, за Красную Армию. Выпив, болгарин продолжал:
– Наши народы сроднила Шипка, но не знаю, что сроднит наши правительства. Слишком они разные, хотя... кое-какие сдвиги есть. На сессии вашего ЦИКа военный доклад делал не Ворошилов, а маршал Тухачевский. – Гость лукаво сощурил глаза. – Господин Тухачевский все же бывший царский офицер-дворянин. И даже ваша «Правда» писала: «Появление на трибуне Тухачевского было встречено бурными и продолжительными аплодисментами». Не только я, но и весь дипломатический корпус обратил на это внимание. Началось перерождение. Не Ворошилов, а Тухачевский. Это знаменательно!
Чудак человек! Чем он и иже с ними себя тешили? Напрасно наш замполит Зубенко убеждал его в том, что Тухачевский прежде всего коммунист, член партии с 1918 года. «Птица» долбила свое...
Мы же, армейская среда, расценивали выступление маршала Тухачевского на сессии ЦИКа как знак тесной деловой дружбы между Наркомом обороны и его заместителем.
На Западе раздавались первые раскаты страшной грозы. Доклад Тухачевского, изобиловавший фактами роста нашей военной мощи, говорил о том, что страна готова в любой момент дать отпор любому агрессору. Вот почему делегаты так дружно и единодушно аплодировали докладчику.
В этом аспекте было знаменательным и выступление на сессии премьера Советской Украины П. П. Любченко, который сказал: «Пусть запомнят господа капиталисты: Страну Советов, руководимую партией большевиков, руководимую великим Сталиным, никогда и никому уже не победить». Его поддержал Буденный: «Уверенность наша крепка и потому, что у нас есть замечательный полководец – пролетарий, Народный комиссар обороны, Маршал Советского Союза товарищ Ворошилов».
Но... генерал силен своими воинами. И вся Красная Армия работала в те дни не покладая рук. Страна жила напряженной жизнью. Не благодушествовали и мы.
В январе Кремль принимал передовиков предприятий золота и цветных металлов, МТС, далекого Азербайджана. 3 января родители академика Лысенко через «Правду» благодарили Сталина за награждение сына орденом Ленина. В тот же день отмечалось 60-летие Вильгельма Пика. 5 января Екатерининскую дорогу переименовали в Сталинскую. 19 января Коссиор на киевском активе доложил, что в результате проверки исключено 10 процентов из партии. И «всем мы обязаны мудрому, непоколебимому вождю и организатору наших побед товарищу Сталину». 24 января Стецкий, делая доклад о 12-й годовщине смерти Ленина, сказал: «В сознании всех членов партии Сталин и Ленин это одно». А вот слова Барбюса: «Сталин – это Ленин сегодня». 29 января отмечалось 70-летие Ромена Роллана, и в тот, же день «Правда» писала: «Лондон. Маршал Тухачевский шел в процессии вместе с представителями армий других держав. Шли также Нарком Литвинов, полпред Майский и военный атташе Путна. На похоронах короля Георга V из-за давки упало в обморок 7 тысяч человек».
Много интересного произошло и в феврале. Первого числа правительство после приема в Кремле наградило передовиков Бурят-Монголии. Москва встречала Андре Жида. «Правда» напечатала главы из 4-го тома «Тихого Дона». 5 февраля была объявлена амнистия профессору Рамзину и другим из Промпартии, осужденным 7 декабря 1930 года. Находясь в заключении, Рамзин разработал проект своего неповторимого прямоточного котла. 16 февраля Кремль принимал животноводов и выдал им более ста орденов.
А у нас, в танковом полку, жизнь шла своим чередом. Мы наметили свой зимний выход на 20 февраля. Танкисты дали обязательство в честь 18-й годовщины Красной Армии провести выход отлично, по-стахановски, без потерь в людях, без ущерба для боевой техники.
Накануне, 19 февраля, позвонил мне заместитель начальника штаба округа хромоногий Ауссем. С Владимиром Ауссемом, сыном наркома, мы уезжали из Киева на деникинский фронт летом 1919 года. Я услышал в трубке знакомый мне хрипловатый голос:
– Мы тут решили отправить тебя на Сабурову дачу. В такие морозы выводить часть, да еще на три дня. Сумасшедший! Передаю приказ командующего – выход отменяется. Проведете его, когда потеплеет.
Я ответил, что приказ не отменю, а завтра с рассветом полк выступит. В трубке снова загудело: «Сумасшедший! Осел!»
На Ауссема я не обиделся. Нередко и ему приходилось слышать от меня не менее лестные эпитеты. Все же это был друг!
На фронте, под Новым Осколом, когда его, долговязого дылду, сразила пуля станичника-гундоровца, я первый оказал ему помощь. Часто открывалась в колене Владимира рана, и я часами просиживал у его постели в госпитале. Такие же знаки внимания он оказывал и мне.
Вслед за Ауссемом позвонил сам командующий.
– Что вы там затеяли, дружище? – выговаривал мне Иван Дубовой. – Что, соскучились по ЧП?.. Чего, чего? Не хватает нам еще обмороженных. Не слышали, что произошло на прошлой неделе в Москве? Начальника академии Корка, комиссара Щаденко, начальника штаба Кит-Вийтенко отдали под суд. Они устроили лыжный пробег и обморозили слушателей. Кое-кому отрезали руки, ступни ног. Что? Захотел познакомиться с трибуналом? Округу устроить неприятность?
Я напомнил командующему французскую поговорку: «Отмена приказа – залог беспорядка». И настоял на своем, сославшись на то, что зима всегда была нашим союзником. Я сказал, что не жду за поход наград, и постараюсь избежать взысканий, что Колчак наступал летом, а разбит был зимой, что Юденич имел успех осенью, а разгромлен был в морозы, что Деникин летом 1919 года, а Врангель летом 1920 года шли вперед, а зимой их растрепали в пух и в прах. Что товарищ Зима – наш союзник, а не враг. И чтоб она нам не изменила, надо не прятаться от нее, а сдружиться с ней. Я просил Дубового не настаивать на отмене выхода.
После долгих дебатов Дубовой уступил. Под конец сказал:
– Убедили. Смотрите, не подведите себя, не подведите округ. Это очень и очень ответственный шаг. И берегите полк. Прежде всего, конечно, людей. Захватите с собой побольше спирта...
А мороз все крепчал и крепчал. И это, по правде сказать, тревожило меня, особенно после телефонных звонков. Мороз был лютый, с плотным густым туманом. На броне машин сверкал синеватый иней. Голой рукой нельзя было дотронуться до нее.
Земля звенела под траками гусениц и подошвами красноармейских сапог. Валенок в полку не было, и я, не желая ставить себя в особое положение, выехал не в фетрах, а в сапогах. Зубенко, Хонг-Ый-Пе, обутые в катанки, отлучившись домой, тоже переобулись. В валенках оставался лишь один командир роты Георгий Щапов – всегда небрежно одетый, малодисциплинированпый, вечно чем-то недовольный, расхлябанный человек.
– У меня пальцы отморожены, не могу в сапогах, – заявил он. Под стать Щапову был и помпотех Юматов. Из-за выхода, требовавшего тщательной подготовки, ему пришлось не спать несколько ночей.
Но вот яростнее загудели машины. Длинная колонна танков, выслав вперед быстроходную разведку, головное и боковое охранение, двинулась по шоссе к Новой Баварии.
Вызвав в голову врача Бакалейникова, я отдал в его распоряжение три легковые машины. В них погрузили теплые одеяла, термосы с чаем, бидоны со спиртом, несколько пар валенок. Всех обмороженных было решено немедленно снимать с танков и везти в ближайшие больницы. Дислокация последних была нанесена на докторскую карту.
...Широкий снежный простор сверкал мириадами искр. Они, как живые, горели и переливались золотым и серебряным светом. Снег летел из-под быстровращающихся гусениц легкой сверкающей дымкой. Пологие бугры на востоке казались смугло-фиолетовыми, а сосновый бор на западе, освещенный первыми робкими лучами, – золотисто-огненным. Зимний воздух был насыщен ароматом свежевскрытого арбуза.
Батальоны двигались дружно, умело, стремительно. Машина шла за машиной. Тяжелые – приятно журча широкими гусеницами, а быстроходные – грохоча моторами и крепкими траками.
На ночевку, в совхоз под знаменитыми Борками, мы прибыли в сумерки. Там нас ждал горячий обед и отдых до рассвета. После обеда в клубе совхоза был устроен разбор. Одни командиры заслужили похвалу, других пришлось взмылить. Помню, особенно крепко досталось Щапову. Таким, каким он был в повседневной жизни, таким оказался в тяжелых условиях зимнего похода. Я попросил всех командиров, не ленясь, записывать все, чего нет в наставлениях и уставах, чтобы мы могли после поделиться опытом с другими танковыми частями. Напомнил им поговорку периода гражданской войны: «Они нас на танках, мы их на санках». А теперь и мы их будем крошить танками не только летом, но и зимой.
Из клуба мы шли вместе с Зубенко. Он мягко укорял меня:
– Щапов, конечно, получил по заслугам. Но вы забыли, что с нами иностранец, этот Печюра...
– Пусть! – ответил я. – Думаю, что он скорее запомнит все хорошее, нежели плохое. А хорошего у нас, кажется мне, немало. А потом – какой он иностранец? Он уже со всеми своими потрохами наш...
Может, увлеченный субъективизмом, я переоценил иностранного стажера? Но вот выдержки из письма Витаутаса Печюры от 2.11.1962 года лучше всего свидетельствуют о том, что я тогда был недалек от истины:
«Пребывание в 1935 году в Харькове было для меня большой жизненной школой, которая повернула мне всю жизнь на правильный путь к народу. Я навсегда остался Вам искренне благодарен за создание мне всех условий лучше увидеть жизнь, познакомиться с советской печатью, литературой. Еще раньше я побывал в Швеции, Германии, Дании, и у вас понял разницу между социальным строем вашим и капиталистическим. Эти мысли мне, тогда офицеру буржуазной армии, были опасны, они тревожили меня. Я очень благодарен прикомандированному ко мне товарищу Некрасову, который много разъяснял мне. Помню комсомольскую конференцию, на которую пригласили меня. Вот там я окончательно понял разницу между нашими армиями, между вашим сознательным бойцом и нашим вымуштрованным солдатом».
Мы зашли в помещение, где отдыхали бойцы-быстроходчики. В неосвещенном клубе, на полу, как волчьи зрачки, вспыхивали огоньки папирос.
Мы вслушивались в веселый гомон бойцов. Один хвалил свою машину, другой, выставляя себя, кое-кого высмеивал, третий благодарил Толкушкина за наваристый плов.


![Книга Уфимская авантюра Колчака (Март—апрель 1919 г.) [Почему Колчаку не удалось прорваться к Волге на соединение с Деникиным] автора Генрих Эйхе](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ufimskaya-avantyura-kolchaka-martaprel-1919-g.-pochemu-kolchaku-ne-udalos-prorvatsya-k-volge-na-soedinenie-s-denikinym-274189.jpg)