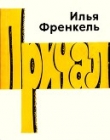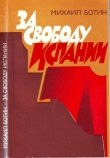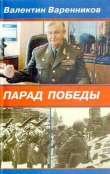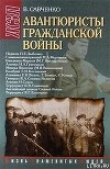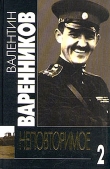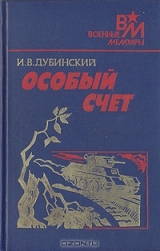
Текст книги "Особый счет"
Автор книги: Илья Дубинский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
Злодейский выстрел
В новой столице – Киеве Совнарком Украины разместился по Банковской улице, в особняке бывших царских магнатов Игнатьевых. По своему архитектурному богатству, художественному оформлению и внутренней роскоши это был скорее дворец некоронованного монарха, нежели особняк крупного землевладельца. Богатый вестибюль с вздыбившимися медведями, оленьими головами, Венерами и Аполлонами, мраморными лестницами и плюшевыми дорожками возвещал посетителю, что он пришел в изумительный храм, созданный талантом и тонким вкусом зодчего. Теперь там размещается Союз писателей Украины.
1 декабря 1934 года. Длинный зал заседаний мягко освещен люстрами. За окнами зима. Стекла высоких окон расписаны затейливой изморозью.
У длинных столов, покрытых зеленым сукном, углубились в бумаги наркомы. Кто читал, кто писал в своих блокнотах, а кто, в глубокой задумчивости, выводил замысловатые рисунки на полях деловых бумаг.
Стоял вопрос о работе легкой промышленности, и новый глава правительства Любченко то и дело перебивал докладчика «остроумными» репликами.
Нарком – старый большевик, боровшийся за революцию еще тогда, когда Любченко постигал азы медицины в военно-фельдшерской школе, – укоризненно поглядывал на председателя поверх очков.
Тяжелая дверь с массивной инкрустацией и медными ручками тихо приотворилась. К Любченко на носках приблизился его секретарь. Панас Петрович поднялся со своего места. Скрылся за тяжелой дверью. Управделами Ахматов начал рассказывать свежий анекдот. Вернувшись в зал заседаний, Любченко встревоженным голосом произнес:
– Товарищи! Случилось большое несчастье!
Приблизившись к креслу, взялся обеими руками за его спинку. Выждав секунду, продолжил:
– Убит товарищ Киров!
Все молчали.
– Объявляю заседание Совета Народных Комиссаров закрытым! Еду в ЦК!
Любченко ушел в свой кабинет. За ним последовали нарком просвещения Затонский, председатель Госплана Юрий Коцюбинский, другие.
Словно сквозь туман, я смотрел, как медленно и молча складывали свои бумаги и закрывали портфели оставшиеся в зале члены правительства и тихо, словно опасаясь потревожить чей-то покой, выходили из зала.
Весть о большой утрате тяжело ударила по сердцам всех советских людей.
Это была вторая по своему значению потеря после смерти великого Ленина. И между этими двумя утратами лежал промежуток времени в десять лет и десять месяцев.
Газеты писали, что террористический выстрел, прозвучавший над Невой 1 декабря 1934 года, показал, что о врагах забыли. Он кричал о том, что врагов надо искать не среди врагов, где они и так видны, а среди «друзей», где найти их труднее.
И дни великого народного гнева совпали с днями великого пересмотра людей. Народу сообщили, что подлый убийца, вдохновлявшийся иностранной разведкой извне и изменниками изнутри, схвачен. В одной руке его оказался револьвер, в другой – партийный билет.
Как гром среди ясного неба прозвучала весть об аресте заместителя Председателя Совнаркома и председателя Госплана Украины Юрия Коцюбинского.
* * *
Любченко, сообщая о том, что Коцюбинский являлся руководителем подпольного троцкистского центра, возмущался:
– Скажите на милость! За одним столом заседали! Какая сволочь!
Белый снег хрустел под ногами бесконечных колонн. Злой ветер срывал шапки с людей, хлестал по лицу, играл волосами, его неутихающий гнев сливался с гневом взволнованных масс.
Люди шли, шли и шли... Над ними, нахлестываемые ветром, негодовали тяжелые ткани знамен. Стонал под тысячами ног свежевыпавший снег. Рычал, как растравленный зверь, злой ветер.
Колонна шла за колонной, завод за заводом, школы, вузы, фабрики, театры, наркоматы и учреждения, и казалось, что не будет конца и края этому неиссякаемому людскому потоку.
Весь гнев, вся ненависть масс, все их негодование вылились в единый порыв. А этот порыв требовал смерти врагам. Так ответили миллионы трудящихся на тяжелую потерю.
В газетах печатались списки расстрелянных диверсантов и шпионов. Так ответило ГПУ на убийство Сергея Мироновича Кирова.
Народ сжатыми кулаками, стальным взглядом суровых глаз санкционировал решительный акт возмездия.
Среди расстрелянных были и писатели – Влызько и Крушельницкий. Среди Крушельницких были учителя, врачи, адвокаты, знаменитый актер. Но из всех Крушельницких, как сообщалось тогда, шпионом оказался этот благообразный, тихий, с апостольским голосом старик, носивший белый чесучовый пиджак.
В массе демонстрантов шагал некто Ярошенко-Братовский в хорошем драповом пальто, в шапке-финке. Пополневший и обрюзгший, он ничем не отличался от других советских служащих, искренне и неподдельно выражавших свой гнев.
Никто и ни за что не подумал бы, что этот с подходящим к данному моменту скорбным лицом гражданин гонялся с шашкой в руках за безоружными рабочими Киева, сражался против большевиков и неоднократно приходил из-за кордона с диверсионными целями, пока не был пойман червонными казаками в Литинских лесах.
Заметив меня, он низко поклонился, сняв финку. Он знал, что в такие моменты его прошлое, возникая из забытья, становится грозной тенью впереди его настоящего.
Я не мог ответить ему. Отвернулся.
Спустя неделю влетел ко мне в кабинет заведующий сектором культуры. На нем не было лица. Сообщил, что арестована его сотрудница Шульга.
– Я вас спрашиваю, кто она? Знаете, какое пятно это налагает на нас всех, на меня и прежде всего на вас? Что бы это могло значить?
– Это значит, что человек из мира благополучия перешел в мир невзгод.
– Нашли время для шуток... Но я не стал бы с ней совершать какие-нибудь преступления... Знаете, мы всем отделом ходили с ней в кино.
– Что вы передо мной оправдываетесь? – ответил я.
Я чувствовал, что вдруг, ни с того ни с сего, на меня надвинулась страшная гроза. Арестованная была принята на работу по моей рекомендации. Ее муж, крупный работник штаба округа, явившись как-то по делам мобилизационных планов, спросил, нельзя ли устроить его жену на работу ко мне в аппарат?
У нас все места были заняты. Я порекомендовал Марию Шульгу сектору культуры. Побеседовав с претенденткой, ее охотно приняли в штат. После начальство очень похвально отзывалось о ней как о работнике. И вдруг – такой конфуз!
Я ходил как в тумане. Казалось, что все смотрят на меня с подозрением. Вспомнил внимание, с которым слушал меня переполненный зал во время недавней партийной чистки, и представлял себе то собрание, перед которым я должен буду отчитываться.
Незадолго до убийства Кирова явился ко мне Ярошенко с бумажкой из УГБ, рекомендовавшей его на пост заведующего сектором обороны Наркомпищепрома. Я отказался от этой кандидатуры. Ярошенко поинтересовался причиной отказа. Я ему сказал то, что думал: «То, что вам доверяет УГБ, это хорошо. Но я вам оборонной работы не могу доверить. Надеюсь, вы помните лето 1921 года, лес под Литином, где наши казаки поймали вас – петлюровского резидента»..
– У меня семья!
– У вас семья? Но надо думать о миллионах семей.
– Жаль, жаль, – покачал головой проситель. – Я думал, что я своей работой на пользу Советской власти загладил свои преступления.
Именно – загладил. Загладить – это одно, а искупить – другое.
Ярошенко ушел. Уходя, посмотрел на меня долгим, ненавидящим взглядом. Такая свобода взора была бы опасна лишь при наличии свободы рук. И вот связанные много лет назад руки вновь получили свободу действия...
Спустя час мне уже звонили из УГБ. Начальник оперативного отдела Соколов-Шостак укорял меня: «Вы не доверяете органам!» Он заявил, что будет жаловаться в ЦК. В заключение сказал: «Смотрите, как бы вам не пришлось пожалеть». Но Ярошенко я все же к оборонной работе не допустил.
В тот день, когда стало известно об аресте Шульги, в здании оперы собрался партийный актив, где должен был выступать Постышев. Получил билет и я. У входа в театр, у полураскрытых дверей, стоял помощник Соколова. Проверив билет, он закрыл дверь перед самым моим носом. На мой недоуменный вопрос ответил: «Зал переполнен», но пришедших после меня он пропустил. Машина Соколова заработала...
Я ждал худшего. Ждал, естественно, что от меня потребуют объяснения руководители: Коссиор, Любченко, Якир. Но они меня не тревожили. Меня тревожили собственные невеселые мысли. Я позвонил начальнику Особого отдела округа Бржезовскому, бывшему особисту червонного казачества. Он сказал, что Шульга встречалась на курорте с Николаевым – убийцей Кирова. По ее делу ведется дознание. От этого сообщения стало еще тяжелей. Не выходила из головы угроза Соколова.
Это не шутка – самому болезненно переживать удар, нанесенный моей партии, и тут же в какой-то мере, хотя и косвенно, очутиться причастным к тем, кто виновен в этом злодеянии!
Прошел еще день. И... с утра, вместе со всеми сотрудниками, вышла на работу полностью обеленная Шульга. Не садясь за стол, поспешила ко мне, со слезами на глазах просила прощения за невольно доставленное мне огорчение. Вся история с письмом Николаева, с курортными встречами оказалась мифом.
Вскоре состоялся публичный процесс над Зиновьевым и Каменевым – «идейными вдохновителями убийства Кирова». Читая отчеты суда, я вспомнил своего земляка, Зиновия Воловича, комиссара полка в гражданскую войну, краснознаменца.
Низкорослый, широкоплечий, с большой кудрявой головой, Волович походил на Мопассана. В гимназии его так и звали – Мопассан.
Однажды мы встретились с ним на Сретенке. Это было в 1932 году. Он повел меня к себе. Его учреждение помещалось рядом с Лубянкой, в небольшом домике. Очевидно, желая показать, что и он не последняя спица в колеснице, Мопассан развернул передо мной помятый номер газеты «Figaro». На первой странице были помещены два крупных портрета – Воловича и его жены. В тексте под ними значилось: «Каждый честный французский гражданин, встретив этих международных авантюристов, обязан дать о них знать ближайшему ажану». Фельетон «Какого же цвета был серый автомобиль» обвинял чету Воловичей в похищения вожака белогвардейцев генерала Кутепова.
Но вот что читатель узнает из записок Александра Вертинского:
«В «Эрмитаже» на комартене пела в одно время Тамара Грузинская, приезжая из СССР, пела Плевицкая. Каждый вечер ее привозил и увозил на маленькой машине генерал Скоблин. Ничем особенным он не отличался. Довольно скромный и даже застенчивый, он скорее выглядел «забитым» мужем такой энергичной и волевой женщины, как Плевицкая. И тем более странной показалась нам его загадочная роль в таинственном исчезновении генерала Кутепова и Миллера. Это было и потому еще странно, что и с семьей Кутепова, и с семьей Миллера Плевицкая и Скоблин очень дружили еще со времен Галиполи, где Плевицкая жила со своим мужем и часто выступала».
К этому имени, к генералу Скоблину, мы еще вернемся...
Лукаво усмехаясь, Мопассан отрицал свою причастность к делу Кутепова. И тут же добавил: «Жду повышения. Кажется, пойду в заместители к знаменитому латышу Паукеру. Это начоперод – гроза контрреволюции, столп нашего ГПУ. Мне оказывают большущее доверие. Буду отвечать за охрану Сталина...»
В конце месяца зашел ко мне на работу Натан Рыбак, сотрудник комсомольской газеты, тогда только лишь начинающий литератор. Поговорив о том о сем, о предстоящей отмене с 1 января 1935 года карточной системы, предложил встретить вместе Новый год.
– Соберемся: я, Саша Корнейчук, вы, наши жены. Пригласите товарища Шмидта. Мы с Сашей хотели познакомиться и послушать этого замечательного героя.
Я позвонил командиру танковой бригады Шмидту. Он ответил:
– В компании разные меня не тащи. Знаешь, какое время! Сейчас не успеваю отчитываться на собраниях: с кем, когда, зачем встречался. А потом станут допытываться, с кем встречал Новый год? Не было ли там недобитых националистов? Ведь писатели!
Это высказывание танкового комбрига я привел не зря. Спустя полтора года его одиозная фигура была выбрана как ключевая для дьявольской операции избиения лучших кадров Красной Армии.
В прошлом землекоп, коммунист с 1915 года, за исключительную храбрость Шмидт заслужил на фронте четыре Георгия и чин прапорщика. В 1917 году, вместе с подполковником Крапивянским и нынешним профессором Ф. В. Поповым, играл видную роль в большевизации солдатских комитетов Юго-Западного фронта. В 1918 году он комендант родных Прилук. Захватив город, озверевшие самостийники расстреляли большевика-коменданта. Его подобрали подпольщики. Он оказался живым, и его выходили, Шмидт создал партизанский отряд и, согласуя свои действия с черниговскими повстанцами Крапивянского, освободил от оккупантов и гетманцев большую территорию Полтавщины, Затем во главе Суджанского полка в составе 2-й Повстанческой дивизии освобождал Украину.
За бой под Люботином Шмидт получил первый орден Красного Знамени.
Потом во главе бригады выгонял петлюровцев из Кременчуга, Винницы, Проскурова. Командовал дивизией под Царицыном. На глазах у Сталина и Ворошилова, раненный в грудь и поддерживаемый под руки двумя красноармейцами, не покидал поля боя до полного разгрома уллагаевской дивизии. Получил второй орден Красного Знамени. Генерал-лейтенант Лукин, командовавший тогда у Шмидта полком, бывший заместитель Маресьева по Комитету ветеранов войны, свидетельствовал, что ему не довелось видеть более отважного командира, чем Шмидт. В 1921 году он командир 2-й червонно-казачьей дивизии. В бою с бандой получил еще одно ранение. Из конного корпуса Примакова он попал в Елисаветград на пост начальника кавалерийской школы. Потом он начальник Владикавказской школы горских национальностей, командир кавалерийской дивизии в корпусе Тимошенко. Храбрец, балагур, остряк, любимец бойцов, добрый товарищ, Дмитрий Шмидт был одним из самых популярных командиров Красной Армии.
Его знала не только армия. В среде крупных партийцев он был свой человек, на заводах Митьку Шмидта встречали как своего брата. Любила его и артистическая среда – дружил он с Качаловым, Хмелевым, Утесовым. Имел друзей среди писателей. Приезжал к нему в гости Бабель. Поэт Багрицкий посвятил ему свою лучшую работу – «Думы про Опанаса».
И вышло так – писатели, с кем отказался встретиться под Новый год Шмидт, здравствовали и процветали, а его самого, увы, давно нет среди нас. Зато сейчас в трудах о прошлых ратных делах, о годах борьбы за молодую Республику с заслуженным уважением называется имя Дмитрия Аркадьевича Шмидта.
И вот копия письма киномеханика из Прилук Митьки Шмидта Иосифу Сталину, 1937 год.
«Многоуважаемый Иосиф Виссарионович, знаю, что Вы заняты по горло, однако решился оторвать у Вас несколько минут. Как-то взбрела в голову Ворошилову идиотская мысль, будто я собираюсь его убить. Вы были свидетелем боя за Царицын, в котором моя дивизия одолела бешеные орды деникинца Уллагая. В Вашей власти не допустить торжества черной несправедливости.
Бывший начдив стрелковой царицынской дивизии Д. Шмидт».
Спустя неделю Шмидта казнили. Ныне в Прилуках установлен монумент в память первого военного коменданта города.
* * *
В первые дни января 1935 года я встретился на широкой парадной лестнице игнатьевского особняка с Любченко. Он крепко пожал мне руку.
– Я только с заседания ЦК. Собирайтесь в Москву, в бронетанковую академию. Жаль, жаль расставаться, но ничего не поделаешь. Желаю удачи.
Попрощались мы очень тепло. Меня радовала перспектива возвращения в армию. Но одно удивляло: Якир обещал направить меня в строй, а тут – академия. Ничего не попишешь – начальству виднее.
Покидал я аппарат Совнаркома не без грусти и уезжал на учебу в столицу не без удовольствия.
Бронетанковая академия
Лефортовский дворец – монументальное наследие пышного екатерининского царствования.
По проекту Ринольди 1773 года его возводили сорок лет. Строили славные отечественные зодчие Волков, Жеребцов, Плужанов на том самом месте, где стоял когда-то старый, несколько раз горевший, Петровский палац. Гигантское сооружение кранового цвета, с коринфскими колоннами, подпиравшими белый трехугольный фронтон со следами двуглавого орла, своим фасом простиралось на несколько кварталов.
Стиль ампир из российских столиц и губернских центров проник во все крупнейшие барские усадьбы империи. Общественные здания – это материальное выражение духовной структуры народа и морального облика его вождей. Екатерина, став во главе азиатской державы, значительно европеизированной ее великим и дерзким предшественником, постаралась придать ей и европейский лоск через свою администрацию и через своих зодчих.
Обширные вестибюли, широкие мраморные марши, сверкающие люстры, двухцветные залы, высокие хоромы преследовали одну цель – подавлять умы и символизировать ничтожество бессильного человека перед всесильной системой.
В Лефортовском дворце размещались автобронетанковая академия и академические годичные курсы при ней – АКТУС. Неподалеку высилось мрачное здание лефортовского старинного училища. В нем содержался генерал Матковский, бывший начальник штаба Колчака.
Старожилы показывали нам окно домика, через которое один из слушателей, мстя за повешенного брата, застрелил преподавателя – царского генерала Слащева.
Слащев-вешатель был правой рукой Врангеля. «Обиженный» своими, он в тридцатые годы, находясь еще в Константинополе, предложил Москве умопомрачительный план разгрома чуть ли не всего капиталистического мира. Свой поход он мыслил начать через Индию. Авантюру Слащева отвергли, а ему самому разрешили вернуться в Советский Союз. Здесь он обучал своих вчерашних врагов стрелковому делу.
Пять месяцев на курсах пролетели незаметно. Состав слушателей, явившихся со всех концов страны, отличался пестротой: строевые командиры, политработники, танкисты, конники, пехотинцы, штабники, пограничники. Бронетанковая академия с утра до ночи кипела, как котел. Погоня за знаниями была бешеной. Напряженный труд этой молодежи не пропал даром. Это они создали и повели в бой против фашизма армады советских танков.
А каков был путь к тем броневым армадам? В 1918 году на полях Франции у Камбрэ пехотные клинья немцев были развеяны в прах стальными клиньями союзников. В ту пору Красная Армия о них могла лишь мечтать. Отбив несколько громоздких «Рикардо» у интервентов, мы вспоминали слова «Дубинушки»: «Англичанин-мудрец, коль работать не смог, изобрел за машиной машину...»
Но вот осталась позади наша первая пятилетка. Англичанин – мудрец Фуллер, танковый апостол, тщетно взывал к мудрости лордов, а у нас уже полной грудью дышали танковые корпуса – Калиновского в Москве, Борисенко в Киеве, Чайковского в Ленинграде. В научно-исследовательском институте академии разрабатывались проекты новых боевых машин. Вместе с советскими конструкторами работал американский инженер Кристи – творец самой быстроходной машины, не пожелавший отдать капиталистам свое изобретение.
В Лефортовском саду – детище Растрелли и Казакова – находился каток. После напряженного дня учебы многие слушатели уходили туда. На льду чудеснейшим образом восстанавливались силы, растраченные в классе и на танкодроме.
Много бегал на коньках Куркин, «бобик». Так звали танкистов, служивших еще в царских броневых отрядах.
Катался Адъютант Франца-Иосифа – галичанин Богдан Петрович Пэтрица, командир киевского танкового батальона, колосс, напоминавший тяжелый танк. Призванный в австро-венгерскую армию, по росту он попал в ординарцы императорской ставки и за это получил свое прозвище. Адъютант Франца-Иосифа то спотыкался, то падал, то ноги его расползались по льду. Но больше всего он восхищал нас своим великолепным ростом. Зато Серый Барон Розэ – однофамилец героя гражданской войны Вольдемара Розэ, сын латвийского хуторянина, был чрезвычайно грациозен на льду.
...На катке во всю мощь гудел репродуктор. Радио передавало заключительное заседание очередной сессии Верховного Совета СССР. Но то, что происходило на том заключительном заседании, шло вразрез с ленинскими принципами, с ленинской скромностью: славословили Сталина. Делегаты сессии вели себя тогда, как идолопоклонники. И это, как всегда, рано или поздно дало себя знать. Тогда, на катке, конечно, больше подсознанием, чем разумом, я почувствовал угрозу, таившуюся в нечеловеческом восторге, которым захлебывался лефортовский репродуктор...
Однажды мне довелось быть очевидцем безумного восторга людей, и этот восторг не только радовал, но и восхищал меня. В 1929 году, на годовщину корпуса червонного казачества, приехали в Проскуров его боевые ветераны.
На широком пространстве раскинулась огромная затихшая конная масса. Впереди всех на рослых жеребцах застыли командиры дивизий. Два человека с разными жизненными путями, разными характерами и разной судьбой. Ивану Никулину не пришлось вести свою дивизию в бой. А другой – Александр Горбатов – после двух лет, проведенных на Колыме, командовал в Отечественную войну армией и стал впоследствии комендантом Берлина.
Во второй линии, на крупных лошадях, ждали команды восемь командиров кавалерийских, два артиллерийских и, в своих танках, два командира танковых полков. В третьей – сорок восемь командиров эскадронов и батарей, и в четвертой – сто девяносто два взводных командира. Десятитысячная масса всадников затихла позади линии командиров взводов.
В каждой дивизии полк вороных, полк гнедых, полк рыжих и полк серых коней. И хор трубачей с серебряными трубами на правом фланге полков. И с золотой бахромой и золотой канителью увесистые бархатные знамена, покрытые боевой славой, овеянные ветрами сражений, прокопченные пороховым дымом, алые, пурпурные и красно-багровые, как и кровь героев, пролитая во имя чести этих воинских святынь.
Некоторые из них были вручены червонным казакам в огне боев Михаилом Ивановичем Калининым.
Громкое «ура!» перекатывалось по рядам от одного фланга к другому и, подхлестываемое звуками гремящей и поющей меди, замирало где-то вдали на окраине города.
Ветераны с развевающимися по ветру знаменами двинулись вдоль строя. Сначала рысью, а затем широким галопом. И громовое «ура!», в котором выражались восторг и восхищение многотысячной массы, долго не умолкало на этом праздничном поле. Воистину, это были потрясающие минуты, которых не забудешь вовек. Но этот восторг, это ликование, это неистовство были адресованы великой идее, героическому прошлому советского народа, историческим победам его неодолимой армии. Не отдельному герою, не сверхчеловеку, не божеству.
* * *
В Москве свободное время я часто проводил в доме Кругловых на Чистых прудах. Александра Круглова, смуглого, неунывающего одессита, я любил за живой характер, ум, решительность. В пятнадцать лет – он комиссар бронепоезда «Коршун», в семнадцать – комиссар полка. В 1921 году мы с ним недолго работали вместе в 7-м червонно-казачьем полку. Он завоевал казачью массу не только бойким словом, но и своим замечательным смычком. В нашей самодеятельности большую роль играла скрипка комиссара полка.
В Москву, в Главное политическое управление Красной Армии, Круглов попал из Тирасполя, где был комиссаром Тираспольского УРа. Александр Круглов умел зажечь большевистским энтузиазмом и инженеров, и рабочих, умел позаботиться и о строителях, и о стройматериалах. Не раз являлся в Совнарком Украины с жалобами на нехватку вагонов, цемента, арматуры, гранитного щебня. И кто бы, в память прошлой дружной работы, не помог своему товарищу? Помогал Круглову и я.
Гамарник взял энергичного комиссара к себе. Инспектора ПУРа все до единого были старыми большевиками. А тут инспектором назначили коммуниста с 1918 года. Но Круглов оправдал оказанное ему доверие.
С искренним восторгом Александр отзывался о своем начальнике – Гамарнике. Слепо любил Сталина. Его речи штудировал с красным карандашом в руках. За Сталина воевал в 1927 году с троцкистами. Скромный на работе и в быту, любил повторять сталинские слова: «Скромность украшает большевиков».
У Кругловых часто бывала Мария Данилевская, старая большевичка, подруга Кругловой – Эльзы Антоновны. С Данилевской летом в 1919 году мы отправились из Киева на деникинский фронт. Там ее назначили начальником политотдела 42-й дивизии. Умная, содержательная женщина, она тяжело переживала свой страшный изъян – огромный ожог на лице.
Однажды мне позвонили из дома певицы Клавдии Новиковой. Приехавший из Киева ее муж Швачко, начальник противовоздушной обороны Украины, мой приятель, звал меня к себе.
Александр Ильич Швачко обладал неимоверной силой и величественной внешностью. Если бы он жил в античном мире, где гармоничность форм ценилась наряду с бойкостью речи, он занял бы видное место в общественной жизни страны. Его голубые глаза светились добротой, а светло-золотистые волнистые волосы придавали благородное мужество его приятному лицу. Тембр его голоса был внушителен. И Швачко так мило умел говорить о пустяках, что сразу никто и не подумал бы, что человек не очень умен.
Рожденный в помещичьей семье, Швачко, не успев приобщиться к сливкам своего сословия, попал в самую гущу народных масс. В 1916 году восемнадцатилетним прапорщиком он в солдатских окопах. Это выработало в нем ту простоту, которая, не изгладив черт хорошего воспитания, делала его приятным всюду, где бы он ни появлялся.
Александр Ильич мог хлебать щи из одного котелка с первым попавшимся бойцом, завалиться спать в кучу отдыхающих солдат и, прибыв в полк, бросить на ходу дежурному свою шинель, небрежно процедив: «Почисти, милый, пока я обойду часть». Он любил говорить: «А знаете, кто возглавляет противовоздушную оборону Франции? Сам Пэтен!»
Швачко, имея какое-то поручение к москвичке Елене Константиновне Боевой, попросил меня сходить с ним на Басманную улицу.
Выросши в бедной крестьянской семье на Урале, Боева, богато одаренная от природы, недурно рисовала, пела, играла на рояле, прекрасно знала наших и иноземных мастеров кисти. Со своим мужем, в прошлом видным работником ЧК, изъездила почти всю Европу.
Боев находился в Нью-Йорке на посту советского торгпреда, Елена Константиновна, заканчивая литературную учебу, оставалась в Москве.
Швачко попросил хозяйку сыграть. Она присела к роялю, предварительно взглянув в маленькое зеркальце, стоявшее на стопке партитур. Небрежно тронула клавиши. Взяла несколько аккордов, и, хотя ее просили только сыграть, она запела под собственный аккомпанемент:
Слышен звон бубенцов издалека —
Это тройки знакомый напев.
Пела она сильно, красиво, величественно. Казалось, что звуки ее голоса плывут среди той стужи, которая сковала бесконечный искристый простор.
Пела она сильно. То ли желая похвалиться своими связями, то ли просто из добрых побуждений, Боева предложила всем съездить в гости к ее друзьям – Антиповым, Тухачевским или Коркам, по выбору. Приглашая нас, она лукаво добавила: «Вам, военным, это знакомство не помешает». В то время такое общение с высшими военачальниками страны могло польстить всякому. Но заводить с ними знакомство шло вразрез с моими принципами.
Спустя месяц после начала занятий арестовали нашего слушателя Серого Барона – Розэ. Призывая нас к бдительности, нам сообщили, что Розэ вместе с троцкистами замышлял какой-то террористический акт. Но никаких доказательств его вины нам не предъявили. Нам полагалось верить на слово. А почему бы нас не ознакомить с показаниями Розэ, с показаниями обличающих его свидетелей, с фактами? Убедившись в его вине, мы еще плотнее сомкнулись бы вокруг нашего ЦК, вокруг наших руководителей. Но это никого не беспокоило. «Мы сказали, а вы верьте. Попробуйте не поверить!»
Дело Розэ было отголоском грозных кировских дней.
* * *
В июне состоялся выпуск. Я уже знал, что назначен в Харьков командиром и комиссаром 4-го отдельного танкового полка вместо Кукрина. То, что мне, кандидату на кавалерийскую дивизию, давали полк, меня не смущало. Новичок в танковых войсках, я нуждался в стажировке. Наш выпускник Кукрин получил танковую бригаду.
Плох тот солдат, который не мечтает о жезле маршала. Но и плох тот маршал, который не таскал на себе тугую скатку солдата. Дух бронесил идентичен духу конницы: порыв, смелость, дерзость, инициатива, стремительность, массовость. Но конституция не та. И изучать ее надо с азов. А полк, к тому же отдельный, к тому же резерва Главного Командования, – это не такой уж плохой аз...
А может, судьба специально нажимала на тормозную педаль?.. Не зря говорят – все, что делается, делается к лучшему.
На прощальный, довольно скромный банкет пришли Халепский, начальник академии Германович. Его заместитель Стуцка, бывший комбриг знаменитой Латышской дивизии, зная, что я знаком с Постышевым, попросил меня поговорить с ним. Сын Постышева вел себя вызывающе, шатался по пивным, не признавал факультетских руководителей.
– Вы бы ему написали! – посоветовал я Ступке.
– Не знаю, что получится. А вдруг я же буду виноват, не сумел, мол, воспитать. Знаете, то, что другой напортит за двадцать лет, мы должны исправить за двадцать месяцев. Скажу одно – дискредитирует этот юноша своего отца.
Стуцка советовал мне перед отъездом из Москвы представиться Халепскому. Но я не внял этому голосу благоразумия. Постеснялся. Думал: чего я, какой-то там комполка, полезу к начальнику Автобронетанкового управления отнимать его время никому не нужными церемониями. Но Стуцка был дальновиднее меня...
Как-то в те дни я встретился с Еленой Константиновной Боевой. Она поздравила меня с окончанием учебы. Сказала, что в ближайшие дни едет в Нью-Йорк и что перед отъездом ей бы хотелось сделать доброе дело.
– И стоит ли вам забираться в какой-то Чугуев. Хотите – поговорю с Тухачевским, Корком. Вас оставят здесь. Потом скажете мне спасибо.
– Извините, добрый человек, но мне это претит, – ответил я. – Я же не «милый друг».


![Книга Уфимская авантюра Колчака (Март—апрель 1919 г.) [Почему Колчаку не удалось прорваться к Волге на соединение с Деникиным] автора Генрих Эйхе](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-ufimskaya-avantyura-kolchaka-martaprel-1919-g.-pochemu-kolchaku-ne-udalos-prorvatsya-k-volge-na-soedinenie-s-denikinym-274189.jpg)