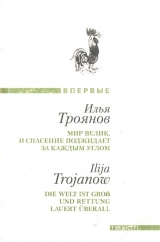
Текст книги "Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом"
Автор книги: Илья Троянов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– Алекс, иди сюда.
– Ну, мальчик, тебя мама зовет.
– А что такое злая шутка? Я хочу хоть одну услышать.
– Еще услышишь, парень, еще услышишь. Нам с тобой здесь еще сидеть и сидеть.
Через три дня после своего прибытия в Италию они, все трое, стоят на остановке как раз перед входом в лагерь, чтобы сесть в автобус на Триест. Автобус ходит с интервалом в полчаса, так им сказали, а в брючном кармане у Васко есть немного денег и еще талоны, полученные от организации под названием «Каритас», этими талонами можно расплачиваться в магазине у некоего Степановича. Степанович не итальянское имя, сразу сказал Васко. Ты, никак, покупаешь только у итальянцев? Магазин хороший, чего тебе еще. Автобус останавливается. Васко приобретает билеты. Biglietti. Все равно как у нас. Билет, biglietti, почти одно слово. Они сразу садятся на ближайшие свободные места. На остальных пассажиров не глядят. Вот так. Мы, по крайней мере, не зайцами едем, как остальные, эти ничтожества, и пусть придурок Борис философствует сколько хочет насчет того, что здесь у них много денег и что мы, бедные, беззащитные, бездомные беженцы, можем не платить за проезд. С кем только не приходится здесь иметь дело! Дома я бы с таким и словом не перемолвился. Автобус трогается. Конечно, часто ездить нам не по карману. И вообще надо экономить. Деньги нам еще ой как понадобятся. Вдоль дороги появляются самоуверенные виллы, они не прячутся за каменной оградой, сады вполне откровенно показывают, чем владеют их хозяева. К чему скрывать? Да они и не хотят. Видишь тот дом с бассейном? Нравится мне такая терраса. Они, верно, любят на ней сидеть.
– А ты обратила внимание, до чего бесшумно едет автобус, сразу видно хороший мотор, не громыхает, как у грузовика.
Чего от нас хочет эта женщина? Только бы она с нами не заговорила. И чего это она роется у себя в сумке? Билеты у нас есть. А удостоверения ты с собой взял? О, конфетка, grazie, Алекс, поблагодари тетю, gra… zi, caro mio, che carino, о, это, это очень мило… это…
Триест, вот мы и въезжаем в город. Раньше это был могучий и знаменитый город, он вел большую торговлю, очень важный город на всем Средиземноморье. Алекс, ты вообще-то меня слушаешь? Или ты хочешь знать только про автомобили?
Что мы можем своими глазами увидеть Италию, по-настоящему, с близкого расстояния, что мы оказались здесь, будто пелена с глаз упала, и мы здесь, можем войти, потрогать ее руками, эту Италию.
– По-моему, нам здесь выходить, быстрей, так оно и есть.
Они оглядываются по сторонам, бегут в направлении, которое указал им Васко, но продвигаются тем не менее очень медленно, удивление то и дело замедляет их бег, они оборачиваются, глядят на этих веселых, беззаботных людей в хорошей одежде. Люди весело разговаривают друг с другом. Яна видит женщин своего возраста, беззаботной, пружинистой походкой ходят здесь ее ровесницы, не ходят, а плывут. Стоят на ограде фонтана, откидываются назад, кокетливо хихикают, и только какая-нибудь мужская рука поддерживает их. Забот у них никаких конечно же нет, откуда здесь возьмутся заботы? И смеются больше, чем смеются у нас, их жизнь – это сплошной смех. И весь город – это золотая курица, которая несет яйца счастья. Ты только посмотри на них. У них есть деньги на всякие удовольствия, у них есть время для праздности, у них нет забот, dolce vita, мы знаем, как же им не смеяться при такой-то жизни?
Алекс! В чем дело, Алекс? Пошли, пошли! В витрине устроена автомобильная стоянка, там полно крошечных автомобильчиков, игрушечных автомобильчиков, завтра Алекс расспросит Богдана, они называются matchboxautos, здешние дети их собирают, выменивают. Тати, там, видишь, видишь, это «изо грифо». Да, ты прав, ишь, сразу углядел, он самый и есть. А можно мне такой? Хм, надо подумать. Ну пожалуйста, папо, такой маленький автомобильчик. Только если ты пообещаешь не будить меня завтра так рано, идет? Тогда нельзя исключить, что ты получишь свою машинку. А можно, мы ее прямо сразу купим? Нет, нельзя. А почему нельзя? Потому, что нам надо идти дальше. Нас мама ждет. Вот и неправда. Она тоже рассматривает витрину. Мы еще сюда придем, согласен? Так мы ведь уже здесь. У меня скоро день рожденья, вам все равно нужно купить для меня подарок. Это я и без тебя знаю. Не учи своего отца, как надо делать детей. Подарок должен быть сюрпризом. Только это, только «изо грифо», больше мне ничего не нужно. Я тебе уже сказал или нет? А теперь пошли.
Нужную площадь они нашли по описанию, Piazza della Libertà. В одной из боковых улочек должен быть магазин Степановича. Найти и в самом деле нетрудно… Мимо этой площади и захочешь, да не пройдешь, рыночная площадь, много киосков и прилавков, слегка похоже на барахолку, готовое платье, чуть смахивает на вещевой рынок или на наш базар. Клочки упаковочной бумаги, обрывки газет на земле, припечатанные следами ног, множество вещей под проржавевшими железными перекладинами, не очень-то все это выглядит по-западному, на многих перекладинах джинсы, блу-джинсы, голубое золото, как говорит Борис, но черные и зеленые тоже, штучные экземпляры и горы одинаковых, на одном столе сложены аккуратными стопками, на другом перерыты нетерпеливыми, жадными руками. Ремни для джинсов, джинсовые рубашки, джинсовые куртки, разложены, развешаны, а еще ботинки, кроссовки, пестрые, и еще складные стулья, на которых покупатель может примерить их сидя, только пусть бережет ноги в этой толчее. Ты слышишь, что они говорят? Здесь есть прекрасные вещи, замечательные вещи, но талонами можно расплачиваться только в лавке, у этого самого Степановича… мухлюют они, Стоян Великий сразу догадался, они целое состояние на нас сколотят, они ведь могли бы просто выдать деньги нам на руки, чтоб мы сами решали, как их истратить. Будь на то твоя воля, они бы договорились с каким-нибудь борделем. Импотент несчастный, скажи лучше своей мамаше… эй, перестаньте… здесь все сплошь югославы… и джинсовые юбки здесь тоже есть, как по-твоему, пойдет мне такая юбка, лепо, как лепо, широкобедрая женщина роется в куче юбок, словно ей все нужно перетрогать и пересмотреть, прежде чем купить, вот уже и продавец начинает ругаться, замечает Яну, улыбается ей и протягивает юбку через прилавок, пытаясь при этом взглядами отодвинуть руки той, другой женщины, не представляю, как я могла бы это носить, но попробовать стоит, нет, нет, не сейчас, сейчас у нас и денег-то нет, да знаю я, можешь мне не говорить, Алекс, постой здесь, нет, я считаю, хотя если хорошенько подумать, то всего бы лучше пару элегантных туфель. Итальянцы, по-моему, здесь вообще не покупают. Они могут себе позволить и подороже. А здесь, наверно, все дешево, и турок много. Тс-с-с. А чего я такого сказала? А ты заметил, они все ходят в национальной одежде, штаны с напуском и кафтаны, спрашивается, чего ради они смотрят джинсы?
Базар распадается на выгородки, ящики, усталых покупателей, перевязанные пластиковые пакеты, энергично спорящих мужчин и припаркованные автобусы. Там и сям кто-нибудь сидит на ящике, как боязливый король, который должен караулить свой трон. Кое-где дремлют мальчишки, подложив под голову пакеты. Из-под бечевки торчат покупки: кувшины, которые выставляют напоказ свои ручки, пакетики кофе, мешки с сахаром, телевизор, пластмассовые пистолеты, может, для детей. А дома они все это загонят. Вот поэтому-то югославам так хорошо живется, их автобусы имеют обжитой вид, салфеточки и сумки на сиденьях, на раме опущенного окна болтаются колготки. Прислонясь к пыльному колесу сидят парни, пьют из жестяных банок, накалывают на веточку куски мяса.
В лавке Степановича есть только один вход, узкий, уже, чем дверь в деревянной пристроечке у них в лагере, где им позавчера выдали самое необходимое из одежды. Поношенные вещи, объяснил Богдан, их собирает Красный Крест. Они получили футболку для Алекса, рубашку для Васко и платье для Яны. И немало дивились тому, как это люди отдают вещи в таком прекрасном состоянии. Очень великодушно. Лавка Степановича похожа на склад. В больших деревянных ящиках лежит одежда. Ящик для носков, ящик для головных уборов, ящик для нижнего белья и тому подобное. Если покупать что-нибудь из каждого ящика, то, пока дойдешь до конца этого длинного помещения, можно одеться с головы до ног, когда бы им дали денег или талоны выше ценились, чем одна курточка для Алекса, да брюки для Васко, да туфли для Яны плюс нижнее белье и носки для всех троих.
А потом они снова двинулись по Триесту, шли и глядели,
глядели на людей – как те одеты, глядели, как те себя ведут,
здания, как и люди, говорят о большом вкусе, до чего они красиво разукрашены, эти красивые фасады,
красивые дворцы, Palazzo del Governo, Palazzo Communale, звучные названия на мраморных досках, Palazzo Aedes, Palazzo Carciotti,
красивые кафе,
красивые, маленькие мостики, перекинутые через красивый канал,
красивые площади, Piazza, здорово звучит, Piazza, все равно как рефрен песни на фестивале в Сан-Ремо, его передавали по телевизору, Piazza della Borsa и еще Piazza Unita d'Italia, вот и повод для Васко рассказать сыну кое-что про Гарибальди и вместе с Яной угадать, какие это подразумеваются четыре континента, изо рта у которых бьет струя воды,
красивые отели.
Как, должно быть, здорово они отделаны внутри.
Вбирать в себя все. У Яны такое чувство, будто она вынырнула с глубины, поднялась над поверхностью воды, а сейчас хочет вдохнуть в себя все, что только можно,
и удивительной красоты витрины на Корсо, а Корсо – это значит аллея, и в одной из витрин красное пальто, красное пальто, мягкое, теплое и вообще чудесное, надето на манекен, а на мне бы оно куда лучше выглядело, с большими пуговицами, с золотыми пуговицами, воротник высокий, вот в нем-то у меня больше не мерзла бы шея, рано или поздно я себе такое куплю.
Случайно они опознают какую-нибудь деталь, какую-нибудь мелочь, известную по просмотрам в студенческом киноклубе. Уличное кафе, на стене рекламный щит МАРТИНИ – вот как оно выглядит в красках! – на перекрестке дорожный знак и плоские круглые часы на высоком столбике, велосипедист с плетеной корзинкой на перекладине, пышнотелая мамаша перед лавкой, клаксонный концерт на проезжей дороге.
Они разглядывают рекламы, светящиеся строчки,
столько света, столько чистоты, столько дружелюбия.
Яна не может идти дальше, она не знает, в какую сторону ей смотреть. Ей дурно, ей просто дурно от такого изобилия красоты.
– Яна, у меня есть идея. По-моему, мы должны себе хоть что-нибудь позволить. Что ты скажешь, если я предложу купить большую плитку шоколада, может, здесь есть швейцарский шоколад. А ты как думаешь, Алекс? У тебя уже желудок кувыркается, верно? Мы ведь только что проходили мимо большого продуктового магазина.
Они заходят в этот магазин,
но полку с шоколадом обнаруживают не сразу, большую полку, которая не уместилась бы в их прежней комнате, пришлось бы прихватить половину Златкиной комнаты, но Златка, доведись ей такое увидеть, не стала бы возражать. Четыре уровня сладостей, и это бы еще полбеды, ограничься все только плитками шоколада, которые рядами проникли в чрево полок, рассортированные по сорту и качеству, разные цены, разные краски, с виноградом, и с орехами, и бидонами молока на обертке, с фотографиями и рисунками или с золотыми буквами на красном фоне. Яна берет одну плитку, другую, потом третью, потом четвертую, разглядывает, пытается что-то определить по названию и картинке, пока взгляд ее не начинает скользить поверх плиток, а внимание тем пуще ослабевает, чем окончательней покидает ее решимость. А тут пошли уже не плитки, час от часу не легче, тут пошли шоколадные конфеты, карамель, ореховые шарики, прозрачные бонбоньерки, усыпанное звездами печенье, миндальные крендельки, Яна ничего больше не берет в руки, лишь взгляд ее мечется, словно она вертит головой, глазированные фрукты, орехи в сахаре, желейные зверушки, кольца с глазурью, число упаковок превышает границы ее восприятия. Она дошла до конца полки, с чувством глубокого облегчения углядела на следующей баночки с грибами, помидорами, фасолью, она не знает, что ей теперь делать, огибает полку, может, с другой стороны… и снова этому нет конца, бисквиты в форме ложки, трубочки, двойные пакеты, коврижки с жареным миндалем, безе, коржики, готовые пирожные, торты в круглых картонках, миндальное печенье, конфеты в упаковке по четыре штуки, изюм, инжир, чернослив, ей необходимо выйти, голова упала на грудь, и в голове только одна мысль: выйти отсюда, она задевает полку, звенят бутылки, она бежит бегом
и прислоняется к витрине, мысли ее бьются о шоколад и кофе, она злится на нугу и грильяж, она ведь хотела только шоколада, но этой возможности ей не дали, и она не знает, как ей снова прийти в себя. Вскоре из магазина выходят Васко и Алекс. Причем Алекс как раз надрывает черную обертку на плитке шоколада, и фольга потрескивает под его нетерпеливыми пальцами. Васко предлагает посидеть у фонтана на белых гранитных глыбах. Каждый отламывает себе кусок, первый кусок. Сует в рот, надкусывает, пробует. Но прежде чем Алекс отламывает второй кусок, Яна говорит обиженным голосом:
– Ты купил самый плохой шоколад.
Алекс причмокивает и очень удивлен, что мама недовольна.
– Откуда мне знать, какой тебе нравится, могла бы сама себе выбрать.
– И так видно, этот шоколад пьют.
Швеция, речь могла бы идти о Швеции. Васко попросил Богдана внести их в этот список. Но спустя одиннадцать дней после их прибытия – Яна ведет точный счет – у ворот лагеря появляются два хорошо одетых мужчины и громко кричат: «Эй, земляки тут есть? Алло, нас кто-нибудь понимает?» Поднимаются Васко, Стоян и Ассен. Идите сюда, мы бы хотели поговорить с вами. Все трое подходят к воротам. День добрый. Вы кто такие? Мы три года назад сами были в этом лагере. Обоих охватила ностальгия, и вот они поехали дорогой своих воспоминаний. Васко трудно поверить, что и этот лагерь может вызвать ностальгию. А сейчас вы где? В Норчёпинге. Где это такое? В Швеции. В Швеции? Ну и повезло же вам. Расскажите, как там живется. Оба переглядываются, у них нет уверенности, что на этот вопрос нужно отвечать. За спиной у них проносятся машины. Потом тот, что стоит слева, хватает обеими руками решетку и трясет ее. Решетка дрожит, и тут у него вырывается: «Там страшно, там ужасно, там просто невозможно выдержать. У помидоров не помидорный вкус, а у огурцов – не огуречный. И еду ихнюю нельзя назвать едой. Хлеб коричневого цвета, с зернами, а если ты такого не желаешь, ешь тогда сухари. А люди – с ними каши не сваришь, они держатся на расстоянии…» Это как: на расстоянии? Да так, что недружелюбие изобрели у них в стране, они прямо-таки счастливы, когда могут встречаться с другими людьми не чаще раза в месяц. Встретятся на улице, скажут друг другу «здравствуйте» за десять метров, обменяются потом десятью словами, да и говорят-то ужас как медленно, и считай, наговорились на месяц вперед. И в дом к себе они просто так не пригласят, об этом и речи быть не может, два раза в году они встречаются с коллегами и напиваются до потери сознания. И нас они не любят. Да они, пожалуй, и самих себя не любят. Холодные они люди, неприветливые и холодные… из-за своего климата стали такие, а климат у них и того хуже. Там восемь месяцев в году зима, да еще какая зима, все время ниже нуля, все время темно… А вы, вы-то куда хотите? Здесь что-нибудь переменилось? Вы давно здесь?
Потом они сидят на газоне, и Ассен закуривает сигарету.
– Удивительно, – говорит Васко, – несколько недель назад мы бы прыгали от радости, если бы нас пустили в Швецию, а сегодня, сегодня мы стоим у ворот и слушаем, как там плохо, и я начинаю задавать себе вопрос, а нужно ли нам туда, где все так ужасно?
– Могу дать тебе хороший совет, – говорит всезнающий Борис. – Если вы непременно хотите остаться в Европе, тогда мотайте отсюда, хоть во Францию, хоть в Германию. А там вы можете снова попросить убежища. Только упаси вас Бог проговориться, что вы прибыли из Пельферино. Вы должны делать вид, будто только-только пересекли границу, ну, словом, придумайте что-нибудь. Тогда вам предоставят убежище, и вы сможете там остаться.
– Сашко, ты ведь знаешь историю про Винни-Пуха, про веселого медведя и грустного ослика? Помнишь, как Винни-Пуха пригласили в гости и как он много там ел, а потом не мог вылезти из норы, и пришлось ему голодать, чтоб его смогли вытащить на волю. Вот и со мной так же вышло, Сашко, я сразу до того нажрался, что не могу больше двигаться и застрял здесь. Но в отличие от Винни я становлюсь с каждым днем все толще и толще и не могу теперь вылезти и двинуться дальше. Сдается мне, я уже никогда отсюда не выберусь. Но между прочим, Богдан вполне этим доволен.
А верно ли это, Богдан? Не сбиваешь ли ты мальчика с толку? Где твои вопросы, которых ты больше не задаешь? И разве тебя больше не интересует, куда ты хотел бы поехать, о чем ты раньше мечтал, что собирался делать? Вопросы эти, Богдан, они ведь никуда не делись. Но они рассыпаются у тебя во рту и оставляют неприятный привкус, который надо смыть, всего лучше – вином. Каждое утро ты просыпаешься с пересохшим и запыленным ртом, изо дня в день, изо дня в день ты принимаешь эти беглые создания и вручаешь им букет для бодрости, тут ты проявляешь полное великодушие, может, они даже испытывают к тебе благодарность, но потом все они уезжают дальше. Одним из них удастся обзавестись домом и лимузином, другие увязнут в ностальгии и раскаянии. Они не оставляют во мне следов. А вот ты не рискнул. Ты не предпринял попытку, а сегодня ты даже не знаешь, что мог бы сделать. Ты познакомился с женщиной, про которую знал, что с этой женщиной можно ладить. И одновременно увяз в этой работе. То-то и оно. Вот так и я застрял. Во рту пыль, и коли уж откровенничать, то лучше за рюмкой вина или этой отменной инжирной водки, которую подают у словенца Мирко. Мирко – единственный друг Богдана, он держит небольшую таверну в старом городе. Это у них семейное заведение. Преданные триестцы и случайные посетители из туристов – этого вполне хватает, чтобы занять восемь деревянных столов, которые летом расставляют друг подле друга на узкой полосе улицы, под зеленым навесом, где на столбах висят плетеные бутылки. Мирко здоровается, внимательно слушает, соглашается, советует, оказавшись между двумя столиками, проводит рукавом по переносице, кивает и пишет, спрашивает и подсчитывает, подает счет, высказывается по поводу местной политики, поездок, цен и концертов. А когда отодвинут стул последнего гостя, в последний раз прозвучит пожелание доброго вечера и надежда, что гость еще раз окажет им честь, Мирко относит выручку в кассу, берет две бутылки и две рюмки, опять выходит на улицу, к тому столу, где поджидает его друг, и, снова проведя рукавом по переносице, подсаживается к Богдану.
– Я очень люблю эту водку, потому что, сдается мне, она похожа на меня, не скалься, ну чего ты скалишься, почему это водка не может быть похожа на человека? Сейчас я вернусь, только погашу остальные лампы.
– Я как раз обратил внимание, как здорово обросла твоя пергола. Когда мы с тобой только познакомились, сквозь листву можно было увидеть звезды.
– Еще немного, и под ней можно будет сидеть даже в дождь. А за последним столиком они шумели так, словно рыбу потрошили.
– Надеюсь, им-то ты не предлагал инжировки?
– Ясное дело, нет. Ты знаешь мой принцип. Люди несимпатичные получают просто шнапс. По-моему, это правильно. Ты свидетель моих грехов, Богдан, но инжировая очень хороша, у нее нет никаких проблем, и она не создает никаких проблем. Думается, я тебе ни разу еще не рассказывал, что фиговые деревья растут на невысоком холме, им хорошо на холме, солнца предостаточно, а почва – как постели в «Эксцельсиоре». Почва добра там к нашим смоковницам, любовная связь пред лицом Господа. Еще рюмочку хочешь? Мы собираем их все вместе, когда настанет время, собираем всей семьей, братья и я сам, двоюродные братья, дети, и моя мать тоже до сих пор участвует в сборе, ты уж извини, но я не могу удержаться, я всякий раз смеюсь, когда вспоминаю, на ней всегда два разных носка, не знаю, как это у нее получается, но представь себе: вот уже тридцать лет мы собираем урожай смоквы, и каждый год моя мать приходит в разных носках.
– Buona notte, Мирко, завтра я малость припозднюсь, мне надо к врачу.
– Все ясно, buona notte. Причем всякий раз она желает непременно залезть на лестницу. Каждый год мы пытаемся ей втолковать, что для нее это опасно, что она вполне могла бы доверить это дело кому-нибудь из сыновей либо внуков, мы уговариваем ее, уговариваем, на кой тебе тогда такая орава, это ж надо как-то использовать, незачем все делать самой, но она нас не слушает, представляешь, ну вот когда ты еще был ребенком, а на горизонте проплывал корабль, большой такой, и ты просил его остановиться и взять тебя на борт, но он не слушал, он спокойно плыл себе дальше, вот так же и моя мать. Она карабкается на лестницу, а мы волнуемся, не поскользнется ли она, не упадет ли, и один из нас всегда стоит рядом, чтобы в крайнем случае подхватить ее, не думаю, что она это замечает, мы смотрим ей на ноги, нельзя ведь постоянно задирать голову и глядеть на ветки, мы смотрим на ее носки, и переглядываемся, и пытаемся удержаться от смеха. Я даже прикусываю нижнюю губу, это помогает, но иногда мы все же прыскаем, мать оборачивается, сестра вскрикивает, она уверена, что теперь-то уж мать наверняка упадет, но мать держится крепко, и кричит на нас, и начинает швырять в нас смоквы, достает из корзинки те, которые только что сорвала, и ругается, и ругается, так умеет только она да еще наш повар Лучано, когда у него что-нибудь не выходит. Богдано, ангел ты мой…
– Не буди лихо, пока спит тихо.
– Да, а как твоя психушка? Я и сам бы к вам сел, но этот рабовладелец меня просто достал. Ты представить себе не можешь, что он нынче выкинул. Он уговорил всех гостей заказывать рыбу, вот мне и пришлось несколько раз выходить с удочкой, ловить камсу, а потом жарить ее во фритюре, все жарить да жарить. Хотел приберечь для тебя, Богдано, немножко карамели, но тут приперлась группа немцев.
– Значит, в другой раз. Я еще приду к тебе, Лучано.
– Привет Ливии, эй-я – попей-я, ночь принадлежит мне. Да, день и впрямь выдался шебутной, но такие дни нам нужны, ты ведь знаешь, как пусто здесь будет зимой.
– Ты начал рассказывать, как твоя мать бранилась.
– Так вот, она бранится, а лестница качается, а мать это вроде бы ничуть не волнует, она изливает на нас поток брани и снова начинает нас учить, кому и что надо делать и как нам следует обрывать смоквы, хоть мы уже много лет этим занимаемся. Мне нравится ее голос, он очень к ней подходит, хриплый такой, ну как тебе это объяснить… похоже, будто таким голосом говорят ее мозолистые руки, пойми меня правильно, это может звучать нежно, когда она гладит кого-нибудь по лицу, как не сумеет никто другой, когда после сбора плодов мы, совсем замученные, лежим в своих постелях. Сбор смоквы наполняет ее гордостью.
После рюмочки приветственной инжировки Мирко откупоривает бутылку белого вина, из семейного урожая. Это шардоне. Богдан, научившийся за эти долгие годы разбираться в винах, выясняет сорт винограда и год разлива и пытается запомнить вкус.
– А знаешь, как получилось, что в Италии самое хорошее вино? А во Фриуле всех лучше белое? Традиция, Богдан, традиция, вот в чем суть. Вино лишь тогда может быть хорошим, когда оно связано с историей самого человека, понимаешь? Если твой дед чокался им на крестинах твоего отца, если оно вдохновило Джотто на роспись капеллы Скровеньи, если три тысячи лет назад его принесла какая-нибудь девушка на жертвенный алтарь. Три тысячи лет – это долгий срок. Пойми меня правильно, я вовсе не хочу сказать, что сорта винограда должны быть древними, нет, я имею в виду не лозу, а само вино, его личность, которая укоренилась в нас самих. В наших краях у людей и у вина было время, чтобы познакомиться поближе, чтобы попривыкнуть друг к другу. Это старая дружба, которая передается по наследству и человеком, и вином, и виноделом, и пьющим. Древняя дружба царит в этом краю. Тебе, может, и невдомек, но вино уже оказывало большие услуги нашему городу. Когда он был захвачен Венецией, а первый раз это случилось в тысяча двести втором году, кстати, одна из немногих дат, которую я сумел запомнить. В те времена Венеция была всему голова, и в тысяча двести втором году венецианский дож с весьма внушительной армией высадился в Триесте, с ним шло множество до зубов вооруженных крестоносцев. Не уверен, что все триестцы от души радовались приходу гостей, может, просто они уже тогда были наделены практической сметкой, которая и поныне их отличает, во всяком случае, по этому поводу они ударили в церковные колокола, делегация священнослужителей зажгла свечи, надела самое дорогое облачение и торжественно приветствовала дожа от лица жителей города. А дожа того звали Данольдо, изысканное имя, скажу я тебе, верно? Я еще в детстве мечтал заиметь гончую по кличке Данольдо. Если верить преданиям, дож выглядел весьма внушительно – высокого роста, с густыми седыми волосами. Держался он очень прямо, но не мог сделать ни шагу без поводыря, потому что был слепой как крот. И вот он стоял перед вооруженными до зубов рыцарями, венецианскими патрициями и знатью, облаченный в дорогие ткани. И требовал от Триеста безоговорочной капитуляции. Ситуация была очень сложная. Триестский епископ возгласил, что граждане Триеста сдаются. Дож на это никак не реагировал. Епископ поклялся в верности на века. Дож оставался холоден. Триест обязывался – так продолжал свою речь епископ – верно служить венецианцам, как уже служат другие города Истрии, и пообещал разделаться с пиратами из Ровиго. В ту пору они были просто бедствием для торговых дел Венеции. Дож Данольдо оставался молчалив и неподвижен. Ну что еще могли ему предложить триестцы? И снова епископ возвысил голос и торжественно, словно совершая обряд бракосочетания, поклялся: каждый год поставлять пятьдесят бочек наилучшего вина для Дворца дожей. Все глаза устремились на дожа, и в это мгновение – я часто представляю себе эту картину – по строгому лицу дожа скользнула улыбка, и он повелел подписать договор. Ты понимаешь? Наше вино сумело вызвать улыбку на устах величайшего из дожей.
Триест – портовый город, а те три дамы – портовые шлюхи, родившиеся и выросшие в городе на берегу Черного моря. Они рано научились различать, какой именно корабль вошел в гавань, знали, как надлежит себя вести долгими вечерами, по каким улицам следует расхаживать взад и вперед в юбках выше колен, чтобы привлечь к себе внимание, шуточки, свист и торопливые вопросы, хотя от их физиономий так и шибало подворотней. Две сестры, а третья – их подружка быстро усвоили истину: ничья похоть не бывает более щедрой, нежели похоть матроса или туриста. Втроем они образовали своего рода рабочую бригаду, где одна поддерживала другую, где обменивались сведениями обо всем, что услышали и узнали, где поровну делили покровительство полиции, то есть если одна из них оказывала благосклонность какому-нибудь официальному лицу, то заработанные таким образом поблажки распространялись на всех трех.
В один прекрасный день старшая из сестер сбежала на Запад. Почему – никто не знал. Она попала в Штаты, но прежнюю профессию менять не стала. Она нахваталась американских фраз и в один прекрасный день оказалась в положении. Организовать аборт ей не удалось. Дитя явилось на свет в американском госпитале. После чего земля обетованная стала далеко не столь гостеприимной. Работать с ребенком на руках было трудновато, великодушные земляки вдруг смогли обходиться без ее общества. Не получилось у тебя, и все тут! Она ела черствый хлеб, ребенок вопил, а кормить его грудью она больше не могла. Она распродала все, что у нее было. Вырученных денег, всех, до последнего цента, хватило как раз на билет домой. Родной дом – это красиво звучало. Она даже на радостях обняла младенца. На автобусе доехала до аэропорта. Самые счастливые минуты были для нее, когда после регистрации она ждала у стойки. И чувствовала себя вполне свободной. Родная авиакомпания, знакомая – национальных цветов – форма на стюардессах, а одна оказалась до того заботливой, что даже занялась ее ребенком. Исполненная радости, она ела маринованный перец, овечий сыр и колбасу. И все болтала без умолку. Жаль только, что рядом с ней сидел американец. Она бросалась в глаза, эта пассажирка, она не соблюдала правил безопасности. Заход на посадку начался внезапно, самолет резко пошел на снижение, и радости ее поубавилось. Что ее ждет дома? Как ни крути, а она ведь бежала, бегство из страны, измена родине. Страх начал сотрясать ее. Хотя, может, матери с ребенком они не сделают ничего плохого.
Впрочем, власти знали, как с ней обойтись. Владеющий литературным языком сотрудник госбезопасности накропал текст, который ей предстояло зачитать по радио. Не будь она такая страхолюдина, ее бы выпустили на телевидение, а согласия у нее никто и не спрашивал.
В самый что ни на есть прайм-тайм она хриплым голосом поведала о своих американских мытарствах, об этой ужасной стране, где к беременной женщине относятся как к собаке, хуже, чем к собаке, где ей не предоставляют отпуск и сразу после родов заставляют снова вкалывать, а пребывание в больнице стоит дорого, а помощи никто не оказывает, и заботы тоже никакой. Если кто много хворает, тому один путь – на улицу, как было и с ней, с ней и с ее новорожденным младенцем. Ей пришлось выбиваться из уличной грязи, из сточной канавы, а миллионы людей живут и умирают в этих канавах, под мостами (вполне возможно, говорит при этом Иво Шикагото, но вы поглядели бы сперва на эти мосты). Она совершила величайшую глупость в своей жизни, поверив в небылицы о Золотом Западе. Она глубоко в этом раскаивается и признательна до глубины души своей любимой родине, которая проявила к ней милосердие и понимание. Она и ее дитя вечно будут благодарны своей родине.
Спустя несколько месяцев после своего первого – оно же и последнее – выступления по радио она бежала снова. Водителю-дальнобойщику, случайному клиенту своей доброй, старой подружки, она предложила рейс, полный страсти, – она-де сможет ублажать его даже при скорости в девяносто. Рожей она, конечно, не вышла, подумал про себя шофер, но если она умеет профессионально работать ртом и жопой, да и путь на сей раз неблизкий, почти через всю Европу. Такое дорожное развлечение придется очень даже кстати. В тысячу раз лучше, чем в полном одиночестве катить со своим перцем. Но когда ее сестра проведала об этом плане, то решила увязаться за ними. Знаешь, как будет здорово! Мы могли бы помогать друг дружке на чужбине, друг дружку поддерживать… Теперь предстояло уговорить шофера взять их обеих. У нее было достаточно опыта, чтобы не переоценивать его аппетиты. Накануне отъезда, когда на грубошерстных одеялах шофер уже получил от нее небольшой задаток и порадовался предстоящему путешествию, она оглушила его ужасным известием. У нее-де вдруг пришли месячные, и она в это время так ужасно себя чувствует, что бывает совсем ни на что не годна. Шофер почувствовал себя так, словно у него из рук вырвали только что врученный подарок. Но она, оказывается, хорошенько пораскинула мозгами, и ее осенила прекрасная идея, потому что, коли слово дано, его надо держать. С ними может поехать младшая сестренка, она вполне на все готова, и недостатка он ни в чем испытывать не будет. Лицо шофера снова просветлело, может, и у нее эти дела скоро кончатся, тогда можно будет забавляться сразу с обеими бабами. Еще он поставил условие, чтобы они покинули его лишь на обратном пути, перед самой югославской границей. А зачатое в Америке дитя осталось на руках у дедушки с бабушкой.







