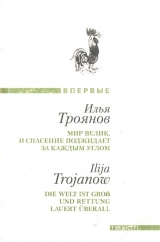
Текст книги "Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом"
Автор книги: Илья Троянов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Илья Троянов
Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом
Для истолкования мира средствами искусства обычно прибегают к форме путешествия.
Гюстав Флобер
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Еврейская поговорка
НАЧАЛО ИГРЫ
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОВЕРШИТЬСЯ ВЕЛИКОМУ-ПРЕВЕЛИКОМУ МНОЖЕСТВУ БРОСКОВ, в тайной столице игроков, в городе, который до того надежно укрылся в горах, что о его существовании не подозревал ни один сборщик налогов, и даже географы царей, султанов и генеральных секретарей не означили его на своих алчных картах, в горах под названием Балканы изо дня в день совершалось одно и то же действо. Действо это, внушающее не меньшее доверие, чем церковный благовест, имело своим исходным пунктом банк. Во всяком случае, там на фронтоне, поверх портала, красовалась надпись «БАНКА», и широкая лестница вела под его сень, но с тех самых пор, как была изобретена игра в кости, еще ни один человек не заходил в эту «БАНКУ». Ни разу эта лестница по будням не доставляла к входу клиентов, дабы затем свести их вниз, ни разу не стенала в часы пик под бременем своих обязанностей и, расправляя перышки в обеденный перерыв, не стряхивала пыль, желая уничтожить даже мельчайшие следы своего родства с дорогой. Не было ни клиентов, которые бодро или боязливо переступают порог, ни мыслей, которые сосредоточены вокруг стопки пестрых бумажек, ни профессионально-привычных взглядов со стороны банковских служащих, ни тех порций иллюзий, которые, будучи извлечены из толстокожих вместилищ, молниеносно пересчитываются и равнодушно подаются в окошечко.
О том, что же там все-таки есть, не знали и мужчины, которые изо дня в день чего-то дожидались перед этим зданием, и что бы там ни было, им оно не требовалось. Зато все знали человека, который выходил оттуда: Бай Дан. Он выходил из тени портала, он поправлял свой галстук – протокольное действо, означающее, что Старые горы и на сей раз остались верны себе. Это и было отмеченное барабанной дробью начало всех начал. Кто ранее стоял, прислонясь к колонне, выпрямлялся, кто сидел на корточках, вставал. И вниз по лестнице шествовал квазидиректор банка, бывший на самом деле Великим Магистром игры в тайной столице игроков.
– День добрый, Бай Дан. – Мешанина голосов, мешанина из самоуверенности и сковывающей язык нервозности.
Молодежь еще не обучена, вопросы задает осторожно, но она гордится хотя бы тем, что ей дозволено присутствовать. Она приплясывает вокруг тех, кто уже состоялся, боясь привлечь к себе внимание, стараясь дышать как можно тише, полная надежд… Бай Дан улыбается, слышит голоса, слышит Пенчо, и Димчо, и Элина, и Умеева, устами которого обычно вещает его жена… тебе что, опять туда приспичило, никому не нужная затея, пустая трата времени, дьявольские забавы, и пожалуйста, пожалуйста, вернись сегодня пораньше.
Мужчины движутся вниз по улице, клубок голосов скатывает день, наматывает на себя как значительное, так и банальное, все, что произошло в городе с прошлого вечера. В конце главной улицы процессия сворачивает налево, под арку, к центру города, к южному центру, к кафе игроков. К каменным, высотой в человеческий рост стенам лепятся деревянные дома, с бесстыдством тучности выставив напоказ набитые животы. Это они превратили улицу в хоть и милый, но совершенно никчемный переулочек. А когда они предаются разгулу и затем устают, устают донельзя, то сонливо, нахлобучив крышу на лоб, наваливаются в защитной дремоте на переулочек и делают его настолько узким, что соседи из противоположных домов могут по настроению либо пожать друг другу руки, либо оттаскать друг друга за усы.
Средоточием жизни этого города правит лысый, коренастый и грузный тип. Широко расставив ноги, он бдит перед дверью своего кафе – и ждет, и знает: они придут, прямо сейчас, как приходят каждый день, – придут на маленькую площадь, где каштаны и колодец, и попасть на нее можно лишь через тот самый переулочек, по которому и шагают игроки. Процессия вливается в маленькую площадь и наводняет ее.
– Бай Дан! Наконец-то! Приветствую тебя!
– А я тебя, Пейо!
– Как прошел день, Бай Дан?
– Спасибо, а твой?
– Мой только начинается… а как здоровье?
– Не жалуюсь! А твое?
– Как всегда, не о чем и говорить.
– Что слышно нового, Пейо?
– А что может быть слышно, Бай Дан? Они ждут тебя.
– А как семья?
– Все путем, Бай Дан, все путем. Но скажи на милость, где ты пропадал?.. Почему нам так долго пришлось тебя дожидаться? Чем мы тебе не угодили? Или в другом месте тебя лучше обслуживают, или тебе не по вкусу мое гостеприимство? Кто захочет ходить ко мне, если ты меня не почтишь?
– Ну что ты, Пейо, Пейо! Какой же петух не нарушит тишины при восходе солнца? У тебя мы всегда как дома, куда ж нам еще идти?
– Рад это слышать, Бай Дан, такие слова мне по душе. Но чего ради мы разболтались перед дверью, когда за дверью нас ждет столько дел?
И, как обычно, хозяин заходит первым, через плечо переброшено белое полотенце, которое на исходе вечера пятнами и другими следами поведает историю долгого дня. Когда наводишь глянец на игральные кости, они оставляют отпечаток своей непредсказуемости, полотенце стирает деяния неверных, пьяных рук, беззаботная муха чистит крылышки, прежде чем ее грубо шуганут прочь. Хозяин теребит свои губы, изображает глубокое раздумье, расхаживает по залу и указывает на самый большой стол, окруженный широкими скамьями. Вот за этим столом Бай Дан каждый вечер бросает игральные кости, являя игрокам свое мастерство. А хозяин кричит своей матроне: «Вейка, у нас гости, поставь-ка еще кофе на огонь!..» – «А какие у нас гости?» – доносится ответ сквозь занавеску, которая защищает кухню от посторонних взглядов. Игроки, усевшиеся тем временем вокруг стола, отвечают на ее вопрос с плутовской усмешкой: «Это сборщик налогов, Вейка». – «Эй, почтеннейшая, с вами говорит бургомистр, доктор, инспектор, директор»… Голова с огромным носом появляется из-за занавеса… а ну, дайте мне хоть одним глазком взглянуть, как они выглядят, эти господа. Ах вы, неверные ятаганы, вы, видно, не желаете нынче отведать моих цукатов?.. И тут гости с виноватым видом заказывают какую-нибудь ерунду к своему кофе.
Кофе подан и с удовольствием выпит, хозяин занимает место перед занавеской, руки у него скрещены за спиной. Наступила тишина, шапки горой навалены в углу, звяканье и шипенье позади занавески сулят ужин. Допитые чашки перевернуты вверх дном. Через некоторое время мужчины заглядывают в свои чашки, предаваясь бесплодным размышлениям. Одна лишь Вейка может истолковать осевшую на дне кофейную гущу, одна лишь Вейка способна заглянуть в исход тишины…
Поначалу – полное равновесие на игральной доске. Кости – кучками по две, три и по пять, застывшие формации, до того как их перемешает первый игрок. Первая рука. Первый бросок. Элегантные пальцы мастера и мозолистая кисть партнера захватывают по два орудия времени. Времени для игры в кости. Короткая проброска. Победитель четырьмя пальцами – мизинец остается в резерве – берет обе кости, отводит запястье назад и затем плавным движением выбрасывает вперед. Мгновения катятся по игральной доске, замирают, первые выводы, идеи, разрушения. Позиции заняты, позиции оставлены, стены воздвигнуты, стены разрушены.
И неизменно – барабанная дробь и шлепанье, триканье и траканье, дробь, шлепанье, триканье, шлепанье, внезапно пронзительный, обостренный корой мозга звук, дитя с криком извещает о своем рождении, очень отчетливо извещаетв некоем городе в тишине после шума и гама светлых часов дня, присоединяя свой голос к хоровому воплю рожениц, в мрачном зале с зарешеченными окнами лежит новорожденный, еще липкий, еще мокрый, вонзает пальцы в воздух, и кричит, и протестует против материнских страданий.
ИЗ ТАЙНОЙ СТОЛИЦЫ ИГРОКОВ
ТАК ЯВИЛСЯ НА СВЕТ АЛЕКСАНДАР ЛУКСОВ, сдается мне, что и вы явились точно таким же манером. Из одного броска – в другой. После чего вам пришлось приложить усилия, чтобы, подобно ему, обыграть этот факт наилучшим образом. В его случае бросок оказался удачным, вроде открытия солидного заведения: активные клетки мозга, медленные ноги, белая кожа, черные волосы и жилище на краю Европы, там, где она кончается, так еще и не начавшись. Его мать провидела свое счастье и хотела быть настолько в нем уверенной, насколько это допускает полет фантазии. Еще до родов она так углубилась в мысли о том, какая роскошная жизнь должна выпасть на долю ее дитяти (по-моему, это даже и объяснять не нужно: бочка здоровья и денег, профессия под названием адвокат или врач, и никаких неожиданностей), – а ее соседки тем временем вопили и стонали, – что она совершенно позабыла свою непосредственную обязанность: для начала произвести Александара на свет. Она не замечала его нетерпения, не заметила даже, как он высунул голову, чтобы без посторонней помощи выбраться в зал, выложенный темными изразцами. Пробегавшая мимо медсестра увидела его пушистый затылок, во весь голос окликнула врача и, вынимая ребенка, бормотала себе под нос … в жизни такого не видела, почему вы молчите, я здесь двадцать лет работаю, но чтобы такое, такое, такого и в самом деле не… тем самым она допустила перерасход слов, и потом ей их не хватило, когда она взяла новорожденного на руки, по всем правилам осмотрела, и у нее дух занялся, и, не веря собственным глазам, она спросила у врача – что это такое – как это прикажете понимать – вы не могли бы сказать?.. Врач сказать не мог, от растерянности он вообще не мог двинуться с места в отличие от пальцев явившегося в сей мир Алекса, а уж эти пальцы захватывали и рвали на части, впору подумать… нет, нет, всего лишь безобидные прорехи в стерильном воздухе родильного зала… впрочем, так внимательно, как сестра, никто на него и не глядел, та же устремила взгляд на животик младенца, мягкий и свежий, словно только что вызревший йогурт, вполне обычный вид для младенческого живота, если бы не отсутствие чего-то основного, того, что, подобно лонже, привязывает младенцев к месту их происхождения, – отсутствие пуповины. Не иначе Алекс сам ее оборвал своими беспокойными пальцами. Но сработал он при этом халтурно, до того халтурно, что и по сей день место, которое принято называть пупком, смахивает у него на третье ухо. С тех пор как мне стало об этом известно, я только и жду, что сыщется какая-нибудь наделенная богатой фантазией женщина, которая прошепчет в этот пупок слова любви.
Очередная накладка: нас до сих пор не представили друг другу. Итак, с вашего разрешения: меня называют Бай Дан, так давно называют, что я уже почти успел позабыть имя, перешедшее ко мне по наследству и данное мне при крещении. Бай Дан. Дан – это от Йор-дан, а словом Бай обозначают человека, которого подозревают в причастности к игре в кости. В причастности интимной, почти зловещей. Укротитель случая – так любят они шептать у меня за спиной. Маг и волшебник – часто слышу я их слова. Но они сильно преувеличивают. Я отнюдь не полностью застрахован от сюрпризов, приносимых костями, я и сам порой дивлюсь на их определенность и предопределение.
Однако недооценивать кости нельзя. Скажу, к примеру, хоть что-то, что может произвести на вас впечатление: они способны заморозить время и потом снова растопить его (отчего человек иногда по щиколотку утопает в лужах, возникших по его собственному недосмотру), они способны превратить белое в черное, но не наоборот (из-за отсутствия спроса), они способны перешагнуть через что угодно и предсказать индекс Доу-Джонса на ближайшую неделю, они могут наизусть произнести все суры и псалмы и каждый день давать им новое толкование.
Итак, когда они берутся за дело, я следую за ними, пока они не закончат свой пробег, возможно – среди поля, а я воспользуюсь случаем и выкопаю картофелину – чем еще прикажете заниматься среди поля, – очищу ее и последую за ароматом хрустящей корочки до ближайшей дороги, а оттуда – в большой, привольный мир…
детский манеж возле кровати, возле гобелена, возле столика, возле двери, возле стены, возле манежа – однокомнатная квартира; скрипит дверь, ведущая в остальные однокомнатные квартиры на пятом этаже дома в Старом городе. Дом приметный, известен во всем квартале как Желтый дом на углу, разукрашенная желтизна и узкие балкончики, и эта скрипучая, скребучая, заедающая, утомленная дверь в комнату со счастливыми родителями. Существует красивая открытка с изображением этого дома, его снимали снизу, на заднем плане – грозовые облака, обрамленные солнечными лучами, – дом производит очень живое впечатление, как картина Хоппера, она вполне совпала бы при наложении с черно-белыми фотографиями.
Алекс трех дней от роду, на руках у своей матери, оба весьма довольны тем, что столько раз подряд выбросили дубль, оба вполне здоровы и исполнены ожиданий.
Алекс на руках у двух бабушек сразу.
Алекс ползет вверх по голой груди своего отца.
Алекс ревет – сразу после этого его успокоит фотограф.
Алекс в палисаднике размером с прикроватный коврик, слева мать, справа отец, на заднем плане строительные работы.
Алекс в манеже – на четвереньках.
Алекс – на нетвердых ногах.
Алекс хватает
ткань, которую бабушка натягивает поперек комнаты, чтобы за этой оградой предаться сну, – впрочем, ее храп делает бессмысленной попытку создать атмосферу некоей интимности, – мягкую и толстую ткань, в которой увязают его пальцы;
медь – когда ежедневно трогают самовар, на котором можно обнаружить так много вмятин и который служит для него первым мерилом роста;
жесть – часы в головах у отца, единственную их подвижную часть можно вытягивать и заталкивать обратно, а шум прогоняет сонливость, возбраняет громкие голоса, ведет к нескольким промурлыканным тактам, далее – к поцелую, который дарят ему на прощанье мать и отец. Немного погодя дверь издает свой скрип, входит бабушка. День начался…
Бабушка Алекса, рано поседевшая, кругленькая и с тех самых пор именуемая Златкой, любила яркие цвета и была очень уравновешенная. Деятельность ее сводилась к поеданию засахаренных фруктов, мысли ее вращались вокруг сладости конфитюров – друг ее, священник Николай, к которому она ходила, поскольку он нуждался в ее поддержке, называл Златку моя Галилеяи с видом заговорщика шептал ей на ухо: истинно говорю тебе, Земля вращается вокруг кусочка сахара. Речь Златки благодаря посещению в незапамятные времена некоего театрального училища в провинции прошла известную выучку, строгую и притязательную, которая была ориентирована на западные образцы, а при постановке дикции упражнялась в произнесении дворянских титулов, ибо в те времена дворянство было своего рода экспортным шлягером из Средней Европы. Тот, кому удавалось произнести милостивейшая княгиня фон и цу Саксен-Кобургбезупречно по форме и с необходимым богатством интонаций, мог считать себя созревшим для Евгения Онегина и Макбета.
Но со временем Златка полностью подчинилась диктату сладкого… Ах, как мне сладко(что означало положительные эмоции); вот это карамель!(свидетельство глубочайшего восхищения); ах ты пустая сахарница!(полнейшее разочарование), восклицала она, адресуясь преимущественно к стенам, ибо более молодые, те, с кем она делила эту квартиру, весь день пребывали вне дома, догоняли переполненные трамваи, строили планы, которые потом никто не выполнял, стоя в очередях, ловили всевозможные слухи, выстаивали один килограмм или один литр чего-нибудь, чего они вовсе не искали, и, умотанные, возвращались домой. А на долю Златки оставались только стены! Ох уж эти стены! Они тоже были пестрыми, безнадежно пестрыми, словно перед каким-то художником поставили задачу подправить и без того вполне бойкий узор – маки на ромбах. Маковые обои – это был фон, а в роли художника выступили некие семейные обстоятельства. Здесь висели репродукции с великолепных иконных фресок в заковыристых рамках, там – портреты предков, а между ними – удостоенные премии рисунки хозяйской дочери. И плюс к этому – рассеянный свет от черно-белого телевизора, тут поневоле тот либо иной гость начинал моргать – ох уж эти стены!..
Муж Златки, рано покинувший сей свет, покоился в семейном склепе, жертва неумолимого творческого призвания. По мнению его вдовы, во всем была виновата судьба… вообще-то дирижеры живут долго… утверждала она и принималась перечислять всемирно известных Мафусаилов дирижерского пульта. Творческая сила божественного происхождения и тем самым божественная услада придавала крепость этим людям, таково было ее твердое убеждение. При этом она упускала из виду, что даже божественная благосклонность бессильна против никотина, против ежедневных дьявольских кровопусканий, необходимых для снижения давления.
Когда он, ныне ушедший, опочивший, счел в свое время за благо выйти из тьмы безвестности в потрескивающее напряжение битком набитого зала Оперы, к маленькой дежурной лампочке, свет которой слепит как свет прожектора, под робкие предварительные аплодисменты поднимать палочку, посылать ободряющую улыбку первой скрипке и, еще раз движением плеч поправив пиджак, вызвать к жизни первый звук, то в конце, когда аплодисменты становились все громче, его уже ничто больше не удерживало дома, в городе, в стране. Когда Григорий Григоров превратился в музыкального коммивояжера, раз в несколько месяцев он на недельку-другую наведывался домой, часто затем, чтобы присутствовать при рождении очередной дочери или отпраздновать оное. Господь благословил его дочерьми, равно как и музыкальным успехом. Он уже привык выходить из поезда, обнимать старшую дочь и ловить ее сладкое дыхание, льнущее к его уху… Папа, а у нас есть еще одна маленькая сестричка… И каждый возраст он воспринимал со спокойной радостью, а потом он умер – и все семь женщин стояли у его гроба: шесть раз черные кудри и один раз белое великолепие седины.
А Златка передавала сладость по наследству, она подсахаривала сны, мечтания и амбиции своих дочерей. На ее десерты можно было израсходовать любое количество миндаля, а десертов она готовила много. Что до ежедневной потребности, то здесь между ней и ее дирижером царило полное взаимопонимание. Когда он ел ее стряпню, то трапеза неизменно должна была завершаться чем-нибудь сладким, немножко, это верно, но чтобы после главного блюда встать из-за стола и сразу перейти в гостиную – об этом и речи быть не могло. А вот что до количества, то тут их взгляды в корне расходились. Он, эстет строгой дозировки, умудрялся разделить даже самый маленький кусочек пахлавы на две части и потом долго, с наслаждением держал во рту эту половинку, пока она не растает. А дамы, в первую очередь, конечно, мать, не могли противостоять искушению второго кусочка.
Если вам когда-нибудь доведется перелистывать журнал, в котором приводятся образцы человеческой мании величия, то в нем, в этом объемистом фолианте, вы лишь один-единственный раз обнаружите упоминание Златкиной родины как страны, которая отличается высочайшим уровнем потребления сахара во всем мире. И вы сразу догадаетесь, кому эта страна обязана столь славным первенством и какое семейство здесь особенно порадело.
В этой семье домашний бог носил вместо шляпы сахарный колпак, в этой семье царил идеал сахарной свободы, сугубо семейное несчастье называлось здесь ограниченные нормы отпуска. Ибо нарушались равновесие со своим сахарным стержнем и заведенный порядок. Теперь нельзя было пойти и просто купить. А дополнительное несчастье – это когда сахарная свекла мало-помалу перестала соответствовать требованиям времени, прошел даже слух, будто каждая свеклина наделена подрывной силой, она росла все хуже и хуже, она очень сдержанно размножалась, она создавала трудности при уборке и, наконец, слишком скоро начинала гнить или самовозгораться.
Ах, эта сладкая жизнь, столь часто воспетая и столь редко пробуемая на вкус, как то было в доме господина дирижера и его Златки. Сладкая жизнь, гибель твоя, почти ежедневно предрекаемая, хотя по большей части без умысла. Когда в киноклубе первый раз после войны начали крутить шедевры итальянского кино на языке оригинала, с синхронным переводчиком, который самолично потел перед экраном, однажды вечером на этом экране напряженным глазам зрителей явилась настоящая Dolce Vita, и поди угадай, поведал ли впоследствии кто-нибудь хитроумному господину из Чиннечитты, что в этом зале, набитом фанатами сахара, его ирония пропала втуне. Напротив, весь зал в полном составе мечтал о том, чтобы переселиться на экран.
Впрочем, мир велик, и в другом месте произрастает сахарный тростник, постепенно завоевавший то историческое признание, которое было до такой степени утрачено местной свеклой. Тростник – это гуэрильо, ром – его оружие, чтобы спаивать власть в суете ее ночной жизни, власть отечную, с замедленной реакцией, слепую. Когда сахарный тростник на правах авангарда проник в глотки врагов, это стало уже лишь вопросом времени, до тех пор, покуда однажды вечером Златка не собрала в кухне шесть своих дочерей, не попросила у старшей губную помаду и не нарисовала на комоде огромное, пылающее красное сердце, а под сердцем большими буквами – КУБА.
Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом.
АЛЕКС. Безветрие
Я прыгаю с одной программы на другую, выглядываю в окно, созерцаю выставку нижнего белья на соседском балконе, экран отражается в стекле, усилием воли я наконец заставляю себя открыть окно, высовываюсь из него, жду, когда ветер взъерошит мои волосы, считаю машины, медленно смежаю веки, медленно-медленно, пока весь транспорт не сольется в одну сплошную ленту, опоясывающую каждое здание. Если я открою дверь, меня встретит коридор с темно-коричневым ковровым покрытием, массивные двери, дощечки с фамилиями жильцов, фамилии, только фамилии и всегда по две, управляющий выписал их и разделил черточкой при помощи струйного принтера («Хьюлетт Паккард» новейшей модели, который я помог ему приобрести со скидкой). Один из соседей по этажу оставляет снаружи перед дверьми детскую коляску, другой – свои башмаки. Колеса у коляски вполне чистые, подметки у башмаков тоже. Порой я обнаруживаю в резиновом рельефе мелкие камушки – как мне кажется, с дорожек расположенного поблизости парка. Если я провожу дома весь день, а так оно чаще всего и бывает, меня по вторникам и пятницам будит пылесос, потому что сплю я долго. Через глазок в двери я вижу обмотанный шалью затылок, затылок наклоняется, наверно, чтобы подтащить пылесос.
Регулярно я подхватываю грипп, раза три в год, примерно недели на две. Какими впечатлениями одаривает меня тогда окружающий мир? Распространитель подписки на газеты, ирландского, судя по всему, происхождения, советует мне пить горячее пиво с медом, чтобы хорошенько пропотеть, и выказывает неподдельное разочарование, когда этот добрый совет не побуждает меня оформить подписку. Пожилая дама, сильно смахивающая на Джона Белуши, а рядом – для умягчения – дама помоложе. По недомыслию открываю дверь. Передо мной стоят очень милые люди, и у них своя миссия. Весьма кстати, я как раз болею. Исцеление близко, спасение тоже. Да-да, эти очень милые дамы доставляют мне прямо на дом призыв вступить в новое объединение, указывающее направление, внушающее надежду и так далее и тому подобное. Я смущенно опускаю глаза, спотыкаюсь о туфли обеих дам, летом о сандалии, на младшей еще и юбка, и как знать, может, я и согласился бы, чтоб меня спасли, догадайся она заранее сбрить волосы на ногах, а так – ну что мне прикажете делать в райских кущах подобной антиженственности?
В одну из суббот меня сгоняет с постели очередной визитер. Я вздрагиваю при виде безукоризненной солдатской формы и серьезного широкого лица, над которым берет. Я теряю дар речи. Тусклый неоновый свет в коридоре силится придать хоть какое-то подобие блеска этой встрече пижамы и мундира.
– Мы собираем средства на могилы участников войны, – говорит мундир.
– Лично я хотел бы купить «першинг», – отвечает пижама.
Берет съезжает набок, растерянно и криво.
– На охрану солдатских могил, – говорит мундир.
– Все понятно, – говорит пижама. – На мой «першинг» вы жертвовать не желаете.
Мимолетные завихрения в общем безветрии.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПРО ЖЕЛТЫЙ ДОМ НА УГЛУ: он стоит как раз на том месте, где примерно две тысячи лет тому назад переночевал некий римлянин. Вы, конечно, можете спросить: а что ж тут такого удивительного? Погодите. В те времена не было ни самого дома, ни улиц, ни строительных площадок. Не было и фотографий, ни цветных, ни черно-белых. И вообще в те времена почти ничего не было, кроме травы, да кустов, да деревьев и еще ручья – одним словом, кроме природы. Ну и скукотища, можете подумать вы и перемахнуть, не читая, через давно минувшее. Не спешите, прошу вас. Ибо на своем коне без рабов и букцин уже приближается римлянин, по случайности избравший этот путь, приближается утомленный разведчик в поисках места для ночлега. Повинуясь то ли инстинкту, то ли опыту, то ли игральным костям, которые при нем были, он сделал превосходный выбор. Место оказалось со всех сторон окружено холмами, обильно водой и наделено свойством притягивать к себе историю. Словом, этому римлянину можно лишь позавидовать, что жил он в те времена, когда человек безмятежно засыпал на лесной полянке, а утром просыпался основателем города.
Место ночного бивака подтвердило его удачный выбор: оно превратилось в перевалочный пункт и транспортный узел, начиная от которого прочие римляне принялись мостить булыжником свои дороги – на юг и на север. Римляне надолго задержались здесь, они смешались с людьми, что звались фракийцами, славянами и дикарями и приходили с севера. Здесь вполне можно было жить, здесь был здоровый климат, щедрые колодцы, обильные ванны, которые уже впоследствии, надстроенные банями османских времен, явили собой палимпсест первозданной чистоты. Даже Лобное место вскоре обросло традицией. А Товашский холм – его Алекс видит из окна тетки Нойки – с первых дней существования был взыскан милостью духов и богов.
На нем много столетий подряд правил Юпитер, глаза бога тешились видом просторной долины, что открывался между колоннами. Сделан был Юпитер из мрамора, гладкий, отвесный, мускулистый, как центурионы, которые порой составляли ему компанию. Разменяв несколько столетий, Юпитер уступил место Тангре – богу, рангом пониже, тому, что предпочитал обитать в соседнем лесу, а всего охотней оставался в кругу своих почитателей, простонародный чурбан, ценивший тепло домашнего очага. И его ничуть не тревожило, что вечный камень Юпитера среди буйной зелени являл взгляду столько трещин, сколько годовых колец его, Тангрины, деревья.
Под конец и в довершение всех бед Тангра допустил роковой промах: взял да и сгорел вместе с хижинами своих почитателей. Согнанные к водоему, они, дрожа от страха, слушали, как воинственный посланник пытается воззвать к их разуму… таково-де решение хана, чтоб они открыли свои объятия новому богу, заступнику куда более могучему и славному, далее хан желает, чтобы все кланы за ним последовали. Они вольны принять любое решение – тут воитель указал на своих людей, которые утомились разрушением и нетерпение которых, покрытое грязью, гарью и кровью, можно было утолить лишь новой добычей. Еще несколько ударов мечом – и по домам. Воитель же продолжал свою речь… кто будет противиться, умрет на месте, а кто покорится, тот станет сопричастен ханской славе, и сам он, и дети его, и дети его детей. Он пожнет щедрый урожай…
Согнанные к холму распрощались с тлеющим Тангрой, черной головешкой, по которой пробегали последние искорки. Они согнули спину, чтобы их дети потом смогли ходить, гордо выпрямясь, и вытерпели обливание колодезной водой.
Заброшенный Юпитер получил новую компанию, которая была ему ближе, чем муравьи, мох и лесолюбивый Тангра. Сперва малый алтарь, подведенный под навес, далее большую просеку, а на просеке, как венец всего, церковь, превосходившую Юпитера ростом как раз на высоту креста.
Новичок там, наверху, в самом непродолжительном времени проявил себя более чем преуспевающим торговцем святостью. Рассчитанный на долгий срок, он в годы скудные представал аскетически умеренным и непритязательным адептом идеи, однако при недостатке конкуренции без зазрения совести выставлял напоказ расточительство и преуспеяние, чем без труда мог переплюнуть римлян. Он царил долго, и чернорясники служили ему. Даже при наличии музыкального слуха он не обращался в бегство от криков имама – мечеть так и осталась внизу, в городе. Ибо мечеть рассчитывала на ежедневные посещения, предпочитала самолично определять пульс верующих на манер генеральных штабов, с секундомером в руках. Как прикажете ей после этого с поляны на холме, окруженной деревьями, которые так и норовят склониться в лес под натиском ветра, отметающего все противоречия, и лишь по вечерам нежатся на солнце, осуществлять столь жестокий контроль? Взгляд с холма слишком часто тонул в тумане, терялся в мареве.
Крест уже вновь воцарился невозбранно, когда был утвержден проект архитектора на строительство Желтого дома на углу, когда строители вывели фундамент из пересохшего по-летнему котлована, когда дирижер пригласил свою Златку осмотреть их будущую спальню на пятом этаже. И уж конечно их пятый этаж, равно как и все прочие этажи, и лестничная клетка, и подвал, и весь дом вкупе был освящен его ладаном. Но покуда дирижер вылезал из своего такси, перекидывал через плечо ремень дорожной сумки, помогал выйти по первому разу беременной Златке и поддерживал ее под локоток, началась последняя покамест стадия его уникальности. Ибо слуха уже коснулись смутный рокот, и гул, и замыслы, ибо обоняние уже учуяло глупость и корысть. И когда зловоние достигло небес, жители города вспоминали об этом доме, сидя в бомбоубежищах, – их же дома тем временем приникли к земле при виде бомб, которые приземлялись так же спокойно, и неуклонно, и точно, как Златкина игла, вышивающая гобелен при свете парафиновой лампы. Два своих прекраснейших произведения она завершила еще до капитуляции: «Парусник» и «Море роз». «Продлись война подольше, – повторяла Златка всякий раз, когда кто-нибудь из гостей нахваливал ее гобелены, – я бы стала настоящей художницей».
Желтый дом на углу долго оставался целым и невредимым, используя обманчивое везение, которое приберегало свой сюрприз на будущее. Последний и самый страшный налет случился в субботу. Дирижер и Златка с обеими дочерьми как раз уехали к родным за город. И поэтому сигнал воздушной тревоги на пятом этаже мог лишь достичь ушей их домработницы, которая как раз вытирала пыль под звуки «Славинских танцев». Но поскольку в дело вмешался случай, она уже не успела спуститься в бомбоубежище, не успела даже выбежать из квартиры. Вот и святыню среди просеки бомбы под конец не пощадили. Утомленный пилот отклонился от предписанного курса, а его коллега сбросил бомбовый груз в аккурат над базиликой. Бомба прошила крышу Желтого дома на углу, разбежалась взрывной волной, вырвала патефонную иголку из такта размером в четыре четверти, приподняла служанку и выбросила ее из окна, Иисус был исторгнут из иконостаса, вылетел из окна вроде простой доски, приземлился среди римских развалин, рядом с потрескавшейся мраморной головой. Побежденные боги лежали друг подле друга, залепленные грязью, – ливень затушил все пожары.







