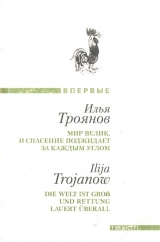
Текст книги "Мир велик, и спасение поджидает за каждым углом"
Автор книги: Илья Троянов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
Златка и дирижер, вернувшись от родных, обнаружили на углу груду развалин – желтыми оставались лишь клочья краски, что лежали на земле как чешуя, – да свою с головы до ног загипсованную служанку. Кости у нее сложились, словно лезвия перочинного ножа. Все органы были в целости и сохранности, все на месте, если, конечно, не считать несколько миллионов клеток мозга.
АЛЕКС. Работа
Рабочее время
Заработок
Страховка
Налоговый консультант сказал, вы только подумайте о тех преимуществах, которые сулит постоянная внештатная работа, вот у меня они есть, эти преимущества, с избытком, мне заблагорассудилось уйти из фирмы, из бюро, заказов у меня предостаточно, теперь я даже меньше работаю, могу сидеть дома, выходить не люблю, заработка хватает, за квартиру платить не надо, об этом своевременно позаботился отец, для него было делом чести, начав с нуля, за десять лет обзавестись двухкомнатной квартирой, ну и честолюбие же было у человека, для меня слишком утомительно, а вообще-то чего ради – я ведь получил наследство. Моих заработков хватает, чтобы платить за всякого рода страховки, и на покупки хватает тоже. Ума не приложу, чего ради некоторые коллеги горбатятся в своих офисах, удивительно. И в этом для них заключается весь смысл жизни, нет и нет, загадочно, крайне загадочно. А дома-то как удобно – есть компьютер и факс-модем, есть случайные заказы, а больше мне и не требуется. И надрываться тоже незачем, реклама работает сама по себе, я в срок сдаю, и уж тут я не щажу живота, надо – значит, надо.
Квартира
нравится далеко не всем, вообще-то говоря, она никому не нравится, и всего меньше – женщинам, тем немногим, которым доводилось здесь бывать. Спору нет, она – и это, может быть, как раз и не нравится – набита книгами и бутылками, причем первые получены в наследство, и с них никогда не стирали пыль, вторые же куплены на оптовом рынке возле автобусной остановки и в ходе лет выпиты до дна. Надо бы убрать их куда ни то, если б это можно было сделать за один присест, справа – контейнер для старой бумаги, слева – старое стекло, бросать нужно, предварительно рассортировав по цвету. Но я так этого и не сделал, на подвесном шкафчике, что в кухне, повсюду стекло, весь пол заставлен бутылками, когда что-нибудь готовишь, надо двигаться очень осмотрительно, но я уже давно ничего не готовлю, по-моему, размешивание супового порошка и хлопьев пюре, разогревание замороженных блюд или намазывание тостов нельзя назвать готовкой.
Там, где я всегда сижу по вечерам, уставясь в экран, на ковровом покрытии пола отчетливо видно пятно, зря я выбрал песочный цвет, просто мне не хотелось, чтобы все выглядело слишком мрачно, и без того в комнату попадает мало света, не иначе мне и дальше придется жить с пятнами, следы красного вина, следы от гитары, застывшие следы, ржавчина, хотя и было присыпано солью, устойчивые вмятины. Да и то сказать, не так уж часто я смотрю на пол.
КОГДА ЕГО ДОПЕКЛА ПОДАГРА, патриарх семейства пожертвовал деньги на монастырь… После частных изысканий дядюшки Верно можно почти с уверенностью сказать, что семейство Луксовых в состоянии проследить свое родословное древо до окрестностей королевского двора в предысламскую эпоху… Итак, прабабушка семейства восседала на семейной арбе и держала путь к воскресному базару; прадедушка семейства как раз проезжал мимо на собственном осле, увидел ее и начал перед ней выставляться – сердце девушки он покорил, но миновало не менее двадцати лет, прежде чем тесть начал принимать его всерьез… Фамилия «Луксов» в этих краях означала: земли, имущество, богатство, влияние… Злые языки даже утверждали, будто идея основать монастырь была дипломатией чистой воды, чтобы уж подстраховаться со всех сторон… Благосостояние, репутация, хорошее воспитание… холера… большие беды обрушиваются на каждое семейство по-своему…
В году 19… одном из годов великого мора для Европы, в провинциальной столице Т., некая молодая мать со своим дитятей одна пробивалась как могла и как усвоила за еще недолгие годы своей жизни. Выйдя замуж, она последовала сюда за офицером, своим супругом, теперь же могла лишь надеяться, что ее муж вот-вот вернется с фронта, живой и здоровый, не повредясь в рассудке, не повиснув на костылях подобно тем возвращенцам, которые в молчании передвигались по улицам, от вокзала к ратуше, где бургомистр произносил до неприличия короткую речь и отпускал их с Богом. Что он и она снова встретятся, испытывая ту же радость, какую всегда доставляли друг другу, то же волшебство, которым всегда было для них присутствие другого, ту же уверенность, которую всегда внушала его заботливость, его изысканные манеры, его красноречие и, не в последнюю очередь, богатство его семьи. Война просто никак не могла затянуться, все о том твердили, тайные мирные переговоры в Швейцарии, после падения дома Романовых счет мог идти только на недели, кайзер отправил своего главного адъютанта в Лондон. Ну а наш царь? Да стоит союзникам подать самый маленький знак, он тотчас прикажет остановить огонь на всех фронтах.
Но в мужниных письмах, которые четко поступали к ней раз в неделю – она благодарила за это Бога, а почтальон восхвалял точность полевой почты, – ни слова не говорилось о мире, ни слова о мирных перспективах, лишь юмористические описания друзей-офицеров и едва заметное дыхание того ужаса, который она угадывала на лицах возвращенцев. Он не хотел ее пугать, она же была достаточно встревожена, чтобы не расспрашивать. Ей хватало и того немногого, что она знает.
Ее ответы из недели в неделю фиксировали подрастание маленького Григория, описывали форму его пальцев, посадку головы, каждое его движение, его способности. Звук его смеха. Причины его смеха. Отсутствие мужа вынуждало ее наблюдать развитие сына с вниманием, от которого ничто не могло укрыться. Каждое письмо она кончала заверением, что оба они вполне здоровы, что недостает им лишь отца и мужа, но, если потребуется ждать еще, они готовы ждать.
Холера. Армейское командование несколько месяцев держало это в тайне, всеми силами своей цензуры воздвигнув плотину, чтобы удержать поток страха и паники, но в конце концов общественность об этом узнала.
На каждом углу толпились люди, обсуждая новости, сведения, слухи. Холера уже унесла больше жертв, чем все вражеские пушки и снаряды! Демобилизованные разносят ее по стране! Они перезаразят весь народ! Смертельно опасная болезнь, вы слышали когда-нибудь про страшный мор в Генуе, за несколько лет там вымер весь город!
Он тоже писал ей об этом, но как-то походя: «Дорогая, как я ни принуждаю себя, у меня нет сил есть этот заплесневевший, мокрый, черный хлеб, который недостоин называться хлебом. Думаю, я обязан этим полученному мной воспитанию и хорошему вкусу, царившему у нас в доме. Товарищи берут свои ломти и макают их в суп. Правда, и суп этот никак не назовешь деликатесом, и любой бродяга с негодованием отказался бы от него, но, по крайней мере, он не гнилой. Сама мысль о том, чтобы есть что-то заплесневелое, для меня унизительна. Я обязан сохранять дистанцию между собой и червями или мушиным пометом. В последнее время начали утверждать, очень кстати, будто плесень – вещь полезная, а что до холеры, которая ползет изо всех щелей (сдается мне, именно так враг сумеет нас победить), то тут плесень может очень даже помочь, чем больше плесени, тем лучше. Правда, мой старый друг, он же наш полковой врач, опровергает эти утверждения как полнейший вздор, но порой, как тебе известно, и вера помогает, как мне, родная моя, помогает вера в тебя, и тебе, я думаю, тоже…»
Она гордилась им, гордилась, что он готов скорей голодать, чем унизиться, и приняла решение всю жизнь потчевать его разными лакомствами в награду за все понесенные им лишения, если, конечно, ей суждено будет вновь его увидеть.
Между тем число жертв все росло, каждый дом стал юдолью плача, громкие рыдания женщин на много часов сковывали город, людям чудилось, будто они живут на кладбище. В России мира до сих пор не было, кайзер снова рассуждал о победе, а что собственный царь? Многие куда как охотно разорвали бы на клочки и его самого, и его камарилью, и его лживые посулы. Однако не смели даже высказать это желание вслух.
Как и прежде, она каждую неделю получала письмо, и порой эти письма ее пугали. Почерк изменился, стал какой-то беспомощный и болезненный. Впрочем, сравнение с предыдущими письмами ее успокаивало. Тревожил ее также и маленький Григорий. Мальчик, правда, все рос и рос, но что в нем происходило, какие мысли и чувства будило в нем это безутешное время, она не знала.
Григорий без памяти любил украшение их гостиной – огромный самовар из Ташкента, купленный в Киеве ее свекром, когда тот учился в этом городе. Узор на самоваре, искусно переплетенный и изящный, состоял из одной-единственной линии, и невозможно было определить, где эта линия начинается, может, у самого основания, потом вьется кверху, до маленького крана, откуда вытекал крепкий чай, разведенный горячей водой и хорошо подслащенный. Прежде самовар ставили лишь при семейных торжествах или когда приходили в гости добрые друзья ее мужа, потом начали его ставить каждый день, словно с помощью самовара она могла хоть как-то сохранить связь с фронтом.
Она встала рано, разожгла угли, вскипятила воду, приготовила тем временем завтрак для Григория – черствый хлеб с маслом (а по воскресеньям и овечий сыр), насыпала горстку чаинок и залила их кипятком. Сейчас будет выпита первая чашка этого дня. Григорий сидел у стола и учил плавать хлебную корку. На улице все было спокойно. Еще не совсем проснувшись, она взяла чашку и отвернула кран. И оцепенела. Какая-то краска заполнила ее голову, залила ее глаза, обхватила ее и потянула вниз. Та самая краска – в первую секунду она даже не поняла – наполнила чашку кровью, кровь бежала через край, капала на ковер, сам ковер тоже обернулся краской, все как есть стало красным. Ее руки обрушились на самоварный кран, схватили его, пытаясь хоть как-то закрутить это зрелище. Григорий сидел у стола и все играл своей коркой. Опрокинутая чашка лежала на ковре.
В эту неделю письмо не пришло, что она еще успела отметить. А вот получить похоронку ей уже не довелось.
АЛЕКС. Сильвия
У Сильвии есть великое достоинство – она работает в привокзальном «Макдональдсе». Это привело меня в восторг при первой же нашей встрече. Она занята два раза в неделю, и два раза в неделю я туда хожу. Пробить заказ, пройти в заднюю комнату, выложить на поднос упакованные блюда – картофель в пакетике, какая-нибудь жидкость в бумажном стаканчике, пройти вперед, подать заказ, улыбка, когда надо платить как за билет в кино. Для разговоров нет времени. Я занимаю место за высоким столиком неподалеку от нее и гляжу, как она работает у транспортера, она не дергается, не произносит ни одного лишнего слова, она и после работы такая. Порой мы ходим в какую-нибудь пивнушку из тех, что открыты допоздна и чья обслуга приноровилась к ночной работе, одно пиво, мне то же самое, наше молчание окутано дымом сигарет, я могу все время глядеть на нее, я всегда выбираю правильный столик, либо зеркало висит очень удачно. Ее глаза напоминают мне камушки, которые я собирал, еще когда учился в начальной школе, они выкатываются, когда она смеется, они чуть не выпрыгивают из орбит, когда этот придурок-официант начинает острить, и ее лицо выражает недоверие, да что вы говорите, да быть того не может. Она для меня самая надежная пристань, где я могу укрыться от скуки. Сильвия, когда занята, порой глянет на меня, пусть без выражения, но это выходит за привычные рамки, а потому убедительно свидетельствует о наличии интереса. Я потягиваю колу через соломинку, и, если не очень при этом спешить, обычной порции хватает на три сигареты с учетом перерывов, пальцы мои скрещиваются, верхняя часть тела клонится на столешницу, а я сосу соломинку. Потом я снова иду туда же и заказываю чизбургер, подаю деньги, получаю сдачу и еще улыбку, она поднимает глаза, ее взгляда хватает на одну улыбку, спасибо, приятного вам вечера. «А какой он будет?» – спрашивает она, я же иду туда, где бегут рельсы, надкусываю свой чизбургер и продолжаю ждать.
ДОЧЬ ГРИГОРИЯ И ЗЛАТКИ явилась ка свет, наделенная известным преимуществом, которое утратила, выйдя замуж. Так она это воспринимала. Татьяна, которую большинство людей называло просто Яной, была самая молодая и самая красивая из шести дочерей. До девятнадцати лет она представляла себе свою будущую жизнь, расписывала узорами свои будни, пока остальные не почувствовали себя в них неуютно, строила радужные планы успешно предающихся ожиданию девиц из соответственных романов. Соблазнительнейшие истории, где на вышитых шелком носовых платочках давало о себе знать нетерпение сердца, вызванное взглядом верхового адъютанта, который дарил ей улыбку, завидев, как она стоит у окна, одетая в робость и смущение. Она трепетно воспринимала его дар, отступя от окна в глубь комнаты, в свои сомнения, пока он не начинал ухаживать, очаровывал и околдовывал ее и уводил к вечному счастью. Напрасно Златка прятала свои немногочисленные книги более или менее фривольного содержания в платяном шкафу, за ежегодниками Патриархата. Тайник был обнаружен, но Татьяна отреагировала на это чтиво совсем не так, как того опасалась Златка. Добравшись до первой же страстной сцены, которая повествовала о том, как она (возлюбленная) ощутила прикосновение его (возлюбленного) волосатой ноги и тотчас затрепетала от страсти, она (юная читательница) невольно фыркнула. До чего смешно! В ее царстве для подобных глупостей не было места.
Ей никто не мешал. Мужчин в хозяйстве не было. Пять старших сестер были заняты самими собой и за пределами дома, мать же не видела причин допустить в дом печальную реальность. Сурово и громогласно одергивала она гостя, ежели тот, чуть-чуть приоткрыв дверь, шептал про разные страсти, про сосланных и пропавших без вести. Даже Бай Дану и то от нее досталось – она снова и снова утверждала: рассказам о подобных неприятностях в ее доме не место. Она верила в живительную силу фантазии. Что еще оставалось нежному и юному существу в этой серой эпохе, кроме как пересидеть зиму в оторванных от времени мечтаниях?
Несколько вечеров в неделю обе они, сияя красотой, порой в сопровождении одной из сестер, покидали Желтый дом на углу, примечали канавы и кучи камня, осторожно вышагивали по мосткам и по булыжнику и через несколько минут достигали здания Оперы. В сезоне, что между осенью и весной, они прятались в коконе тяжелых пальто. Они двигались быстро, сблизив головы, шепотом обменивались впечатлениями по поводу либретто или шашней, которые Мими завела со сценографом.
Все служители Оперы, будь то кассиры или билетеры, относились с почтением к Златке и с любовью к ее младшей дочери, которая всегда радовалась не только премьерам, но и Бог весть какому представлению «Богемы» в исполнении второго состава, тогда как первый мотался по заграницам и блистательными представлениями «Бориса Годунова» либо «Записок из мертвого дома» зарабатывал славу родной стране. Вдова дирижера – ах, он так рано покинул нас – имела абонемент в ложу, и у Татьяны развилась маниакальная тяга – тяга к костюмам и кулисам, к преданности и потокам слез, к ариям и дуэтам, во время которых устранялись все недоразумения и обломки соединялись в единое целое. Здесь обитало волшебство, которого так недоставало обычным, не разыгранным и не проигранным будням. Может, в том были повинны школьные дисциплины вроде трактороведения, а может, многочисленные оперы, прослушанные Татьяной еще во чреве матери.
Когда ей надо было идти во вторую смену, она спала почти до обеда, и все попытки разбудить ее игнорировала, поворачиваясь на другой бок и бормоча при этом: «Ну дайте мне спокойно проглотить хоть еще один кусочек золота». Она все глотала и глотала, пока ей не начинало казаться, будто внутри у нее образовалась золотая зала, а потому насмешки сестер, которые, подавая ей хлеб или соль, называли ее принцесса, казались ей продиктованными досадой завистливых золотоискательниц.
Когда ей исполнилось девятнадцать лет, чужая жизнь преградила ей путь, застила ей свет, лишила ее сна, и развязаться с этим не было никакой возможности. Иными словами, она влюбилась, а несколько месяцев спустя уже была беременна.
Если, о дорогой слушатель и дорогая слушательница, вы принадлежите к числу тех, кого прежде всего интересует, а как они познакомились, ибо веруете в романтику начала, в чистоту первого влечения, ибо полагаете, что рождение есть первая и высочайшая вершина, после чего все сразу покатится под горку, я охотно и не мешкая выдам вам этот секрет.
Татьяна в черном закрытом купальнике плавала по Черному же морю, ее черные волосы отяжелели и намокли, а небо высоко над ней, небо, которое она видела и никогда больше не забудет, казалось ласково синим. Течение уносило свою добычу, на ветру колыхались красные флажки спасательной станции. Когда она подняла глаза, берег оказался миниатюрно маленьким, а люди – словно надломанные спички. Она не знала, как ей быть, то ли испытывать страх, то ли отдать себя на волю волн. Ноги ее начали шлепать по воде. Но ведь не может же берег быть так далеко. Волны хлестали ее по щекам, вот видишь, как оно, тебе понятно, ты еще увидишь, ты еще многому научишься. Она попыталась уклониться от пощечин. Ничего, никуда ты от меня не денешься, и соленая вода заливалась в нос, можешь кашлять, можешь не кашлять, слабачка ты, ничего тебе не поможет. Она судорожно замахала руками. Сплюнула, успокоилась, поплыла, берег приблизился, пусть едва заметно, чуть-чуть. Это тебе так кажется, все равно ничего не выйдет.Она зажмурилась. А может, берег отодвинулся еще дальше? Она начала плыть под углом к течению, в сторону прибрежной косы. Теперь пощечины доставались ей сбоку, а издевка перекатывалась через голову. Маленькая девочка, милая малютка, что ж ты так далеко в море заплыла? Она начала двигаться быстрей, и песчаная коса теперь приближалась.
Когда она, уже из последних сил отбивая пощечины моря, потеряла сознание в маленькой бухточке на мелководье, спортивного вида мужчина с белыми полосками на крыльях носа прыгнул в море, украшенное штормовым предупреждением, и вынес ее на берег. Это лицо она и увидела, открыв глаза. Лицо озабоченное, а во взгляде уже симпатия. Она еще не раз пожалеет, что открыла глаза. Спустя год без малого у нее не осталось другого выхода, кроме как произвести на свет Александара, в том мрачном зале с зарешеченными окнами.
АЛЕКС. Сегодня
Утомительный день, приходится стоять как истукан среди запахов застывшего жира и жестяного голоса объявлений, между прибытием и отправлением читать большие, словно раскрытый зонт, газеты, кто это способен долго выдержать, это очень утомляет. Размышляю про себя, отправляю и принимаю мысли по какому-то незнакомому расписанию: рельсы, которые пробираются по свету, такая вот мысль в ожидании и сидении на корточках, я провожаю глазами параллельные линии, вблизи они еще тяжелы, как железо и кузня, а уж там, где кончается навес, они реют, словно обещание. В ожидании ли? Ожидание порождает корыстные мысли, и с ними не совладать, они садятся в каждый поезд. Вагон, первого класса разумеется, устроиться на голубых подушках, словно изготовясь к долгому путешествию. Мне надо быть очень внимательным, стоп, оставаться на местах. Не хватало еще снять ботинки и достать дорожное чтиво… от меня убегает одна из тех мыслей, которые приносят несчастье, она скачет через трилогию отъезда, спорт на уровне мастера, гоп – объявление, вжик – свисток, прыг – в дверь, которая закрывается у него за спиной. Скоро остаются лишь два уплывающих ярких глаза. Испуганный – мы уже едем пригородами, флирт в купе, близятся кофе и бутерброды, – я дергаю кран экстренного торможения, беглая мысль в самом измятом виде покидает поезд вместе со мной, мы не глядим друг на друга, никто не глядит нам вслед, неприветливый перрон… Это и есть ожидание?
Ожидание чего, прибытия? Одни теребят обертку искусно завернутого букета, вышагивают взад и вперед, и каждый их шаг полон напряжения, и каждые несколько секунд они бросают взгляд на табло, чтобы лишний раз удостовериться, потом они смотрят пытливым взором вдоль рельсов, в глубины своего ожидания. В аэропортах они заглядывают поверх таможенных барьеров, чтобы увидеть того, кого ждут, хоть на секунду позже, чтобы подпрыгнуть закричать замахать заулыбаться обменяться первыми шуточками – тренировочный разогрев перед торжеством свиданья. Завидую этим людям.
Сегодня прибыла бабушка. Восточный экспресс, само собой, запоздал. Опоздание, а тем временем мои мысли силились ввести меня в заблуждение, я же выпил три капучино и скомкал вечернюю газету. Бабушка – двадцать лет не виделись, лишь несколько раз разговаривали по телефону, да и то давным-давно, всхлипывающий голос пытается одолеть посторонние шумы, несколько тяжеловесных слов, Это ты, мой Сашко, мой малыш, несколько мгновений, залитых совместными слезами, а тут она взяла и приехала. Я не знал, в каком купе она сидит, но был уверен, что узнаю ее. Вагон, надписанный кириллицей – столько-то я понимал. Я узнал ее тотчас, двое мужчин, которые помогли ей одолеть три ступени подножки, массивная, гордая фигура, и объятие, в котором можно потерять сознание от счастья. А где твой багаж, бабушка?Она повернула голову, и один из мужчин подал ей коричневый сверток. И это все? Стало быть, пикап нам был вовсе и не нужен, однако я мог держаться за него, как бабушка за мою левую руку, когда мы медленно направлялись к зданию вокзала. Я говорил про всякие пустяки, ну как это принято, когда надо сказать друг другу столько важного. Бабушка выглядела очень внушительно, ей-же-ей, она очень здорово выглядела. Человек, который что-то собой представляет, бабушка, которой вполне можно гордиться. Я велел машине подъехать, я поднял пакет – он был совсем легкий. Я удивленно воззрился на бабушку… и получил удар по лбу. Передо мной стоял железнодорожник в робе, измазанной машинным маслом, и, чертыхаясь, тер свой лоб. Я ощупал собственную голову в поисках болевой точки и нашел здоровенную шишку, а пакет и вовсе упал на землю. Смотреть надо! Верно, все верно, хорошо ему так говорить, конечно, надо смотреть, но это моя бабушка, и мы не виделись с ней целых двадцать лет. Ах, вы, вы… Он повернулся ко мне спиной. А куда тем временем подевалась бабушка? Пакет лопнул, в нем ничего не было, только запах, запах пряности, которой она посыпала для меня хлеб с маргарином после того, как я, бывало, выпью свое горячее молоко. Запах вознаграждения, он поднимался из коричневого, порванного пакета, одуряющий запах. Чей-то башмак наступил на пакет и оставил на нем грязные следы. А бабушка? Исчезла, и люди, пробегавшие мимо, метали в меня почти удивленные и досадливые взгляды. Я, верно, и в самом деле престранно себя вел. Стоял среди вечерней суеты, пялился на бумажный пакетик и жадно принюхивался. Я украдкой вышел из толпы к автобусной остановке. Довольно я ждал.
ИГРАЛЬНЫЕ КОСТИ ИНОГДА НАЧИНАЮТ НАГЛО СЕБЯ ВЕСТИ. Желаю вам, говорит один… желаю вам наиприятнейшего доброго вечера… говорит другой. I'm your host tonight… votre conférencier. The one… the only магический… магнетический! Это снова я… back again. Tonight is the night… faites attention, enjoy… the joy. [3]3
Сегодня вечером я ваш гость… ваш собеседник. Один… единственный… вернулся к вам. Сегодня вечером… прошу внимании, наслаждайтесь… игрой (смесь фр. и англ.).
[Закрыть]Минуточку внимания, сейчас вам представят одну из звезд нашего суаре.
Он еще не выглянул из-за кулис, он еще мыкается там, проявляет беспокойство, его гонит, его теснит на сцену, говоря между нами, это всегда было для него проблемой, he's moving much toooooooo fast [4]4
…он движется слишком быстро (англ.).
[Закрыть]. Он еще стоит за занавесом, он еще в темноте, но ему недолго так стоять – за спешащего, за бегущего, за Васко Луксова, он же Алексов отец…
Бегство в бегство, натиск прочь прочь прочь отсюда, из года в год бегство пускало корни в Васко Луксове, словно экзотический цветок в баночке из-под конфитюра, что стоит на подоконнике. Питаемое плодородным черноземом его смутного недовольства, маленькими повседневными огорчениями, оно процветало наилучшим образом, орошаемое и удобряемое предчувствиями и смутными пожеланиями.
Началось все с винограда. Он сидел на дереве в отцовском винограднике и опускал большие, тугие, спелые, светло-зеленые ягоды себе в рот, не помыв, одну за другой, часами, пока не село солнце и тревога облаков не отразилась в его желудке: он потерпел неудачу при попытке съесть весь урожай, прежде чем тот обратится в разбавленное государственное вино. Отец и братья так же упорно вглядывались в чреватые кислотным дождем облака.
В первой половине дня им нанесли официальный визит. Секретарь горкома воздвигся у них перед дверью. В руках – письмо, письмо вручается с невнятным приветствием, в глазах – торжество. Ноги его, казалось, испытывают стыд и не смеют перешагнуть порог, несмотря на неоднократно повторенное приглашение. В свое время этот самый секретарь подсоблял у них в семейной лавке. Приветливый, несмелый человек, чьи руки всегда оставались чистыми, он правильно взвешивал и почти не воровал.
Все семейство собралось перед дверью, три брата в полосатых носочках и матросских рубашках, мать, не снявшая фартука. Все догадывались, о чем пойдет речь. Как всегда, слухи опередили исполнение.
Отец семейства, владелец лавки и винодел, предложил кофе или, может быть, нашего свежеприготовленного виноградного желе? Так сказать, снять пробу. Он улыбался краешком губ, одновременно принял и конверт, и отказ.
– Спасибо, благодарю, пройдем в дом.
– Есть приказ, чтобы ты прочел письмо в моем присутствии, чтобы не осталось неясностей, понял?
– Неясностей, говоришь, чтоб не осталось?
Молчание. Он надорвал конверт, с задумчивой основательностью прочел содержание, после чего передал документ своей жене. Она лишь пробежала его глазами, а ее муж тем временем в упор глядел на письмоносца, как глядят на должника.
Мать передала письмо сыновьям. Старший уже без всякого труда читал в школе Лермонтова. Затем письмо попало в руки Васко, второго от начала, второго от конца, который покамест читал лишь про похождения хитрого Петера. Дочитав, он вопросительно взглянул на отца – третий брат еще не умел читать. «Прочтите ему», – буркнул отец. Секретарю горкома стало как-то муторно от этой процедуры. Смущение поднялось от ног к гортани и попыталось вырваться на волю с помощью кашля. Голос мальчишки срывался, читая приказ.
– Не так!
Отец взял письмо в руки и начал читать вслух. Тем же самым голосом, что перед началом трапезы, во имя Отца, Сына и… голосом, что спрашивает домашнее задание, будит детей, поет монархистские песни, те, которые единственно делают вечер для певца вполне удавшимся. Теперь этот голос был поставлен на службу воле народа. Он еще звучал в ушах у Васко, покуда тот ощипывал виноградную гроздь, надкусывал зубом ягоду, затем глотал ее. Они вчетвером сидели на стволе, коричневые полосатые носочки, исцарапанные руки и ноги, сгорбленные спины. Перед ними стояли корзины с ягодами, но они ели уже очень медленно, сперва обшаривая рот – не сыщется ли там какая-нибудь ниша для еще одной немытой ягоды… Губы и зубы гоняли каждую ягоду, пока та не лопнет и сок не закапает на матроску. Только с отцом ничего подобного не случалось, он молчал и ел, сосредоточенно, с отсутствующим видом, а взгляд его скользил вниз по склону, если глядеть с их ствола, виноградник походил на ковер, а тропинки между рядами лоз были как узор на ковре.
Стая людей в форме поднималась по склону, они рассыпались шеренгами и все вместе несли брезент. На фоне солнца казалось, будто между пилотками и рубашками у них есть только тень. Они продуманно двигались по склону, словно знали, что торопиться им незачем. Отец застыл на древесном стволе, сознавая свое поражение. Они подходили все ближе, молча, не представились, не обратили на него ни малейшего внимания, так и не продемонстрировали наличие лиц, они уверенными движениями закрепили брезент на колышках-подпорках и снова удалились. Но оставили тень. На брезенте – приказ об изъятии частной собственности, слепой экземпляр, как и подпись и печать. Оригинал уже, верно, вложили в папку и поместили в архив.
Отец хотел вытащить из корзины еще одну гроздь, но тут младший отвернулся, и его вырвало. Отец прижал мальчика к себе и протянул ему свой носовой платок.
– А теперь пошли.
Он взял младшего за руку и начал опрокидывать корзины, потом ему пришла в голову более удачная мысль, он начал топтать корзины, продуманно и целеустремленно, рвалась плетенка, трещал деревянный остов – звук, даровавший ему такое удовлетворение, будто он крушил чьи-то ребра. Потом они спустились с горы на дорогу, осторожно и неуверенно. Когда они пришли домой, их желудки взбунтовались, и на ужин никто даже глядеть не захотел.
АЛЕКС. Больница
Сегодня мне пришлось съездить в больницу, чтобы узнать результаты обследования, проведенного на прошлой неделе. Вот уже несколько месяцев я чувствую усталость плюс легкую головную боль, сил хватает лишь на то, чтобы нажимать кнопки на пульте дистанционного управления да вынимать пробки из бутылок. В больнице они поначалу растерялись, быстро пропустили меня через всевозможные обследования, посмотрим, посмотрим, может, они что и отыскали.
В прошлом году солнце задержалось дольше положенного, теперь с неба низвергаются снежные хлопья, словно им невтерпеж упасть мне на голову. В прошлом году еще было тепло, осень оборонялась изо всех сил. В этом году она явно сдалась до срока.
Я сел в автобус.
Через несколько остановок позади меня заговорил читатель газеты:
– Я бы с удовольствием сам все определял. Когда должна начаться надежда. Сегодня она внезапно заявляет о себе при двенадцати градусах. Когда ударит мороз, надежда тоже замерзнет, но между нулем и двенадцатью градусами есть некий зазор, а благодаря эмпирическому приближению этот зазор можно бы и еще сузить. Но где, скажите на милость, проходит точная граница? – Он постучал пальцем по своей газете. – Вот где ему следовало бы стоять, духовному прогнозу. С юга наступает область высокой надежды, в течение дня кратковременные северные чувства. Ночь – очередное понижение температуры до траурной. И не смейте улыбаться! – С этими словами он вышел прочь из автобуса.
– Мне просто-напросто нужна эта собака, – сообщил пожилой господин, сидевший на одноместном сиденье, покуда какая-то дворняжка, помахивая хвостом, слизывала типографскую краску с его пальцев.







