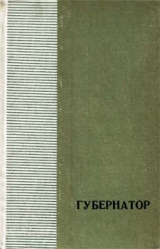
Текст книги "Губернатор"
Автор книги: Илья Сургучев
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Подошел Свирин.
– Поезд подан, – сказал он, – на первом пути. До отхода восемнадцать минут.
– Отлично! – похвалил губернатор.
Свирин помолчал, посмотрел на конторщика, который писал бланки, и опять начал просить, чтобы его взяли с собой. Губернатор отрицательно покачал головой и пошел.
– Я на свой счет поеду! – крикнул ему вслед Свирин.
Губернатор остановился и сказал:
– Не глупи! Не маленький!
Свирин съежился и покорно пошел. Соня сидела одна, утомленная, сонная.
– Вот почти шестьдесят лет живу на свете, – сказал губернатор, – а сегодня первый раз в жизни стригся в три часа ночи. Новости? А?
В зале было много новых, с южными поездами приехавших лиц: стучали, спешили, кричали на лакеев, а какой-то дьякон с церковнославянским акцентом говорил, что отбивные котлеты сделаны из прошлогоднего мяса. Вышли на платформу, прошли к своему поезду, осмотрели места.
Утро должно было наступить не скоро: часа через три с половиной. Где-то далеко ударило два звонка.
– Ну, поехали, значит, – сказал губернатор, – прощай, Свирин! Оставайся с богом! За домом смотри хорошенько! За Сонюшкиной комнатой. Ну, ну! Не ерунди, Свирин! А еще солдат! А еще Дунай переходил!
– Дунай, Дунай переходил! – сквозь слезы проговорил Свирин.
Поехали. Было занято два купе рядом. Было удивительно хорошо самому раздеться и лечь на холодную, постепенно согревающуюся простыню.
Потушили в коридоре огни. Как-то само собой, незаметно закрылись глаза, представился опять Свирин и соборная гора, пронесся на каких-то странных крыльях зеленый, очень густой сад, смеялась какая-то незнакомая гимназистка. А когда открылись глаза, то окно-было светлое: пришел рассвет. Часа через два, когда совсем уже ясно были видны снежные, безостановочно бегущие назад поля, постучала в дверь Соня. На большой станции принесли в купе кофе. Сливки на редкость были желтые и густые: таких не доставал даже Свирин.
XXXVII
Приехали в старинный город. Остановились в гостинице, в обед каждый день ели флотский борщ. Мебель в номерах стояла старая, в ящиках комода не было ни одного ключа; из окон виднелась длинная вывеска с выпуклыми буквами. Целый день вдвоем искали по городу квартиру, – небольшую: комнаты в четыре, – и нашли ее как раз на самом обрыве, с которого была видна широкая замерзшая река, а за ней – село с каменной помещичьей церковью посредине. Нужно было обставить квартиру: ходили по магазинам, покупали мебель.
– Вот бы когда нужен Свирин! – говаривал губернатор.
– Что? Уже надоело? – спрашивала Соня.
Домик был отдельный, с деревянными воротами. На воротах висел жестяной, сделанный черной краской, номер – 110.
Как за границей, так и здесь, радовало одно обстоятельство: совершенно не было знакомых лиц. Кланялись губернатору только те лавочники, у которых он покупал мебель и табак.
Наняли прислугу: горничную Феню, молоденькую девушку с говорком на «о». Кухни не заводили, обеды брали из офицерского клуба; приносил их постоянно один и тот же официант, называвший кушанья по-иностранному: консоме, салат «буланже», котлеты «демутон».
Комната Сони, как и дома, выходила в сад, который здесь спускался по оврагу. Комната губернатора была окнами на реку, и всегда, между двенадцатью и часом, в нее смотрело солнце. Губернатор часто думал, что замерзшая река похожа на длинный гроб с прозрачной крышкой.
Наезжал к ним доктор, полагавший, – что Соня – жена губернатора. Так и решили говорить всем: Соня – его жена. Решили: пусть посмеиваются и говорят, что дед замуж внучку взял. Доктор приказывал много гулять, и гуляли. Ходили по незнакомому, старинному городу. В нем было много церквей, построенных еще до Иоанна Грозного. Подолгу рассматривали старинную живопись; была она с виду неуклюжая, но милая: у всех святых были огромные, теплые, грустные глаза. По субботам, когда на колокольнях начинали в пять часов звонить, они ходили ко всенощной и слушали певчих, – особенно губернатору нравился канон. Он покупал много свечей, всегда рубля на два, поэтому свечной староста питал к нему большое уважение: здоровался за руку и приглашал становиться за ящик. Чтобы избежать толпы и давки, они пользовались этим приглашением, и там, за ящиком, губернатор походил на старинного купца.
В царский день, когда в главном соборе с позолоченными главами служил архиерей, губернатор пошел туда: его потянуло посмотреть местное начальство. Архиерей был такой же, как Герман: старый, важный, медленный в движениях. Когда запели «Приидите поклонимся…» и его повели в алтарь поклониться богу, стало ясно, что литургия написана большим поэтом. В середине службы пришел местный губернатор, человек еще не старый и, видимо, умный: около него не суетились, не шныряли городовые, у приставов не было испуганных лиц. Губернатор был одет в придворный мундир и сиял золотом.
Дома целый день топили печи, потому что Соню теперь часто знобило; приезжал доктор и говорил, что это – пустяки, обычное явление.
– До весны, – ободрял он, – до весны потерпите. Весною все кончится.
– Когда вскроется река? – спрашивал губернатор.
– Эге! Когда вскроется река, – отвечал доктор.
Удивительно красиво внизу, на реке, день переходил в густые синие сумерки: этот момент очень любил губернатор.
Выписали из Петербурга и Москвы газет и радовались, когда приходил почтальон. Ходили в городской театр. Чтобы не возиться с платьями, брали литерную ложу с занавесками. Соня обыкновенно садилась в глубине ее.
Труппа в театре была небольшая, человек 27; скоро узнали всех актеров, так что не нужно было смотреть в афишку. Один актер, Петин-Орловский, игравший благородных отцов, был очень хорош. Любовник очень смешил: он носил какие-то удивительные галстуки в виде бабочки, в сильных местах выходил из себя, тогда вместо «только» говорил «тольки».
В антракте губернатор уходил наверх, в буфет, курить. Как-то он забыл спички в шубе и попросил закурить у старичка, который стоял с ним рядом. Заговорили о пьесе, о Петине-Орловском, на прощанье раскланялись. Повстречались и в следующий раз, а дня через три старичок неожиданно явился к губернатору на дом и предложил купить билеты на благотворительный вечер. В это время пили чай, пригласили и его. Фамилия старичка была – Янышев. Янышев в первый же вечер рассказал, что он много лет был старшим нотариусом, недавно овдовел и теперь один, как перст. За чаем он много говорил о городе, о старообрядцах, которых живет в нем очень много, о купце Егорыкине, о том, что у них, на главной улице, есть смешная вывеска: «Оптик вдовы Хмыриной».
– Захаживайте! – сказал ему на прощанье губернатор.
На третий день губернатор пошел на вечер, – все было так же, как дома: такие же тенора-любители, такие же киоски и розовое шампанское. С Янышевым они выпили по бокалу, познакомились с продавщицей и заплатили по шести рублей.
XXXVIII
Медленно протекали зимние дни.
По обрыву был рассажен бульвар, и это напоминало дом, Свирина, прежнюю обстановку. Тропинка на бульваре была протоптана узенькая и, чтобы дать пройти встречному, приходилось залезать в сугроб.
Жизнь казалась удивительною.
Губернатор прислушивался, как хрустит снег, смотрел, как за рекой курятся дымы изб. Больше всего он любил небо, когда оно, как часть одежды божией, высыпало звездами. Было поразительно, что он до сих пор не замечал этого. Почему только перед смертью он взглянул туда? Почему только перед смертью он прислушался, как хрустит снег? Куда, на что ушла вся жизнь? Вспоминалась бесконечная вереница людей, которые пронеслись перед ним за долгие годы. Все это было далеко и не нужно. Нужным казалось одно: дожить до весны и посмотреть, как вскроется река; как затрещит лед, и вода, затомившаяся в гробу с прозрачной крышкой, оживет, начнет впитывать в себя тепло лучей, и это будет казаться весенним, земным крещением солнца.
По мере того, как приближалось время родов, все больше росла уверенность, что жить придется еще много. Нужно выходить ребенка, нужно дождаться его улыбки, его первых слов – это давало силы и ослабляло болезнь. Соня и ее ребенок казались ему тем чудом, которое даст воскресение и жизнь. И когда он верил в это чудо, тогда трудным становилось дышать: он уходил в свою комнату, запирался и, глядя на реку, тихонько плакал. Всегда он просыпался часа в четыре и слушал, как за рекой звонили к утрене. Казалось ему, что он понимал эти звучные, длинные речи, – как будто открылся новый слух. Тогда становилось понятным, как нужно человеку жить от 30 до 40 лет, там – до 45 и дальше. Вспоминались в это время рассказы Свирина о земле и казались такими же далекими, как сказки. Он чувствовал, как в ночной тишине, в этом домике, стоящем на обрыве, зреет, подобно зерну, новая жизнь. И было смешно, что Соня когда-то могла думать, что жизнь – слепое чудовище с протянутыми лапами. Хотелось ночью пробраться к ней и так, чтобы она не слышала, тихонько поцеловать ее в лоб.
Соня изменилась. Лицо ее носило следы усталости, на лбу появились коричневые налеты, потускнела красота.
Губернатор видел это и говорил:
– Всегда бывает так. Женщина в это время некрасива, но, родивши, расцветает с силой удивительной.
Прежде Соня мало, только по вечерам, говорила о ребенке; теперь же, когда привыкла, перестала молчать и рассказывала о приготовлениях, о шитье, о покупках. Свет лампы, прикрытой абажуром, сглаживал недостатки лица, и она, всю силу любви и страдания перенесшая в материнство, была обвеяна обаянием новым. И когда Соня говорила о ребенке, губернатору казалось, что перед ним раскрывается боговдохновенная книга.
В газетах он читал, что в его губернии творилось неладное: какой-то городской пристав обвиняется в разбое, – и было странно, что это его мало занимает. Губернатор вспоминал этого пристава: была у него красивая черная борода и на руках много колец с зелеными камнями.
Приходил Янышев: садились играть в шахматы; долго и тепло тянулся тогда вечер.
– Я этот дом хорошо знаю! – говорил Янышев. – В нем квартировал податной инспектор Рошко. Вид отсюда весной отличный: лед пойдет, пароходы побегут, рамы выставлять нужно будет. С горы все видно.
И опять было ясно, что самое серьезное после Сони, – это пароходы и река.
Вероятно, таким же оно представлялось и Янышеву, но он скрывает свои мысли и молчит.
– А потом все исчезнет. Все утихнет. Умрем мы, старики! – и Янышев добавлял: – Я написал на листе бумаги все дни недели и бросил на него горошинку. Вышел – вторник. Значит, умру во вторник. Нарисовал циферблат часов и тоже бросил горошинку. Вышла цифра четыре. Не знаю только: утра или вечера. И теперь в четыре утра просыпаюсь в страхе: жив ли? И до рассвета уж не сплю. Прямо беда, – нет сна! Слушаю, как звонят за рекой. Звон слушаю.
– Звон? – спросил губернатор.
– Ну да, звон, – ответил Янышев, – как за рекой звонят к заутрене.
Губернатор ничего не сказал ему, только улыбнулся; с этого вечера он почувствовал к старику большую симпатию и думал, как бы переманить его к себе на юг.
Однажды снег шел очень долго, подряд дней шесть. Навалило кругом сугробы до самых окон. Губернатор поехал на базар, купил там две лопаты. Лопаты были широкие, чистые, легкие. После обеда он принялся за работу, откидывать снег; это было удивительно легко и приятно, но забилось сердце, пришлось перестать. Когда за лопату взялся рабочий, губернатор стоял и завидовал.
– Не под силу? – спросила Соня.
– Не под силу! – ответил он.
– Какая я стала страшная! – говорила Соня, подходя к зеркалу.
– Все беременные женщины дурнеют, – повторял губернатор и улыбался.
Иногда губернатор говорил:
– Странно изменилась моя жизнь. То был губернатором, а то вот покупаю лопаты.
Случился с ним раз припадок; приезжал доктор. Было очень трудно; казалось, что вот-вот сейчас порвется внутри какая-то ленточка и тогда придет смерть. Соня долго и мучительно плакала, как-то странно сжималось ее лицо, напоминала она собой другую, очень знакомую женщину, но какую, – трудно было вспомнить. Когда ему стало лучше, то уже другими слезами блеснули ее глаза, она прижалась к нему и сказала:
– Как я боялась за тебя! Как я любила тебя!
Приходила акушерка – старая седая еврейка. У нее был мягкий, певучий голос, большие грустные глаза. Она сказала Соне:
– Ну-с, милая бариня! Скоро ми вас на золотое кресло посадим.
«Милая бариня», – это было смешно, и губернатор дня три называл ее так.
– А что мы с ребенком делать будем? – опять, все чаще и чаще, спрашивала Соня, и в глазах ее загорался, как пожар, испуг.
– Все устроится! – говорил губернатор: – что бог ни делает, все – к лучшему.
Губернатору очень хотелось, чтобы ребенок был похож не на Соню, а на отца: тогда будет видно, кого Соня любила.
XXXIX
Пришла весна; посинела река. Потом, словно по ней ударили большой тяжелой ногой, начала она трескаться и вздыматься кверху. Опять откуда-то, словно приманутые потеплевшим солнцем, появились белые нарядные облака и поплыли, нежась в воздухе.
Однажды в доме началась суетня. Появились сразу доктор и старая еврейка. Не было чего-то, не хватало, и еврейка бегала, выпятив живот, и сердито говорила;
– Ну, дом! Ну, порядки!
Раза два она торопливо куда-то ездила, привозила покупки. Доктор сидел в гостиной и читал какую-то измятую газету. Из ресторана принесли ему обед, и он брезгливо ел его, а когда пил водку, то долго, на свет, вытирал рюмку. Приходила к нему с запиской женщина и на дворе ждала ответа. Доктор, не развязывая салфетки, приоткрыл дверь и так же, как с акушеркой, сердито разговаривал:
– Ну, и мало ли что просят! – говорил он: – Ну, и не могу же я разорваться на сорок четыре части! Ну, и пусть себе поедут к Жарковичу. Все равно же он баклуши бьет.
У губернатора на сердце лежала большая забота: пришло время, и вот вскрывается река, и рожает Соня, и было в этом что-то общее и знаменательное. И, стоя у окна, он шептал:
– Отстрадай, милая! Отстрадай, отстрадай!..
Был у него в это время странный обман слуха: казалось ему, что все время звонят, – звонят радостно и призывно, как в первый светлый день.
Начались стоны, ужасные, звериные. Не было сил оставаться в комнатах. Губернатор вышел на улицу, дошел до трамвая, поехал и, когда кончилась станция, вышел около какого-то неизвестного монастыря. Пошел вдоль его высокой, старинной стены. Земля была мягкая, отпечатывала следы. Навстречу попался монах, уже старый, с седою головою. Губернатор невольно остановился, потому что глаза у монаха были насмешливые и, казалось, видели далеко. Остановился и монах долго стояли они и, испытывая, смотрели друг на друга.
– Чем же ты, почтенный, встревожен так? – насмешливо и ласково, и мягко спросил монах, и глаза его прищурились.
– Не хочу сказать тебе этого! – ответил губернатор.
– Не хочешь? – спросил монах, и глаза его еще больше прищурились, как будто смотрели они на яркий свет.
– Скоро вечер, – вместо ответа сказал губернатор.
– Скоро вечер, – повторил монах, – правда твоя.
Монах долго думал, странно шевелились его брови, и сказал он:
– А похож ты на купца, который только что сию минуту узнал, что он разорился. И из богатства впадает в бедность. Только это пустяки.
Губернатор молчал.
– Это пустяки, – говорил монах, вдруг положил ему руку на плечо и сказал – гавали́м гавали́м ге́ле гавали́м…
– Что это значит? – спросил губернатор. Монах ответил:
– Это по-еврейски. По-древнееврейски.
И звериные, стоявшие в ушах крики, и кондуктор трамвая, и далекие, чуть прищуренные глаза, и еврейские слова, – все это было в каком-то тумане, сизом и густом. Потом все прошло; наступил вечер, покрытый святым небом. Трамваи высекали из проволоки острые цветные искры. Губернатор шел по какому-то узенькому, выбитому тротуарчику и потихоньку сам себе говорил:
– Отстрадай в последний раз. И дана тебе будет радость – великая, нездешняя. Отстрадай!
Прохожие слышали человека, разговаривающего с самим собою, видели, что этот человек не пьян, и удивлялись. Проходил он мимо здания, окна которого были освещены. Наверху, у балкона, сходилось много проволок; губернатор вспомнил, что это телеграф, и обрадовался: нужно было зайти и телеграфировать Свирину.
Лампа на столе стояла справа, и поэтому, когда губернатор писал, то тень от пера падала так, что заслоняла буквы, и строчки выходили не по пунктиру, а по середине, между пунктиром. Он написал Свирину, что скоро с Соней приедут домой, чтобы все было приготовлено, чтобы вытерли от пыли Сомины книги.
И опять пошел по темным низеньким улицам и долго стоял около какой-то чайной, помещавшейся в подвале, откуда доносилось задумчивое пение: «Подруги милые». Когда почувствовалась усталость, зашел он в какой-то ресторан и спросил себе рыбной солянки, которую подавал ему официант в белой рубахе и со штопором на поясе. Опять вышел на улицу. Вечер переходил в весеннюю ночь. Оттуда, где была река, подувало короткими налетами холодка.
Пришел на бульвар. От лестницы, зигзагами спускающейся к пристаням, был виден его дом. В крайнем окне была почему-то не притворена одна ставня. Окно освещалось изнутри светом, прикрытым абажуром. Поэтому верхние стекла были темны, нижние – ярки и четко выделяли переплеты рамы.
– Что происходит там? – промелькнула мысль, и не было ответа.
В том месте тела, где жила болезнь, особенно начинало щемить, и так, что приходилось просовывать руку за пазуху и холодной ладонью прикасаться к левой части груди. Холодок шел через кости, через тело и давал успокоение. Было слышно, как неровно, скачками бьется сердце, словно испуганное. Губернатор долго смотрел на небо. Никого кругом не было. Сами собой родились медленные, задумчивые слова.
– Если бы там был ты! Я старый, больной упал бы перед тобой! Я бы ел эту мерзлую землю и просил бы тебя! Ты знал бы, о чем я просил тебя! Ты без слов это знал бы! И неужели же ты ударил бы тогда меня ногой своей? Где ты? Где лицо твое, скажи? Куда упасть мне? Зачем ты, если ты существуешь, отвратил лицо свое от меня? Зачем ты лишил меня духа святого своего?
И, словно в ответ, что-то острое, похожее на железные щипцы, схватило сердце губернатора. Захватило от боли дух, остановились глаза, вырос страх. Пока не было еще поздно, он упал на колени и, одной рукой схватившись за грудь, другой, делая какие-то останавливающие звуки, прохрипел:
– Этого не надо! Потерпи, подожди!
И наклонил голову, словно ожидал ответа.
Длинной серебряной дугой прокатилась по небу упавшая звезда. Светлое окно в доме погасло. Кто-то там взял лампу и быстро понес ее в глубину комнат.
Отошла понемногу боль. Поднялся губернатор, прислонился к какому-то столбу, вытер пот с лица. Прошла мимо молодая компания. Можно было расслышать слова:
– Такую лодку я вам за двадцать семь рублей доставлю! С письменным ручательством. Ей-богу! Убей меня цыган трубкой, а цыганка молотком.
Утихли шаги, смолкли голоса. И опять нельзя было сдержать слова:
– Она будет прекрасна, – говорил губернатор, – груди нальются молоком, глаза – материнской лаской. День и ночь она будет думать о ребенке, о новом рабе твоем. Разве тебе не угодна будет ее мольба о нем?.. Она все забудет. Она будет свята, как мать твоя. Тридцать три года была же мать у тебя! Любил же ты ее? Ведь любил? Разве теперь ты забыл ее волосы? Разве теперь ты не слышишь шелеста ее одежд? Ты же был человеком, так взгляни – же сюда, яви себя….
За рекой ударили в колокол. Губернатор пошел к дому. Шуба у него расстегнулась, часы выпали и болтались на цепочке. Прежде чем позвонить, он прислушался. Все было тихо. Дом походил на прочие дома. Нельзя было подумать, что в нем в болезни и скорби рождается человек. Оглянулся губернатор на реку, – там, как черная, одинокая утка, осторожно плыл маленький контрольный пароход. Губернатор позвонил, но никто не шел открыть ему двери.
– Ночь, – подумал он.
Пришлось, спустя долгое время, позвонить еще раз.
XL
Потом началась новая, необыкновенная жизнь.
В гробовой лавке на Еропкинской улице были гробы то очень дешевые, то очень дорогие. Дешевые не подходили: они были неструганные, колючие. Дорогие были нелепые, обиты золотом, осыпающейся мишурой, и руке было неприятно скользить по ней, Губернатор, покупая гроб, пробовал его рукой. В углу стоял большой дубовый гроб с выпуклыми боками, тяжелый и важный. Гробовщик сказал:
– Для генерала товар-с.
Не было прекрасного гроба, достойного Сони, и хотелось плакать от этого. Если заказать, – все равно не поймут и не сделают.
– Не поймете и не сделаете, – говорил губернатор. Гробовщик был в недоумении.
– Позвольте-с, – возражал он, разводя руками. – Вы сперва сказать извольте-с, в чем дело. А там мы, может быть, и поймем-с. И сделаем-с все, как следует быть-с.
– Нет, нет, – говорил губернатор и отмахивался от него рукою.
Был один гроб, голубоватый. Его купил губернатор и велел отвезти на квартиру. Сам он бывал дома мало: все ходил по улицам, светлым, просыхающим. Не хотелось смотреть на женщину, которая лежала под образами, у которой было черное лицо и огромный, вздувшийся живот. На квартире распоряжался Янышев; он оказался старичком очень дельным и хлопотливым. Он знал, в котором часу нужно служить панихиду, откуда достать для кадила углей, как зовут батюшку. Янышев ездил на кладбище, которое было где-то внизу, нанимал каменщиков делать склеп, и говорил, что каменщики попались замечательные, и что камень они поставят замечательный.
– Что же делать? – говорил Янышев. – Ничего поделать нельзя, – и добавил задумчиво: – в субботу скончалась, а?
Панихиды служили долго. Особенно хороши были панихиды вечерние, которые обыкновенно назначались в шесть часов, но начинались несколько позже, когда уже темнело. Приходил батюшка, уже не такой ясный, как днем, седой, с большими выцветшими бровями, и говорил губернатору:
– Не скорбите, господин.
Губернатор удивлялся.
– Я не скорблю, – отвечал он.
У Сони по-новому закрылся рот; плотно, властно.
После вечерней панихиды священники шли в столовую, долго пили чай, и Янышев разговаривал с ними о о городских делах. В столовой было светло, звенела чайная посуда; в ту комнату, где лежала Соня, были прикрыты все двери. Там горела только одна свеча на маленьком потускневшем ставнике, который принесли из церкви.
Хоронили Соню в понедельник. Сначала понесли ее в церковь, к обедне. Янышев нанял хор; пение вышло торжественное, и казалось, что какого-то человека венчают на царство. До кладбища пришлось идти долго. На солнце блестела спина священника, одетого в золотую полосатую парчу. День был весенний, тихий, прозрачный. Соню несли на руках, на полотенцах. Рядом с губернатором шел Янышев. Пришли к могиле. Тут стояли каменщики в серых рубахах и фартуках. Каменщики были те самые, про которых Янышев говорил, что они – замечательные. Посмотрел губернатор на Соню в последний раз и поцеловал ее крепко, зажмуривши глаза. Ему показалось, что кто-то крикнул тоненьким голосом. Он вздрогнул, мелькнула мысль: «А что, если жив неродившийся ребенок?»
И губернатор покосился на вздувшийся живот.
Закрыли Соню крышкой. Осторожно и точно прибили ее маленькими, блестящими гвоздиками и, скользя по черной, взрытой земле, опустили гроб в широко раскрытую яму. Священники первые бросили на Соню землю.
Поехали домой. Там принесли телеграмму от Свирина:
– Все исполнено. Ярнова привезли в тюрьму.
В соседней комнате Янышев вел расчет с рабочими.
XLI
Домой губернатор поехал во вторник на страстной неделе. Ехал он один, в маленьком купе; на каждой станции покупал газеты, но оставлял их неразвернутыми, или читал только вверху, об условиях подписки. Неслись навстречу, как и прежде, поля, и он подолгу смотрел то на них, то на маленький, с лестницей внизу столик, то на зеркало, вставленное в двери.
Иногда начинало болеть левое плечо: он выходил в коридорчик и через широкое, толстое стекло, заделанное внизу тремя ярко вычищенными медными прутьями, смотрел по другую сторону поезда. Где-то вблизи слышалась мерная, басистая речь:
– Когда я вояжировал по загранице, со мной случился конфликт…
И опять он уходил в свое купе, садился посередине дивана, нагибался, складывал меж колен руки и думал… Думал он о городе, в который скоро, через полутора суток, приедет; думал об улице, идущей вверх, о бульваре, о большом доме с четырьмя гипсовыми женщинами, поддерживающими балкон. Мысленно бродил он по этому городу, останавливался перед знакомыми домами, входил в них, в их гостиные, убранные с аляповатой провинциальной роскошью, садился в кресла и смотрел на хозяев, радостных и заранее учитывающих то обстоятельство, что к ним пришел губернатор. Потом мысль его перебрасывалась к угрюмому, тоскливому, длинному дому, который стоял на краю города, на площади, за губернским акцизным управлением. Дом был двухэтажный, но казался почему-то маленьким, приплюснутым к земле, и никогда нельзя было подумать, что в нем под красной, почти плоской крышей, за маленькими решетчатыми окнами живут люди. И опять приходила странная мысль, что за этими решетками сосредоточилось все зло, которое он сделал. Мысль эта теперь была еще выпуклее и ярче, потому что теперь в этом доме, рядом с людьми, одетыми во все серое, сидит Ярнов.
– Ярнов – плохой человек: его надо в тюрьму, – думал губернатор, – а я – хороший.
Он тихонько смеялся, когда вспоминал, что вот пройдет еще ночь, и Свирин будет держать на руках полотенце во время умыванья, снова будет давать ему зеленые порошки и насыпать в ванну длинные ржавые гвозди. Нельзя было представить себе, как вернется он в свой дом. Теперь ему казалось, что в нем холодно, как в леднике.
Когда свечерело и на станциях уже горели огни, тогда неожиданно пришли думы – радостные, как мечты. Думы эти были о том, что хорошо бы совершить какое-нибудь преступление, за которое жандармы, щелкающие на платформе шпорами, вдруг обозлились бы, схватили его, вытащили из купе и отправили бы в тюрьму; там он упросил бы, чтобы его посадили с Ярновым, дали бы ему вместо пиджака толстую старую куртку, кормили бы щами из прокисшей капусты, и никто не заикался бы о зеленоватых порошках. И потом по всем камерам и коридорам пронеслась бы весть, что вот и губернатора посадили в тюрьму.
Мысль о физическом страдании, которое даст новую жизнь, которое будет молитвой, дума о плохой комнате с асфальтовым сырым полом, о соломе вместо кровати, о черством хлебе не уходила от губернатора в была радостной; а когда он осматривался в своем маленьком бархатном купе, то оно казалось ему нудной, зудящей грязью, которую, как можно скорее, надо отмыть от своего тела. И еще тогда казалось, что поезд идет необыкновенно медленно, как на волах, и дороге – конца не будет.
Он рисовал себе картины, как придут его арестовывать: придет, вероятно, Клейн и не посмеет взглянуть в глаза; придет, может быть, прокурор, – заберут его, и полетят телеграммы в министерство, в газеты; вечером заговорят о нем в Москве, в Петербурге, а там расползется весть по России, дойдет до царя, – и все будут говорить о нем, о губернаторе, как о плохом человеке; потом будут его судить, сошлют в Сибирь, и там, где-нибудь по дороге, от какого-нибудь толчка придет смерть. Эти думы давали острую до слез радость, – и губернатор опять выходил в коридор.
Была уже ночь, но басистый человек все говорил; от тишины голос его казался похожим почему-то на штопор, который все время куда-то вворачивают.
– Ехал я по Австрии, – рассказывал он, – в троицын день. И, понимаете, у каждого начальника станции, как у нашего статского генерала по ведомству императрицы Марии, замшевые штаны, т. е. не замшевые, а белые, похожие на замшу. А около самой Вены встречаю человека. Сидит, понимаете, этот человек в вагоне, смотрит, как истукан, в одну точку и вдруг говорит этак, вздохнув: «О, господи боже мой!» Так по-русски и говорит. Вижу – соотечественник. Разговорились – эмигрант. И хочется, видимо, душу ему отвести, и побаивается он меня, и твердит только одно: «Ох, трудно быть русским, – говорит, – человеком. Трудно. Очень, – говорит, – трудно и мучительно!» Вот ты и поди… Приезжаю в Вену, а в Вене, понимаете, фонарные столбы перевиты цветами, и фонтан такой, что версты, кажется, на полторы вверх, понимаете, чешет.
«Что же сделать? – под монотонный голос рассказчика думал, стоя у окна, губернатор. – Что же сделать?» – И вдруг, когда подъезжали к маленькому подслеповатому полустанку, понял, понял – и так громко засмеялся, что голос в соседнем купе замолк, и какой-то человек, в дорожной ермолке, вылез оттуда и посмотрел сначала на губернатора, а потом в окно: что, мол, там на полустанке такого смешного? Ничего не разобрал, удивился и снова повел рассказ, немного потише обыкновенного.
Губернатор снова слушал и думал о том, что и этот человек, рассказывающий об Австрии, будет, может быть, слушать о нем и осуждать, и удивляться… Целую ночь, до утра, не мог уснуть губернатор и видел, как синело окно, чувствовал, как в купе, к свету, стало холоднее. Когда приехали на узловую станцию, он опять пошел на вокзал и побродил между столиками, посмотрел карточки в фотографической витрине, объявление о Гаграх; заглянул в парикмахерскую: знакомый парикмахер сидел у окна и озабоченно правил на ремне бритву. Так как был день, двенадцать с половиной часов, то все казалось иным, чем тогда.
Губернатор ходил и рассматривал людей, которым предстоит скоро удивиться. Купец давил в чаю лимон; буфетчик расставлял в шкафу папиросы; гимназист ел рыбу; какой-то человек в валенках спал, положив голову на чемодан. Губернатор посмотрел на валенки и вспомнил, что теперь уже весна: железнодорожные служащие ходили по платформе без пальто. Прошло несколько минут, – купец выпил чай, гимназист съел рыбу, буфетчик покончил с папиросами, человек в валенках спросонку потер себе нос. И было странно думать: скоро они удивятся.
– Удивятся! – сам себе сказал вслух губернатор.
Поезда для пересадки пришлось ждать часа два. И опять было маленькое купе, зеркало, вделанное в дверь, и лесенка под столом, и опять он сидел посередине дивана и радостно думал о близости города, о встрече со Свириным.
– А что скажет Свирин? – вспомнилось вдруг.
Народу в поезде почти не было, кондуктора не суетились и, когда губернатор долго не мог найти билетов, терпеливо ждали. Когда в прозрачном вечернем воздухе показались огни города, то так забилось сердце, что не хватило сил подняться к окну. Казалось, что над городом в разных направлениях повесили несколько рядов бус, и по тому, как четко и ясно определялись они, было ясно, что там весна, тепло, земля мягка, ей надоел снег. Остановился поезд, вбежал носильщик забирать вещи и сказал:








