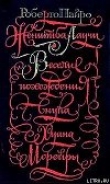Текст книги "Жить воспрещается"
Автор книги: Илья Каменкович
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Я промолчал. Но когда уводили с допроса, сказал ему: «Придет и твой час, сын паршивой суки!»
Пробыл я в карцере еще два дня. Вывели меня перед строем привязали к «козе» и дали двадцать пять плетей. Окатили водой – и опять в барак, на охапку прелой соломы.
Потом меня перевели в другой лагерь. Там пробовали уломать. Не вышло. Из лагеря под Ровно я бежал. Поймали – живого места не оставили. Отлежался я в «ревире»[37]37
Ревир – лагерный лазарет (нем.).
[Закрыть] и привезли меня сюда. Одним словом, совсем как Кероглу:
Взгляни, мой кровный брат,
Меня увозят тайно.
Паду я жертвой за народ
Меня увозят тайно.
Я – Кероглу, враги кругом.
Веревкой связан я, узлом
У Болу-бека стал рабом —
Меня у возят тайно…
Вот так, Сураханы-Балаханы… Кто этого Минкова встретит – пусть убьют гада. Но знайте: змею бьют не по хвосту, а по голове…
V
Над притихшим лагерем беззвездное небо, неспокойная ночь. В неосвещенной умывальной собрались подпольщики. Напряженно всматривается в темень за окном узник с буквой «П» на красном треугольнике-«винкеле». Кашляни только Стефан – и мигом в «вашрауме»[38]38
Вашраум – умывальная (нем.).
[Закрыть] никого не останется.
– Послушаем товарища Вилли, – вполголоса произносит спокойный басок.
– Прежде всего вот что, – говорит невидимый в темноте Вилли: – с последним «цугангом»[39]39
Цуганг – транспорт с узниками (нем.).
[Закрыть] прибыл опасный провокатор. В Ровенском лагере русские товарищи приговорили его, но он ускользнул. Из карантинного блока провокатора не перевели к русским, а поместили в чешский барак. Русским и чехам надо быть осторожнее в разговорах с новичками, пока шпика не обезвредим. Теперь подробнее. В транспорте 643 человека. Живыми прибыло 562. При выгрузке застрелили 12 товарищей. В ревир попало 37. Кроме «красных», в транспорте 11 «зеленых». Два товарища – со смертными приговорами имперского суда в Берлине. Их дела в канцелярии еще не вскрывали. Я кончил.
– Что скажет «безопасность»? – спрашивает тот же басок.
– О провокаторе мы уже кое-что знаем. Нашим товарищам сообщили его приметы. Будем стараться пристроить его в одну из рабочих команд, если удастся – в «штайнбрух».[40]40
Штайнбрух – каменоломня, каменный карьер (нем.).
[Закрыть] Там его удобнее всего «дезинфицировать». Через день-два будет видно – куда гестаповцы собираются направить свою ищейку. Об узнике номер 37771; это, безусловно, надежный и нужный товарищ. По документам Мамед Велиев – «опасный большевистский агитатор». Сорвал власовцам вербовку в «мусульманский легион». Пытался убить предателя. Бежал из лагеря. Выстоял пытки. Позавчера плюнул в лицо «зеленому» и едва не был убит эсманом. У парня хороший голос. Певец… Думаем мы: через Вальтера срочно определить его в ревир. Доктор Павел запишет его, как тяжело раненного выстрелом эсэсовца, и подготовит на всякий случай липовый акт вскрытия.
– Вас ист дас – липофый? – раздается другой голос.
Приглушенный смех, короткий ответ.
– Давай дальше.
– Мы встретимся с трудностями. Ганс в «шрайбштубе»[41]41
Шрайбштубе – лагерная канцелярия (нем.).
[Закрыть] должен переложить карточку номера 37771 из картотеки живых в картотеку мертвых. А картотека в комнате эсэсовца… Велиеву надо дать другой номер. Гансу придется запомнить все данные по новому номеру, их надо будет вдолбить бывшему 37771 – пусть знает, кто он, когда и где родился. Еще одна беда: номер 37771 ярко выраженный южанин-азербайджанец. Не знаю, удастся ли подобрать труп хоть немного похожий на него…
Минутная тишина. Затем – глуховатый голос. Узник говорит по-русски с сильным акцентом:
– Товарищ Николай не все учел. Номер 37771 имеет «флюгпункт». Забрать его из «капут-команды» под видом раненого при стычке с эсэсовцем опасно. Немцы, и прежде всего «зеленый», у которого была стычка с номером 37771, хватятся его. Спросят у «капутчиков». И если среди них найдется слабый, тогда все потянется по цепочке… Пропадут люди, которым мы так обязаны. Я верю, что 37771 – хороший и надежный товарищ. Но можем ли мы ради его спасения подвергать опасности наши связи и всю организацию?
– Ах, Иво! Разве можно в нашем деле взвесить все, как у тебя дома в аптеке: один грамм риска, два грамма риска…
– А что, если эсэсовцы захотят осмотреть труп, которым мы заменим товарища… М-мамеда? – продолжал Иво. – Тут уж «Осторожно – тиф» не сработает. И тогда пойдет…
– Так ничего не пойдет, – решительно возражает басок, – Все мы под топором ходим. Товарища надо спасти и включить в работу. Вынести его из крематория под видом раненого, в самом деле, нелегко. Да и поздно. Надо ему сделать ожог руки. Лицо трупа Павел подчернит уколом. Труп переодеть в робу номера 37771 с «флюгпунктом». Сразу же после обхода отнести его в крематорий и сжечь, а одежду оставить в ревире.
– Решено, товарищи! Молчим – значит согласны, верно? Тогда разойдемся.
Растворяются в темноте несколько фигур. Стефан протирает утомленные глаза и последним покидает «вашраум».
VI
Утро выдалось промозглое, туманное. Копоть из трубы крематория ложилась на снег. Трупный смрад стлался по лагерю.
В это утро Мамед Велиев чувствовал себя особенно усталым, разбитым. Ныла старая рана, тупой болью отдавался в ней каждый шаг. Кружилась голова.
При выходе из барака Мамед замешкался, и эсэсовец ударил его прикладом. Падая, Мамед ударился об угол доски, на которой вывешивались распоряжения лагерного начальства. Эсэсовец захохотал. Но тут чья-то рука подхватила Мамеда, и вскоре он стоял в строю «капут-команды», готовый принять очередную вахту.
В теплом помещении крематория силы оставили Мамеда. Товарищи решили дать ему хоть немного отлежаться. Он накрыли его кучей тряпья.
Разбудили его уже в полдень. Туман заметно рассеялся. Сон немного подкрепил Мамеда. Благодарно взглянув а товарищей, молча встал он к носилкам.
Когда они с напарником сложили у печей свой страшный груз, Мамед приметил среди «капутчиков» нового человека. Это был средних лет худощавый узник из «красных», судя по тому что на красном треугольнике нет инициала нации – немец. Тихонько, насвистывая, он что-то неспеша подвинчивал, опускался на колени, заглядывал под колосники. Раз или два он, щуря светлые глаза, испытующе взглянул на Мамеда.
Невольно Мамед засмотрелся на руки слесаря, покрытые желтым пушком. Это были умелые руки, привычные к инструменту. Мамед не видел ни черных полос на одежде слесаря, ни чугунных задвижек, за которыми ярилось пламя, а видел только работящие руки и слышал только звяканье инструмента о металл. Эго напоминало о настоящем, нужном труде, там, дома, на промысле…
Не сразу Мамед заметил, что слесарь знаками подзывает его к себе, давая понять: мол, засучи рукава и помоги.
– Ком, ком,[42]42
Подойди (нем.).
[Закрыть] товарищ, – сказал он, видя, что Мамед не двигается.
Они вдвоем принялись подтягивать крепление газовых труб. Потом перешли к одной из печей. Слесарь, видно считал, что толстый болт, на котором висела задвижка перекосился, и решил его выпрямить. Он что-то сказал Мамеду по-немецки и протянул небольшой ломик. Мамед догадался, что нужно придерживать задвижку снизу, чтобы немец смог выпрямить болт.
Слесарь ударил молотом по болту, а потом видно, промахнулся: удар пришелся по задвижке, которую Мамед придерживал ломиком. Мамед, потеряв равновесие, пошатнулся, слесарь хотел, видно, поддержать его, и тут рука Мамеда прикоснулась к раскаленной задвижке, Полоснула острая боль. Мамед вскрикнул и упал.
… В ревире было светлее, чем в других бараках. И даже тепло. Пахло гноем, карболкой, потом…
Мамеда разбудил врач. В настоящем халате, который казался здесь белым. Взгляд у врача приветливый, дружелюбный.
– Итак, молодой человек, у вас ожог левой руки. Требуется немного: терпение и молчание. Молчания даже больше, терпения… – Врач нагнулся к Мамеду и закончил шепотом: – Никаких жалоб немецкому врачу. Для него у вас все хорошо. А русский язык здесь знает еще один больной. Но ему, кажется, не до нас…
Врач незаметно сунул Мамеду в руку ломтик хлеба с кубиком маргарина и ушел.
* * *
А третьим, понимавшим по-русски, был не кто иной, как Даниил Минков. Приподнявшись на локте, Мамед Велиев увидел его забинтованную голову, его словно бы помятое лицо. Даже разглядел номер на его робе – 62102…
В рапорте оберштурмфюрера СС Вернера несчастный случай, который привел Минкова в ревир, выглядел обыденно.
Работая в первый день в каменоломне, заключенный № 62102 (он же агент «Цоппи») зазевался, глядя на гору Эттерсберг. В этот момент стоявший немного выше заключенный потерял равновесие, сорвался и не удержал руках тяжелый камень. Тот сбил с ног № 62102. При падении упомянутый номер получил тяжелые ушибы головы и грудной клетки и перелом правой руки. У виновника происшествия содрана кожа на локтях.
Гауптштурмфюрер СС Крамке, прочитав рапорт, вспомнил бабью физиономию «Цоппи». Агент, наверное, предчувствовал недоброе, когда униженно упрашивал не посылать его в каменоломни и заверял, что окажет немалые услуги, оставаясь в чешском блоке, где уже успел завоевать доверие. «Что, вы своих боитесь?» – спросил тогда Крамке. «Цоппи» не задумываясь ответил: «Как они мне здесь свои…».
На рапорте появилась резолюция, скрепленная росчерком Крамке. Узник, нарушивший безопасность работ, подлежал наказанию. Трое суток «сухого» карцера: паек хлеба в день и ни капли жидкости.
… Сознание вернулось к Минкову вместе с тревожной мыслью: его хотели убить, его чуть было не убили… Снова как тогда, в Ровенском лагере, ОНИ подбираются… И так муторно становилось ему, так страшно, что хотелось кричать, звать на помощь. Минков старался отогнать эту мысль. Успокаивал себя: «Никто в этом лагере меня не знает». Он с облегчением вздыхал, вытирал о грязное одеяло потную руку. Но снова наползали мрачные мысли…
Гауптштурмфюрер Крамке при последней их встрече был явно недоволен им, Минковым. Слушал рассеянно, так и не уважил его просьбу. В комнате эсэсовца тихо работал приемник. Вдруг немец весь обратился в слух. Жестом велел Минкову молчать. И хотя Минков почти не знал немецкого, он скорее почувствовал, чем понял: сводка с фронта плохая. «Ферфлюхте макарони!»[43]43
Проклятые макаронники! (нем.).
[Закрыть] – выругался гауптштурмфюрер, вызвал часового и велел увести узника…
Плохая для немцев сводка… Но он, Минков, не может порадоваться этому. Не может, как другие, сказать: «Дают наши фрицу прикурить»… Что же ожидает его, Даниила Владимировича Минкова?…
«Именем Союза Советских Социалистических Республик…» – слышатся ему слова приговора, и он впадает в тяжелое забытье.
… Открыв глаза, Минков тупо уставился на человека, лежавшего на соседней койке. Не он ли произнес эти слова – «Именем Союза Советских… – !? Или просто это померещилось ему, Минкову? Но где-то он видел, определенно видел этот острый с горбинкой нос, жесткие скулы, черные глаза и белки в красных прожилках…
– Что, Минков, не узнаешь коммуниста Чебаненко?
– Мамед Велиев, – вспомнил Минков.
– Да, тут и Мамед Велиев, и Степан Чебаненко. Тут и другие, которых ты продал фашистам.
– Я знаю, вы преследуете меня, – задыхаясь, заговорил Минков. – Слушай, я бы мог рассказать немцам, как вы подстроили, чтобы я стал калекой. Но я тебя не выдам… Слышишь? – захныкал он. – Я, может, дурно поступил, но пойми, я жить хотел… Ну, хочешь, я признаюсь немцам, что оговорил тебя. Скажи, кто здесь твой враг и я дам показания, что это он меня…
– Собака! – Мамед сел на койке, в упор глядя на Минкова яростными глазами.
– Ты ненавидишь меня, Велиев
– Ненавижу! И ненависть моя не только не спала, но за все это время даже не вздремнула.
– Герр доктор! – закричал Минков, увидев вошедшего в лазарет человека в халате. – Доктор, меня хотят убить… Здесь коммунисты! Помогите!..
К койке Минкова подошел человек в халате, и Мамед Велиев с изумлением узнал в нем военфельдшера Петра Никонова.
– У вас и нервы не в порядке, – сказал фельдшер Минкову – Я доложу доктору.
Делая вид, что не узнает Мамеда, Никонов сердито бросил ему:
– Ложитесь и молчите. Больному нужен покой.
Он вошел в соседнее помещение и вскоре вернулся. В руке был шприц. Лицо Никонова было непроницаемым и очень бледным…
Труп Минкова вынесли перед рассветом. Мамед Велиев еще спал.
VII
Одно обстоятельство в биографии Мамеда Велиева привлекало особое внимание руководителей подпольной организации лагеря: Мамед был радистом.
С невероятным трудом, рискуя жизнью, подпольщики из «внешней команды» работавшей на «А-верке», проносили в лагерь радиодетали. Но превратить ворох разноцветных проволочек, ламп и конденсаторов в радиоприемник никто не умел. А знать, что происходит за колючей проволокой, нужно было позарез.
– Наш товарищ 37771 горяч, – говорили в подпольном центре, – но его стойкость проверена. Будем оберегать его от встреч с эсэсовцами и «зелеными». Главная его задача – собрать приемник и принимать последние известия.
Рана Мамеда Велиева затянулась. Чтобы не подвергать его опасности осмотра немецкими врачами, Мамеда выписали из ревира.
– Будем считать, что вы практически здоровы, – объявил ему доктор Павел.
Петр Никонов принес Мамеду комплект лагерного обмундирования. Тот же красный винкель но под ним другой номер: 65463. И нет зловещих кругов на робе. Так Мамед Велиев стал македонцем с нехитрой крестьянской биографией и поступил в распоряжение капо[44]44
Капо – вспомогательный полицейский, надсмотрщик из узников (нем.).
[Закрыть] вещевого склада.
Вскоре его навестил Никонов. Фельдшеру и раньше доводилось бывать в вещевом складе. Здесь можно было подобрать для ревира обрывки бумажных одеял, лоскуты, пригодные для бинтов, клочки ваты.
Встреча друзей произошла в укромном уголке склада. Можно было, наконец, поговорить не таясь.
– Сколько можно спасать меня, брат? – спросил Мамед, растроганно обнимая Петра.
– Ровно столько, сколько в наших силах. Ты разве не делал бы для меня того же? – Времени у Никонова было мало, и он перешел к делу: – Вот что, Мамед, ты уже понимаешь, конечно, что тебе доверяют. Товарищи, которые «сосватали» тебя в ревир, поручают очень важное задание: надо собрать радиоприемник…
– Радиоприемник? Но для этого нужно…
– Детали мы подобрали. Я буду приносить их сюда. Только я, понятно? И запомни: требуется большая, очень большая осторожность…
И потекли дни, полные напряжения и опасностей, но желанные и даже по-своему светлые в этой темной темени. Хотелось подхлестывать время. Слишком уж томительно оно тянулось в ожидании Петра с новой партией деталей. Как только ни ухитрялся он приносить их! Однажды Петр пришел с распухшей щекой, перевязанной каким-то немыслимым шарфом. Мамед встревожено посмотрел на друга и увидел в его глазах озорные огоньки. Было чему радоваться: в повязке удалось пронести несколько деталей, а «опухоль» исчезла, как только Петр вынул из-за щеки небольшую радиолампу.
И вот настал счастливый день…
Лампы и конденсаторы, смонтированные на обрезке доски ожили. Шорохи эфира, тоненькое попискивание и вдруг – далекий и негромкий, но отчетливый голос диктора: «…а также железнодорожным узлом Купянск. Южнее Ростова-на-Дону наши войска, в результате стремительного наступления, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Кунцевская…».
Голос Родины! Наши наступают!
Петр порывисто обнял Мамеда, глаза его сияли.
– Это же наш Прометеев огонь, – взволнованно сказал он. – Отсюда его искры полетят в бараки, согреют сердца товарищей великой Надеждой!..
Он смущенно улыбнулся Мамеду:
– Прости, друг, за высокопарные слова. Это у меня бывает…
Мамед стиснул его руку:
– Ты хорошо сказал, Петр. Правильно сказал: огонь надежды…
Он огляделся. Штабеля полосатой одежды, одеял, рваного обмундирования… И, словно чудо, посреди всего этого – слабое свечение ламп радиоприемника.
Где-то рядом за стенкой склада кто-то возился с ведром и надоедливо, монотонно стучал.
– Мне пора уходить, – сказал Никонов. – Выключай наше чудо и спрячь как следует. Товарищ сигналит.
С тех пор так и пошло. Фельдшер почти каждый день, под разными предлогами, заходил на вещевой склад. Уходил он от Мамеда со свежей сводкой Совинформбюро.
Глухими ночами принимал их Мамед, а с утра снова брался за опостылевшую работу – перебирал, сортировал вонючее тряпье…
Записи, сделанные Мамедом, вместе с тряпичной рванью, попадали к Петру в ревир. Сюда для поддержания сил организация переправляла подпольщиков. Выписываясь из лазарета, они уносили в памяти «последние известия». Это было лучшее из лекарств, и фельдшер Никонов щедро наделял им своих боевых друзей.
– Эх, у тещи погостить бы сейчас. Она уже вроде как бы тыловичка скажет мимоходом такой «выздоровевший», подойдя в бараке к надежному товарищу.
– А где твоя теща дислоцируется?
– От Краснодара, браток, еще с полсуток ехать скорым… Вот так…
VIII
Мамеда Велиева в числе других подпольщиков отобрали для участия в митинге памяти Тельмана. Людей из разных бараков приводили по одному в дезинфекционную за час до начала.
Когда Мамед и Петр подошли к подвалу, из темноты вынырнул человек в полосатой робе, молча стал у них на пути. Петр что-то шепнул ему на ухо, и тот указал на выход.
В подвале дезинфекционного барака уже собрались сорок-пятьдесят человек. Молча садились на длинные скамейки. Присматривались.
Подвал скупо освещали две жестяные банки, в которых горел сухой спирт. Между этими светильниками, на стене, завешанной красной и черной материей, висел большой портрет Эрнста Тельмана в рамке, обвитой траурными лентами, Тельман смотрел с портрета твердо, непреклонно и казалось, испытующе.
«Даже цветы… даже цветы», взволнованно думал Мамед, глядя на скромный букетик возле портрета, и к горлу невольно подкатился комок…
Началось собрание. Негромко говорил седой немец, подчеркивая слова, энергичными жестами крепких рук. Потом к портрету Тельмана подошел узник со скрипкой. Полились звуки тихой печальной мелодии. Все встали по примеру седого немца с минуту молчали, подняв кулаки в рот-фронтовском приветствии. Еще говорил русский, читал стихи серб, выступал чех и еще один немец. Мамед, знал, что и ему поручено выступить. И когда Никонов толкнул его локтем, Мамед поднялся, слегка откашлялся и запел:
«Замучен тяжелой неволей»…
Он пел любимую песню Ильича, и здесь, в мрачном фашистском лагере, она особенно бередила душу. Узники слушали стоя. Кое-кто тихонько подпевал.
Когда Мамед кончил, он почувствовал крепкое пожатие руки Петра. Еще кто-то пожимал ему руки. Затем свет погас. Соблюдаля все предосторожности, разошлись. Участники необычного этого собрания уходили радостно взволнованные. Как будто и не было дня тяжелого каторжного труда и смертельной опасности…
А через две недели начались аресты.
Когда Мамеда Велиева привели в гестапо, следствие уже шло полным ходом.
Допросы. Пытки. Такое, что лучше не вспоминать. Пропал счет времени. Кошмары отравляли короткие минуты забытья, так же не похожего на сон, как эта проклятая яма – на человеческое жилье.
Единственное спасение здесь – стоять. Легко сказать стоять, если смертельно устал, если тело налито чугунной тяжестью и ноги отказываются держать… И все-таки надо стоять… Стоять, иначе упадешь на трубу, через которую проходит горячий пар. Вон уже сколько вздулось волдырей от ожогов. Жгучая боль сверлит мозг. Тело, давно не знающее мыла и воды, разъедает липкий пот, оно невыносимо зудит. Трудно дышать в горячем и влажном воздухе, пропитанном испарениями аммиака.
Сколько уже стоит он голым в «горячей» – Мамед не помнит. Далеким-далеким кажется ему октябрьский день, когда во время аппеля узнику 65463 приказали выйти из строя, потащили в «политабтайлунг».
Каким счастьем было бы сейчас очутиться на пронизывающем осеннем ветру…
Он упирается руками в скользкую шершавую стену. Только бы не свалиться. В этом проклятом каменном мешке нельзя лечь, не прикоснувшись к горячей трубе. Несколько раз в день в массивной двери открывается «глазок», и тогда Мамед видит серую льдинку зрачка и синеватую переносицу эсэсовца. И снова мрак. Еда – в консервной банке тепловатая бурда, ломтик эрзацхлеба. Пить не дают. Раз в сутки Мамеда голым ведут в уборную. Там он подставляет лодочкой ладони к вонючей, в ржавых подтеках раковине писсуара и, набрав немного воды, жадно пьет ее, проливает на себя, чтобы хоть на мгновенье ощутить прохладу…
И снова в пекло. Снова бесконечные сутки жажды, забытья, кошмаров…
IX
Гауптштурмфюрер СС Крамке читал протоколы допросов и убеждался, что следствие зашло в тупик. «Дело может обернуться отправкой на фронт»… При этой мысли Крамке покрывался испариной. За ровными строчками протоколов ему чудилась лисья физиономия Гиммлера. Леденящий взгляд «верного Генриха» из-под стекол пенсне пронизывал его – Отто Крамке. В Берлине уже знают о неслыханном происшествии – подпольном собрании заключенных, посвященном памяти Тельмана. Берлин ждет раскрытия коммунистических групп, примеры наказания виновных. А следствие не продвигается. Кроме этих бумаг и трупов трех арестованных, не выдержавших пыток, – ничего… Ничего, кроме донесения шпика.
Крамке вытянул из папки это донесение и в который раз прочитал его.
Ясно, что собрание готовилось в вещевом складе, туда вытащили цветную материю и полотно для портрета. Не обошлось без этих негодяев из огородной команды и, конечно же, из дезинфекционного барака. Сухой спирт! Его могли принести только из ревира. А вот портрет Тельмана… Как он мог попасть в лагерь?
Крамке вынул из бокала остроотточенный синий карандаш, чтобы записать кое-какие мысли, пришедшие в голову. Но написал Крамке только несколько слов: «сухой спирт», «ревир». Остальное показалось ему бесполезным, и он стал механически набрасывать на бумаге короткие рубленые молнии – эмблему СС.
«Легко им в Берлине требовать, а мне каково? Собираются. Под самым носом… Слушают доклады. Поют, красные свиньи… Поют, черт их возьми!»
Последние слова Крамке произнес вслух и, забывшись ударил кулаком по столу. Как из-под земли появился дежурный гестаповец. Он слышал выкрик начальника.
– Разрешите доложить, гауптштурмфюрер! Нам удалось уточнить. На тельмановском вечере русский похоронный марш запевал узник помер 65463. Он упорно выдает – себя за македонца.
– 65463?
Крамке несколько раз записал этот номер на листочке и стал складывать цифры, составляющие номер. Сначала у Крамке получилось число 25 – и это было плохим предзнаменованием. Когда же новый подсчет дал четную цифру 24 и проверка это подтвердила, Крамке повеселел. «Значит, на фронт не угонят. Все обойдется!».
– Надо выколотить из этого 65463 все, что он знает – сказал Крамке. – И даже то, чего он не знает. Что вы ему прописали?
– 47 минут он висел на столбе и уже шестой день в «горячей».
– Еще жив, надеюсь?
– Да. Только весь в волдырях. Не поет больше.
– А надо, чтобы он запел… запел для нас.
– Понятно. Прикажете перевести из «горячей»? Создать условия?
– Делайте, что угодно, только не ломайте дров, как с теми тремя, которых пришлось пустить в трубу… Да, вот еще что. Напишите в Берлин. Преподнесите им, как находку, сведения об этом запевале. Все-таки новое звено. И сообщите план обработки этого 65463.
– Яволь,[45]45
Так точно (нем.).
[Закрыть] гауптштурмфюрер! Хайль Гитлер! Крамке велел утром доставить к нему заключенного 65463.
– Посмотрим, что за «птица» подумал он и потянулся к дверце шкафчика, к дежурной бутылке коньяка.
X
В необычное время эсэсовец вывел Мамеда в коридор и велел одеваться. Одежда и деревянные колодки – «крейсера», заменявшие обувь, лежали на скамейке. «Значит, еще не расстрел, – мелькнуло в голове у Мамеда. – Расстреливают ведь голыми…»
Прикосновение одежды к волдырям было настоящей пыткой. Все тело горело. Одевшись, Мамед, подталкиваемый конвоиром, еле-еле доплелся до камеры в конце коридора. Снова за ним закрылась дверь.
Новая камера была просторной. Через густую решетку окна пробивался розовый свет занимавшейся зари. Мамед увидел откидную койку, столик и табуретку. Не было ни матраца, ни подушки, ни одеяла. Под потолком тускло горела лампочка в металлической сетке. Мамед долго ворочался на койке, пока, наконец, не нашел положения при котором тело болело меньше. Он провалился в тяжелый сон.
Разбудил его стук в дверь. Рука в полосатой роб просунула через окошко в двери миску с баландой, кусок хлеба и кружку бурды, которую называли «кавой». Баланда была лучше обычной, кусок хлеба почти вдвое больше а «кава» даже показалась сладковатой.
Возвратив миску и кружку и оставив половину хлеба про запас, Мамед снова лег. Спать, спать… Дать отдых голове, налитой свинцом, глазам, измученному телу…
Резкий металлический скрип двери. Мамед раскрыл воспаленные глаза. Эсэсовец жестом показал: выходи!
Вскоре Мамед стоял в приемной начальника «политабтайлунга» гауптштурмфюрера Крамке.
А Крамке всю ночь пьянствовал. Перед ним, прислоненные к бутылке и стакану, стояли фотокарточки молодой белокурой женщины.
Вчера вечером он едва успел сунуть карточки в ящик стола, когда в кабинет вошел инспектор из Берлина. Этот инспектор вполне мог знать Лину в лицо…
Слава богу, обошлось. А теперь Крамке, поставив перед собой карточки, разглядывал их. В одурманенном алкоголем мозгу клубились обрывки воспоминаний.
Как же это получилось, что Лина стала его любовницей? Лина цу Кенигсбрюк, потомственная аристократка, к которой он, сын и внук простого чиновника, лет десять назад не посмел бы и подойти.
Он вспоминал их нечастые встречи, вспоминал свою страсть.
Проклятые аристократы! Теперь-то ясно: просто им хотелось иметь «породистого» зятя…
Сжечь, сжечь эти фотографии… Узнай о них кто-нибудь даже из самых близких его друзей – и Крамке пришлось бы иметь дело с гестапо…
Проклятые аристократы… Именно они среди тех, кто изменил фюреру. Фельдмаршалы Витцлебен и Клюге… Генерал-полковник Бек, Хаммерштейн, Фалькенгаузен. Адмирал Канарис… Клаус Шенк фон Штауффенберг… Дворяне, потомственные военные – и продались англичанам… Неслыханно! «Лиса пустыни» – Роммель тоже, говорят, участвовал в заговоре, но выбрал себе почетную смерть…
«Да, сочетайся я с Линой цу Кенигсбрюк, мог бы здорово влипнуть! Шутка ли: гауптштурмфюрер Крамке женат на родственнице графа Маронья-Редвитц, замешанного в июльском заговоре и заслужившего «пеньковый галстук»…
Ну, что ж, он Крамке, выполнил свой долг. Да, ему пришлось доложить самому Гиммлеру свои подозрения о политических настроениях семьи цу Кенигсбрюк… Но кто бы мог подумать, что арестуют и Лину… Теперь она с матерью (старик предпочел застрелиться) уже в каком-то концлагере…
Крамке встал из-за стола, рывком расстегнул ворот. Так ей и надо. Лина слишком много знала. Она был начинена слухами, которые могли исходить только от английского радио…
Взять хотя бы, с каким злорадством рассказала она, выступлении Иодля на секретном совещании, где старый генерал, якобы, бросил зловещую фразу: «Из конца в конец по стране шествует призрак разложения».
Так ей и надо!
Он заставил себя думать о предстоящей поездке домой, к своей законной Лизелотте. Лизелотта… Она ничем не уступит этой аристократке – ни красотой, ни богатством… Так почему же, черт побери, ноет и ноет сердце?…
Крамке возвратился к столу. Взял фотокарточки, аккуратно положил одну на другую, резким движением разорвал их пополам. Бросил в печку. Залпом опрокинул стакан коньяка.
Расхаживая по кабинету, Крамке продолжал свои невеселые размышления.
Все меньше остается идейных соратников фюрера. Но он, Крамке, верен ему до гроба. Он обязан фюреру своим званием, высоким положением, властью. Верность фюреру – вот что сделало Отто Крамке хозяином судьбы десятков тысяч врагов рейха. Он без сожаления отиравит их в «Ночь и туман».
И все же беспокойство не покидало его. Вспоминая события последних месяцев, Крамке понимал; что-то ускользнуло из его рук… Красные и здесь продолжали делать свое дело…
Вот и сейчас ему предстоит заняться одним из этих фанатиков, к тому же еще русским.
Русские… Как Геббельс и Дитмар ни стараются, сводки с русского фронта выглядят, как припудренный мертвец. Русские подходят к Будапешту…
«Да, от них нам не ждать пощады, если случится несчастье, – подумал Крамке. – Пусть же каждый уничтоженный здесь русский будет моим вкладом в победу Германии! Бог не оставит Германию! Он вручит фюреру меч возмездия! Будет новое оружие! Будет победа!»
XI
Попав в приемную начальника «политабтайлунга», Мамед Велиев понял, что ему предстоит, быть может, последнее испытание. Остервенение, с каким его допрашивали, и вопросы следователей показали, что гестаповцы еще ничего не добились. Одно было ясно: о траурном вечере 18 сентября 1944 года они располагали достаточными сведениями, и, судя по всему, сообщил их человек, побывавший на собрании.
Пожилой гестаповец пошел доложить о прибытии заключенного. Вернувшись из кабинета, хмуро бросил: – Гауптштурмфюрер Крамке велел ждать. В приемной было натоплено. Лицо Мамеда покрылось капельками пота. Он хотел вытереть лицо рукавом, но не было сил даже поднять руку.
Крамке… Да, эту фамилию он знал. Он ее хорошо запомнил…
На первом же допросе его стали пытать. Руки скрутили за спиной. Два дюжих эсэсовца подтянули его за связанные руки, подвесили к столбу. Мамед пытался дотянуться носками до пола, но не смог. Эсэсовцы хорошо рассчитали: подвесили над самым полом, но так, что нельзя было дотянуться. Мамед повис на вывернутых руках. Почувствовав, что у него что-то разрывается в плечах, он не выдержал, застонал.
– Это тебе подарок от гаупштурмфюрера Крамке, – прокричал ему в лицо эсэсовец и приказал: – Смотри на часы и громко отсчитывай минуты!
Минутная стрелка еле тянулась по циферблату.
– Громче считай! – требовал эсэсовец. Время не хотело двигаться. У Мамеда поплыло перед глазами.
– Сорок семь, – прохрипел он, теряя сознание.
После этой пытки Мамед много дней не мог держать в руках даже пустую миску. Не утихала боль в плечах… Перевод в новую камеру и улучшение питания настораживали. «Это, конечно, неспроста. Что-то они затевают», – думал Мамед. Больше всего он опасался провокации. Эсэсовцы ведь могли дать знать остальным арестованным товарищам о том, что номеру 65463 улучшили режим, и тем самым навлечь на него подозрение в предательстве.
Размышления Мамеда были прерваны вызовом Крамке.
В кабинете гауптштурмфюрера пахло устоявшимися запахами коньяка и сигар. Настольная лампа под зеленым абажуром мягко освещала комнату, отбрасывая круглое светлое пятно на широкий письменный стол, где лежали стопка бумаги, толстая папка и несколько карандашей. На стене за столом висел портрет Гитлера во весь рост, в кожаном пальто. Световой круг захватывал сапоги фюрера, и они ярко блестели.
Крамке показал Мамеду на стул, включил верхний свет и сел за небольшой столик, на котором стояла замысловатая пепельница. Позади него встал переводчик.
– Ты знаешь, где находишься?
– Да. Из гестапо меня уже уносили без сознания.
– Знаешь, с кем разговариваешь?
– Да. Наверное, с тем, кто приказал избивать меня.
– Я хочу поговорить с тобой, прежде чем решить твою судьбу. Советую быть откровенным!