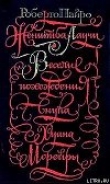Текст книги "Жить воспрещается"
Автор книги: Илья Каменкович
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
IV
…Рапортфюрер передал Штумпе то, чего ожидал от него комендант лагеря. «Смеющаяся смерть» получил «в наказание» стакан шнапса, полагавшегося только участникам массовых расстрелов. Выпив, он был готов к делу… (Какой только смысл не вкладывается иногда в такое доброе слово «дело»!)
Уже с утра Штумпе вертелся возле подростков. Подгоняя «лошадок», он изощрялся в ругани. А когда на площадку, возле которой дробили камни, высыпали тачку опилок, он остановил каток и стал отбирать самых слабых и измученных мальчиков.
Предчувствие большой беды охватило всех, кто был на плацу. Скрежет бетономешалки и цокот молотков сменились стеклянной тишиной, готовой вот-вот лопнуть. Подошло отделение эсэсовцев и всем велели сдать инструмент. Молотки полетели в кучу, то глухо ударяясь ручкой, то издавая металлический звук.
Что еще будет?
«Смеющаяся смерть» выхватил из кучи молотков один и, будто взвешивая его, подбросил в воздух. Оглянувшись, он увидел: на крыльцо комендатуры вышел гауптштурмфюрер Готлиб. Штумпе улыбнулся и подошел к шеренге мальчиков. Они едва стояли на ногах, шатались от усталости. Схватив за ворот одного из шеренги, «Смеющаяся смерть» усадил его на землю и сапогами зажал худенькое тело так, что запрокинутая голова мальчика оказалась между колен эсэсовца.
Прежде чем кто-либо успел опомниться, Штумпе с силой ударил мальчика молотком в переносицу. Высоко подняв молоток, захохотал, потом оборвав смех, выволок из шеренги еще одного мальчика…
На плацу уже лежало несколько трупов. Один из мальчиков еще был жив. Пальцы его судорожно сгребали побуревшие от крови опилки…
«Смеющаяся смерть» вытягивал новую жертву. С белым, будто залитым мелом, лицом делал последние шаги по земле маленький смертник и, только чувствуя приближение молотка, закрывал глаза…
Один из мальчиков попросил расстрелять его. Хохотом ответил «Смеющаяся смерть» и тут же обрушил на голову мальчика молоток.
Другой из обреченных пошел навстречу убийце. Горящий взгляд мальчика отрезвил эсэсовца. От неожиданности он сделал шаг назад. А мальчик вскинул голову и, чуть заикаясь, произнес: «Я не боюсь тебя, фашист! Мы и Кронштадта! Мы…»
Падал мальчик прямо на Штумпе, и тот снова подался назад.
Над плацем поднялся ропот. Эсэсовцы взяли автоматы наизготовку.
Последний из дюжины смертников негромко выкрикнул что-то по-польски. Внятно прозвучало слово «Кронштадт».
Покончив с ним, Штумпе вытер рукавом пот со лба, бросил молоток и дал волю своему сатанинскому смеху…
Вдруг он оборвал его, и тогда все услышали слабый голос мальчика, который стоял возле катка. Не отрывая глаз от мертвых товарищей он сказал:
– Им теперь хорошо! Ведь они больше не будут жить!
* * *
Этот рассказ впервые был опубликован в марте 1968 года. Год спустя, в № 2 (99) Информационного бюллетеня Международного Освенцимского комитета (февраль 1969 г., Варшава), появилось сообщение о том, что в результате кампании Союза лиц, преследовавшихся при нацизме (ФФН), в конце 1968 года арестован… «один из самых жестоких палачей Треблинки, известный тем, что ударами молотка убил 15 детей в возрасте от 8 до 13 лет, поскольку работа им была не но силам».
У этого изверга, сменившего фамилию и проживавшего в Верхней Саксонии (ФРГ), «двое маленьких детей и… в своем поселке он считался образцовым гражданином».
Наказан ли этот палач Боннской Фемидой, до сих пор – неизвестно.
РЕПОРТАЖ У КРАЯ МОГИЛЫ
Умирая – не лгут
Прошу записать то, что я расскажу. Не ищите для меня слов утешения. Арон Горовец хорошо знает приметы смерти. Не подумайте, что это просто. Своя смерть никогда не станет привычной, Я встречал ее со страхом – боялся, как все это перенесу… Ведь даже в последнюю минуту продолжаешь жить заботой о себе.
Я никак не могу начать то, ради чего попросил вас к своей койке. Не удивляйтесь. Я недаром Горовец-труженик. В нашем роду все делалось основательно.
Так слушайте же и, ради бога, записывайте… Из гетто нас привели к широкой свежевырытой канаве и сказали раздеваться. С какой-то яростью я срывал с себя одежду. Скажите, куда торопился? Трясло как в лихорадке. Еще тяготили руки – непомерно длинные, с черными дужками под ногтями, они стали ненужными, лишними… Сначала я прикрывал ими стыд. Но рядом были такие же нагие люди, и я опустил руки. Ни карманов, ни пуговиц, ничего нет, к чему в другое время так и тянутся пальцы. Глаза остановились на немытом теле в разводах грязи. Как будто это что-нибудь значило. Не хотелось видеть того, что творилось рядом. Теплилась надежда? Может быть…
Но когда я осторожно, будто в холодную реку, стал опускаться в канаву, и мои ступни ощутили вздрагивание теплых тел, распластанных на дне, я понял – это конец. Я представил себе, как это будет. У меня тоже, наверно вырвется глухой стон. Потянет куда-то в сторону. Обмякший, я свалюсь на другие трупы. Вдохну пропитанный застывшим ужасом и пороховой гарью воздух. Вытянусь и уже не почувствую, как нас будут зарывать и земля будет шептать мне что-то свое, земное…
Мы были в последней партии. Нас не уложили на трупы, а поставили к стенке канавы, и ее шероховатый срез притянул мои плечи, как магнит. Я уже слышал лязг заряжаемых винтовок. Спину царапало что-то острое. «Наверное, обрубленный корень», – подумал я. Странно, что я еще мог об этом думать.
Мысли стали наплывать одна на другую. Они возвращали меня в лагерь (он был совсем близко, за лесом), затем переносили в далекое детство. Как щепку в бушующем море, швыряли они меня к пронизанному туманной изморозью утру, когда транспорт уперся в ворота лагеря. И все это в страшной гонке то приближалось и вырастало как в сильном бинокле, то становилось едва различимым…
Ржавым облаком поплыла на меня всклокоченная огненно-рыжая борода отца и закрыла полнеба. Еще увидел заплывший кровью отцовский глаз такой напряженный что казался камнем в туго натянутой рогатке. Эсэсовец оторвал отца от рук матери и увел из колонны.
Почему – не могу объяснить, но я увидел затянутый зеленой ряской пруд и еще… миску с дымящимся борщом. Отсвечивая зелено-желтым лаком узоров, деревянные ложки облепили миску…
И все это – в последний миг перед расстрелом…
Впрочем, может быть, многое только сейчас пришло мне в голову, но ведь и сейчас я умираю… Я знаю это, товарищ военврач…
А тогда – я хорошо помню, как тогда вошла в меня пуля. Толчок, короткий ожог, острая боль – а потом стало легко. Упав, я раскинул руки, и еще почувствовал удар по пальцам.
Очнулся я под шмелиное жужжание польской речи. Из могилы вытянули меня полуживого…
* * *
Так началась моя Одиссея. Кончилась она тем, что с еще незалеченными ранами я был схвачен при облаве и попал в концлагерь. Но теперь на моих зубах навязла оскомина смерти, и жизнь приобрела другой вкус. Стал я присматриваться к людям. (Может быть, здесь стоит сказать, что в семье Горовцев только я стал интеллигентом и даже выписывал газету, а чтобы пользоваться библиотекой помещицы Валюнайтине, раз в неделю занимался с ее сыном). Но вернемся к людям.
Жизнь в этой бойне, постоянном голоде, грязи, соседстве со смертью наложила на многих свою мертвящую печать. Огрубели они. Кое-кто заморил в себе совесть и стал привыкать к подлости. Я потянулся к тем, кто еще сохранял какое-то мужество…
Я знал немецкий и совсем неплохо русский. Это помогло связаться с хорошими людьми, которых сами же фашисты выделили красными треугольниками – «винкелями». Главное – удавалось через них получать кое-какие продукты и новости. Каждый успех наших на фронте не только прибавлял сил, но и приближал к нам тех, кто уже уставал верить.
(Вот я сказал: успех наших. Вы только поймите, что значило для меня, для многих, многих других с полным правом причислять себя к советскому народу, к тем, кто громил фашистов… Это же лучшее лекарство…)
Несмотря на каторжный труд, люди, как только оставались без надзора эсэсовцев, менялись на глазах. Появился интерес к моим «лекциям». Вначале я читал на память Мицкевича, Гейне, Пушкина, Гёте. Потом перешел к истории. В бараке – густая темнота. Я рассказываю. Тишина. Товарищи будто спят… Конечно, «лекции» были короткие. Слишком дорог был для нас сон…
Но главное – дети… Никак не решусь о них…
Детей мы увидели, когда попали на строительство. Там работала большая группа ребятишек, подростков – они кололи щебень. Несколько раз в день я тащился к ним со своей тачкой, чтобы забрать щебенку. Страшно было смотреть на них, на их худенькие, как ивовые прутики, руки. Как только удерживали они тяжелые молотки…
И вот сейчас я, Арон Горовец, хочу засвидетельствовать вам, товарищ военврач, всем советским народам, всему миру, что расскажу то, что видели мои глаза, слышали мои уши и что должны знать все, у кого в груди бьется человеческое сердце.
Однажды, прошлой осенью мы, команда строителей, видели как унтершарфюрер Франц Прейфи, Гаген и изверг Штумпе – по кличке «Цак-цак» или «Смеющаяся смерть» – отбирали из рабочей команды подростков уже не способных работать и убивали их ударом молотка по черепу. Нас окружали эсэсовцы с собаками, Мы приросли к земле. Некоторые мальчики плакали. Двое или трое успели что-то выкрикнуть. Остальные стояли, оцепенев, и молча ждали смерти.
Товарищ военврач! Я сам это видел!..
Вы спросите, что было дальше? Если мы еще продолжали жить, то только для того, чтобы рассчитаться с палачами. Стали собирать все, чем можно было бить, порезать… Все это, конечно, тщательно прятали…, Договорились о дне и часе, когда нападем на охрану.
Уже слышна была артиллерийская канонада где-то в районе Косува. И вот однажды от своих людей в лагерной канцелярии мы узнали, что готовится расправа над остальными мальчиками из рабочей команды. В то время совместная наша работа на строительстве прекратилась, но все-таки нам удалось передать детям записку. Я написал ее на литовском, еврейском и русском языках: «Дети! Вам грозит большая беда! Сохраните в себе силы встретить ее как советские люди! Будьте стойкими!»
Вечером мальчиков повели в дальний угол лагеря. Один из узников повез вслед им тачку с лопатами. До поздней ночи они там копали, потом их погнали обратно.
Утром мальчиков не вывели на работу, Мы прислушались тому, что делалось в их бараке. И, знаете, там пели. Да, пели!
Мы не были еще готовы к выступлению. Но тут – решили выступить. Отчаянный и безнадежный шаг, это ясно… Однако мы не успели его сделать: эсэсовцы заперли бараки и поставили у дверей пулеметы.
Что-то происходило в лагере. Товарищи подняли меня к окну, и я увидел мальчиков. Они шли по пяти в шеренге. Шесть шеренг. В первой шел Миша, вожак команды. Когда мальчики подошли к зоне бараков, по сигналу Миши они запели песню о Москве, а потом песню о Родине из фильма, который мы увидели в первые же дни, как Вильнюс стал советским.
Песня удалялась, удалялась, стало тихо – и вдруг грянул «Интернационал». Ох, как они пели! И тут раздался залп. Еще и еще и снова – тишина…
Вскоре мимо нашего барака протопал взвод эсэсовцев. Потом провезли тачку с лопатами…
Клянусь, это было!..
Назавтра я не выдержал и спросил «капо»: «Ну, а детей, детей за что?» «Зеленый»[9]9
«Зелёный» – узник из уголовников. Им нашивали на робу зелёный «винкель».
[Закрыть] меня, конечно, выдал. И пошел я по новому кругу гестаповского ада.
Теперь запишите слова великого немца Гёте: «Судьба однажды накажет германский народ. Накажет его потому, что он предал самого себя и не хотел оставаться тем, что он есть. Грустно, что он не знает прелести истины; отвратительно, что ему так дороги туман, дым и отвратительная неумеренность; достойно сожаления, что он искренне подчиняется любому безумному негодяю, который обращается к его самым низменным инстинктам, который поощряет его пороки и поучает его понимать национализм, как разобщение и жестокость».
Это я припомнил гестаповцу на допросе. За это я и был поставлен к стенке…
ЖИТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ
Детство – это царство, где никто не умирает.
Э. В. Миллэй
В. Г. Недосековой, познавшей ад Майданека
Вот-вот должно было показаться солнце и послать на землю свет и тепло. Этого тепла ждали дрожавшие от холода дети, выстроенные на асфальтовой площадке. С нетерпением ждали они мгновенья, когда солнце выглянет, все вокруг встрепенется, оживет, посветлеет. Поэтому невнимательно слушали они то, что говорила им пани Аделя.
С трудом построенная колонна сбилась. Дети прижимались друг к другу, одалживая и отдавая тепло…
Пани Аделя выглядела девочкой, немногим взрослее самой старшей в колонне. Одежда с вертикальными черно-серыми полосами делала ее высокой и тонкой, а коротко остриженная голова – похожей на мальчика. Под шестью черными цифрами на полосатой куртке – красный язычок треугольника с черной буквой «П» (Р).
Все лицо пани Адели занимали глаза. Широко открытые, они лучились лаской и любопытством. Розовели скулы, обтянутые тонкой, бледной кожей. На шее голубели жилы, вздрагивавшие от толчков крови. Как только небо, наконец очистилось и стало теплее, строй восстановился. В каждой шеренге – пятерка. Всего, значит 90. Девяносто детей, прибывших «транспортом» с Востока. Им Аделина должна раскрыть «букварь» порядка, к которому следует привыкать. И уже в который раз она ловила себя на том, что втолковывая лагерные правила, не могла произнести заготовленную для заключения фразу: «Вот так, дети, вы должны будете жить»… Все существо девушки, добровольной наставницы этих детей, восставало против кощунства назвать жизнью то, что ожидало маленьких, пронумерованных «гефтлингов»…
Русским Аделина владела. Но как овладеть вниманием детей, которым все здесь было непонятным, загадочным и уже только поэтому – страшным. Впрочем, многое им стало понятным сразу…
…Ряды длинных одноэтажных домов, каких дети еще не видели, носили странное название «бараки». На бетонных столбах, – напоминавших неуклюжих толстяков, вытянувших в любопытстве короткие шеи, – в несколько рядов натянута колючая проволока. Через ровные промежутки, вдоль «колючки», столбы с табличками: на черном квадрате белой краской намалеван череп со скрещенными костями и два обрубка молнии. От этой таблички трудно отвести глаза, и даже без немецкой надписи ясно: Смерть… Здесь проходит граница жизни…
Тем, кто стоит в первых шеренгах и повыше ростом, открывался угол за бараками с приземистой деревянной вышкой. К ней приставлена кажется совсем домашняя лесенка. Но прямо на колонну уставилось окно вышки, а в нем – пулемет. Ребята поняли без слов: и это – Смерть…,
Порывом ветра донесло сладковатый, тревожащий запах, и мальчик постарше коротко, по-взрослому, шепнул стоявшей рядом девочке: «Это – бойня»…
Еще вчера у девочки были две красивых косички, а у него – ярко рыжие волосы, спадавшие на плечи (Аделине он сразу запомнился, и она мысленно прозвала его «Спокойное пламя»).
С того дня, как «товарняк» привез их сюда, детей поминутно ошеломляли взрослые. Из вагонов их выгнали резкие, как свист бича, команды вооруженных немцев. На черного цвета петлицах мундира у каждого серебрилось по два обрубка молнии, совсем таких, как на табличке перед колючей изгородью. Очищая вагон, они с нелепым смехом топтали все, даже игрушки. И плач маленьких хозяев утонул в хохоте эсэсовцев, довольных проделкой «камарадов»…
Потом было расставание с родителями. Тех, кто цеплялся за матерей, били по рукам, со злобной бранью отрывали… Гнали прикладами. На перроне стоял крик и плач. Одни матери что-то тихо и успокаивающе шептали детям. Другие плакали, вздымая руки к небу. Плакали беззвучно или с рвавшимися из груди стонами и воплями. Перекрытый автоматной очередью, шум оборвался. Стало тихо. Из тишины этой стучало в сознание: здесь везде – Смерть…
… Детей пригнали в баню. Голых облили вонючей желто-зеленой жидкостью, а мыла не было. Не было и горячей воды. Одежды своей тоже не было.
Тупой машинкой их стригли. Мягко падали к ногам «парикмахера» черные, червонного золота, соломенно-желтые комки волос. Смешно обнажались бугристые головы с оттопыренными ушами. Посиневшим от холодного душа детям выдали полосатые куртки и брюки. На одних эти «костюмы» висели, как на жердочке, другим были коротки и тесны…
Одетый в такое же полосатое, с номером на робе, парикмахер не спеша двигал усталой рукой машинку и про себя бормотал что-то непонятное и все равно пугающее. В углах его глаз, лихорадочно блестевших, застыли сухие слезы… Давая рукам отдых, парикмахер печально оглядывал детей, шептавшихся друг с другом и с мольбой в глазах, прикрыв костлявой рукой беззубый рот, показывал: нужно молчать! «Спокойному пламени» парикмахер на ломанном русском языке сказал: «Твое счастье, что ты попал в эту баню. Из другой ты бы не вышел: там капут…»
После бани повели в бараки и показали нары. Усадили за длинный стол. На еду, что им дали, мог бы польститься только давно голодавший. Но в «транспорте» дети уже успели познакомиться с голодным урчанием в животе. Поэтому даже мерзкий запах того, что называлось «зуппе», не отбил охоты отведать это варево.
Пощечинами и пинками пожилая немка с черным треугольником под лагерным номером наводила порядок. Двух мальчиков она заставила вылизать со стола оставленные ими крошки…
Казавшийся нескончаемым день закончился поверкой и командой «спать».
– В бараке должна стоять тишина! – выкрикнула немка и выключила свет.
Тихо было только в те несколько часов, пока сон безраздельно владел обессиленными ребячьими телами. Затем видения пережитого и того, что представало в измученном кошмарной явью воображении, взорвало мерное посапывание. Кто-то плакал. Кто-то кричал во сне. Из разных углов барака доносилось разноголосое: «Мама мочка!..» Ворвалась разъяренная немка. Резкий крик и вспыхнувший свет мигом воцарили тишину. Мертвую тишину…
…То было вчера. Сейчас дети слушали пани Аделю, польку Аделину,
– Вы уже знаете, – негромко, внятно и неторопливо говорила пани Аделя, – как меня зовут. Я взялась быть вашей наставницей. Вы уже большие и знайте, что здесь будет очень трудно. Воспрещается плакать. Все надо делать быстро: умываться, одеваться, строиться. Каждый на свое место возле соседа. Хлеб не съедайте сразу. Половину оставляйте. Второй раз зуппе дадут только вечером.
– Можно я скажу, пани Аделя? – раздался голос «Спокойного пламени». – В гетто я так и делал. Как захочу сильно кушать, вынимаю спрятанный кусочек, подержу его во рту и кажется, что покушал. Потом снова спрячу. – В гетто никто хлеб не воровал…
– Здесь воспрещается петь и громко смеяться. Выходить из барака без строя – воспрещается. Писать, даже если карандаш попадется, – воспрещается.
– А в гетто я рисовал… (Это снова «Спокойное пламя).
– А здесь воспрещается. Ляжешь на нары, закрой глаза и рисуй себе, что хочешь.
– А маму и папу мы увидим? (Это совсем еще малыш. В глазенках искры тревоги и страха).
– Нет. Свидания воспрещаются. Еще вот что: старшие помогают маленьким. Каждое утро поищите один у другого в голове. У кого найдут вошь – того отправят в баню…
– В ту, где капут? (Это опять «Спокойное пламя»).
– Да, отправят туда… И еще запомните: можно забыть все на свете, только не свой номер. Вот ты, девочка, повтори свой номер: «Зибцен цвай унд фирциг». И как только назовут его – громко откликнись. Хорошо выучи и запомни. Их ведь всего четыре маленьких цифры – 1742. Такой коротенький номер!
– А мы будем жить? – (Это из дальней шеренги).
– Жить воспрещается! – с тихим, тут же замершим смехом ответил товарищу «Спокойное пламя» и снова серьезно повторил: жить воспрещается!
– Нет, дети! Я с вами! Будем жить!
г. Баку, декабрь, 1973 г.
СТИХИ ДЕТЕЙ ТЕРЕЗИНСКОГО ГЕТТО (1942–1944 гг.)
(Подстрочный перевод с чешского)
Садик
Маленький садик
наполнен запахом роз.
Узенькой тропкой
по садику мальчик идет.
Мальчик маленький, беспечный,
на один из бутонов похож.
Но когда бутон расцветет,
мальчика в живых не будет…
Франта Басс
Хлеб
Как люблю я белый хлеб
Большой вкусный белый хлеб.
Не черствый, еще теплый
с хрустящей коркой
вкусный хлеб.
Зубы мои сминают его,
язык ощущает вкус его.
Как успокаивает,
вечно голодный, жадный
мой желудок-хлеб.
Геня и Ила Крамеровы
* * *
Все прийдет в конце недели,
станет все тогда ненужным,
только голодный голубь будет клевать зерна,
а среди улицы будет стоять
ненужный и пустой
погребальный воз.
Из стихотворения «Закрытый город» 16-летнего воспитанника детдома Л-417
ВЕЛЬВЕТОВАЯ КУРТКА
Надо прощать своим врагам,
но не раньше, чем они повешены
Г. Гейне
АЛЕКСАНДРУ ПЕЧЕРСКОМУ
герою восстания в концлагере Собибор
В столярной – острый запах лака и древесной стружки. За стенами мастерской настырный осенний дождь сечет землю, утоптанную тысячами ног. Утром прошла колонна еще одного транспорта. Из этого транспорта оставили в живых только ювелира, портного и с десяток молодых женщин и детей.
На складе сложили новую пирамиду чемоданов. Выросла еще одна груда одежды. Прибавилось несколько пар костылей и блестящий никелированными частями ножной протез…
Две недели назад, в начале октября 1943 года, таким же транспортом привезли сюда Александра. Пока гитлеровцы хлопотали у головного вагона, шеренги новоприбывших обходила команда людей в полосатой арестантской одежде. Под надзором солдат они отбирали чемоданы и укладывали их на телегу. У Александра ничего не было. Еще в Минске у него отобрали все, даже сапоги и шинель.
Один из команды, проходя мимо Александра, успел шепнуть:
«Запомни, ты столяр!»
Когда переводчик вызывал специалистов, Александр назвался столяром. Его отвели в барак. Потом определили в мастерскую к Науму Григорьевичу – настоящему краснодеревщику.
Уже на второй день стало ясно, что представляет собой лагерь.
– Настоящий караван-сарай. Только выход из него один – к аллаху! – сказал Александру кавказец Али, «старожил» лагеря.
– А может быть, нам еще рано к аллаху?
– Правда твоя. Спешить туда не надо. У нас говорят: «Кого отнесли на кладбище, того обратно не принесут».
– Долго будут нас держать в мастерских?
– Я здесь месяц. Еще на столько же работы хватит. – Али показал насечку по металлу, которую он выполнял для какого-то начальства. – Потом отправят туда… – Он кивнул в окно на приземистое здание, к которому вела мощенная битым кирпичом дорога. – Видишь? На газ дорога.
– Вижу, – тихо ответил Александр. – Да-а… Тут подумать надо…
– Думай скорей. Здесь час за день считать надо. И не забывай, чему тебя учили. – Али потрогал темневшие на гимнастерке Александра следы от погон.
– Плохо вот – людей не знаю… А без них…
– Правда твоя. Но люди здесь есть. Узнаешь. С одним поговоришь, с другим…
* * *
– В такой дождь возить лес для книжного шкафа нельзя – доски отсыреют. Так и передай господину коменданту – сказал Наум Григорьевич переводчику. А когда тот ушел, буркнул Александру: – Спешить некуда!
С Наумом Григорьевичем работалось легко, а понимания не было. Разошлись они, как только Александр заговорил о побеге.
– Выбрось эту дурь из головы, – разволновался столяр. – Нам, слава богу, кушать дают. Держат в тепле. Руки при деле. Живем… А ты – бежать. Да ты что – слепой? Кругом эсэсовцы да вахманы. По три смерти на каждого из нас. Допустим, что у нас выйдет удачно – так выберется десять, от силы двадцать человек. А остальных пятьсот перебьют тотчас же. Тянуть время – вот что нам остаемся. Дожидаться наших. Слава богу, они наступают…
– Нельзя ждать, – убежденно возразил Александр. – Если будем ждать, то все погибнем! Вот вчера женщин оставили. И им дадут еду. И в теплый барак отправили. А что ждет их?
– Мы тоже им нужны. Мы специалисты…
– Мы не только столяры. Мы – свидетели того, что здесь творится. Таких они не оставят в живых.
– Послушай, Александр… Может, ты и прав, но люди здесь до того запуганы, что не поднимутся. Надежда выжить – весом с опилок, тянет пудовой гирей… Мы в глубине Польши. Кругом – немцы…
– Наум Григерьевич, в двух шагах от лагеря – лес. А там ищи нас! Мы поднимемся и всех заберем с собой. Не захотят – силой заберем…
– Нет. Александр! Вас я не выдам, даже если мня живым резать будут. Но то, что вы задумали, – преступление. Спасти себя ценой гибели сотен своих братьев… Но боже мой, почему вы думаете, что спасетесь? Где он, ваш этот шанс на спасение? Я его не вижу.
Так они спорили не раз, и Наум Григорьевич все больше и больше ожесточался…
* * *
Стояло погожее утро. У двери мастерской Александр ожидал прибытия грузовика с досками. Перебирая в памяти разговоры с Али, портным Шлемой, сапожниками Ефимом и Лазарем, Александр весь ушел в раздумье…
Вдруг из барака, что был ближе всех к мастерской, стрелой вылетел мальчик лет шести-семи. Остановился, зажмурился от солнечного света, а потом подбежал к Александру, доверчиво прижался к руке, пахнувшей сосновой смолой.
– Дёре иде, Шани! Дёре иде![10]10
Иди скорее, Шани (венг.).
[Закрыть] – раздался женский голос.
Александр засмотрелся на мальчика. На нем была серая, с серебристым отливом, вельветовая курточка, короткие штанишки, серые чулки-гольфы, ботиночки. Рыжеватый, с пушистыми ресницами и густыми веснушками на белом лице, малыш выглядел пришельцем из какого-то иного, далекого мира. На курточке – в два ряда золотые пуговицы. Они притягивали взгляд Александра, мешали сосредоточиться. Новенькая вельветовая куртка… Александр не слышал лепета мальчика. Мысли его унеслись далеко, в довоенное, полузабытое. Когда-то такая вот куртка была мечтой его детства. Однажды Александр набрался смелости и попросил отца купить ему вельветовую курточку. С золотыми пуговицами, с якорями. Ночью Саша невольно подслушал разговор отца с матерью. Они подсчитывали долги…
Ох, как же давно это было…
– Шани! Дёре иде, Шани! – кричала большеглазая женщина, стоявшая в дверях барака. Мальчик побежал к ней.
Видения детства исчезли. Кто-то тронул Александра за плечо. Он вздрогнул. Перед ним стоял человек, показавшийся знакомым.
– Это я вам тогда велел назваться столяром, – сказал он тихо.
Александр кивнул.
– Вы офицер, и я знаю о вашем плане, – продолжал тот. – У меня есть верные люди, они готовы на все. Но время – наш самый страшный враг. В любой момент нас могут пустить в расход… Зовут меня Аркадий, – добавил он, выжидательно глядя на Александра.
– Я тебе верю, Аркадий. – Ответил Александр. – Ты прав – время, время… Все должно решиться в считанные, минуты. Нужны люди, способные действовать не только храбро, но и с головой. План такой… – Он коротко изложил свой план.
– Ладно, передам хлопцам, – сказал Аркадий. – Завтра уточним окончательно. Буду ждать тебя за штабелем трупов у крематория. Неприятное место, но зато фрицы туда не заглядывают. Договорились, товарищ Александр?
Аркадий ушел.
Александр живо представил себе картину предстоящего боя. Коменданту лагеря шьется мундир. Рапортфюреру скоро будет готов стол. Заместитель коменданта придет примерять сапоги. К Али пожалует гестаповское начальство. Собрать их всех одновременно… Пойдут в ход сапожные ножи, топор… А потом будет и оружие.
* * *
В условленном месте Александр ожидал Аркадия. Итак, они уточнят последние детали восстания.
Восстание! Это слово Александр произнес шепотом, как будто мертвецы могли понять все, что оно означает…
Восстание… Мысль о нем отметала остатки сомнений, что точили Александра днем и ночью. Восстание надо было поднимать с людьми, которых он еще не успел хорошо узнать, а многих даже и в глаза не видел. Чудовищными были нарушения конспирации – это огромный риск… Опасность провала постоянно висела над ними, как столб черного дыма над крематорием…
Условный час истек, а Аркадий так и не появился. Сомнения с новой силой обрушились на Александра. За его спиной – кирпичная стена крематория. Впереди штабель обнаженных трупов – головы, желтые ступни ног… Стоит ли начинать?
Но вот послышались шаги. Идут двое. Александр осторожно выглянул и увидел: к крематорию направлялись рослый эсэсовец и тот самый мальчик в вельветовой курточке. Малыш что-то рассказывал немцу, жестикулировал, глядя на него снизу вверх. А эсэсовец механически поглаживал мальчика по голове, отрывисто и нервно повторяя: «Гут, гут»!
Оба уже совсем близко. Эсэсовец воровато огляделся. Они скрылись за углом. Короткий окрик: «Шнель! Шнель!» Глухой удар. Вскрикнул мальчик. Его плачущий голос: «Нем банч! О анюко!»[11]11
Не бей! О мамочка! (венг.).
[Закрыть]
Александр закрыл глаза и что есть силы сжал кулаки. Снова отчаянный крик мальчика и два выстрела. Тишина… потом снова шаги…
Александр выглянул. На ходу складывая вельветовую курточку и срывая с нее желтую матерчатую звезду, эсэсовец торопливо шагал к лагерным строениям.
– Звери… – простонал сквозь зубы Александр и тяжело оперся о стену. – Ну, погодите…
* * *
…– Мы потеряли Али и двух неизвестных бойцов. А как прошло восстание – вы уже знаете. Все это похоже на чудо. И его совершили вот они – наши товарищи. Мы рассчитались и с тем негодяем, что убивал и грабил детей. Примите нас в свой отряд. Это проверенные в огне бойцы. А это возьмите, пожалуйста, для польского ребенка!
Александр протянул командиру партизанского отряда детскую вельветовую курточку.