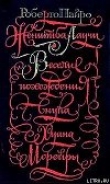Текст книги "Жить воспрещается"
Автор книги: Илья Каменкович
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
СТРОЙ ОСТАЛСЯ НЕДВИЖИМ
Лучше потеря, которая объединяет,
чем добыча, которая сеет раздор.
Пословица.
Связка писем. Одни старые, уже тронутые желтизной. Другие я получила недавно. Варшава. Краков. Гданьск…
Бывают минуты, вот такие, как сейчас. Руки невольно тянутся к этим письмам. И тогда я перебираю их, в который раз перечитываю. Вспоминаю…
Вот первые весточки подруг после возвращения в разрушенные города, на освобожденную родину. Размытые слезами чернила. Крик отчаяния. Перечень родных и близких, – погибших, искалеченных, занесенных бог знает куда смерчем войны. Горечь и слезы. Многоточия красноречивее слов.
А вот недавние письма: «Посылаю рецепт совершенно фантастического крема для лица»… «Диссертация подвигается медленно. Пришлось подзаняться еще и английским»… «У нас снова модны оранжевые тона»…
Такова жизнь.
Но и в спокойный тон последних писем врываются тревожные нотки: «Эта гадина Оберхойзер, подумай только, благоденствует, принимает больных. Сколько еще палачей на свободе! Газет хоть не читай!».
Это тоже письмо женщины. И это тоже жизнь.
Нашей переписке много лет. Правда, теперь письма приходят реже.
В комнате рядом спят мои малыши. У меня семья. Из окон нашего дома видно, как строится, вырастает театр. На моем лице все гуще сетка морщин – сигналы неумолимого времени.
Пишу об этом спокойно – рукой, а не сердцем. Но вот кончается листок, и сердце все больше завладевает пером. Снова вижу мысленным взглядом глаза далеких подруг. Колюче-голубые – Ванды. Карие с искринкой – Хелены. Серые, мягкие – Штефы. Оживают их лица. И уже другие ложатся на бумагу слова. В них много нежности. Да, нежности.
Разве не так бывает с нами на вокзале? Говорим о том – о сем, о разном, а единственно нужные слова приходят после «второго звонка», когда уже времени не остается…
Ванда, Штефа, Хелена. Дорогие вы мои! Было ли то, что мы пережили? Или это только кошмарный сон, кадры чудовищного фильма?
Вот так невольно и вспоминается Равенсбрюк.
Равенсбрюк – «Вороний мост». Равенсбрюк – действительно схоже с вороньим карканьем. Это и был мост. Мост… над рекой крови. Здесь мы и породнились.
Вспоминаю промозглое осеннее утро. Как обычно, нас выстроили на площади перекличек – трижды проклятом аппельплаце. Стриженные, измученные, в рваном полосатом тряпье, мы стояли дрожа от холода.
Неожиданно на плац привезли гору почтовых посылок и сложили штабелями перед строем польского блока. «Что-то затевается», – подумала я.
Стук упавшего тела, слабый крик… Кто-то позади упал. Помочь нельзя. Даже обернуться, взглянуть нельзя.
Появилось лагерное начальство. Над плацем разнеслась необычно спокойная немецкая речь, а потом в тон ей – голос переводчика:
– Вчера в польском блоке обнаружен беспорядок. Это недопустимо. Всякое нарушение порядка влечет за собой наказание виновных. Поэтому комендант лагеря распорядился конфисковать посылки, присланные полькам, и наказать весь их блок.
Долгая пауза.
«Раз в месяц маленькая посылка, – думаю я. – сколько у полек связано с нею надежд. Поддержать больных. Хоть немного утолить голод»…
Кто-то в строю падает. Еще кто-то слева. Их уже не касается перекличка. Они остаются лежать на седом от инея асфальте. Они нужны только для счета.
Снова разносится немецкая речь. Она еще мягче, еще вкрадчивее:
– Ротармистки! (Это уже к нам). От вас отказался даже Красный Крест! Но мы, немцы, руководствуясь принципами гуманности, передаем вам посылки, конфискованные у полек. Вам, ротармистки. Не бойтесь. Это – наш подарок.
«Надо же, – думаю я взволнованно:– здесь, на плацу, мы не сможем сговориться…»
А тем временем эсэсовки уже перетаскивают посылки к строю нашей колонны. Швыряют ящики. Один разбился – по асфальту покатилась консервная банка, вывалились кубики сахара, пакетик с галетами. Давно невиданная снедь. Не в силах отвести от нее взгляда, я глотаю годную слюну.
Упал еще кто-то.
Началась, наконец, перекличка. В нашей колонне счет живых оборвался на цифре 382. («Что же это, – проносится в голове. – Ведь совсем недавно нас было 704»).
К сердцу подступает холод. «Знай мы об этом раньше, организация решила бы, как быть…»
Снова из громкоговорителя:
– Русские! После пересчета вы забираете посылки и маршируете в бараки! Приятного аппетита!
– Мы не возьмем посылок! – раздается знакомый низкий голос нашей «мамы». Раздается, словно выстрел.
Эсэсовки забегали.
– Эту – в карцер! А мы сейчас посмотрим. Кто хочет получить посылку – шаг вперед! Тишина.
– Повторяю: кто хочет получить посылку, пусть сделает шаг вперед. Разрешается выбрать любую.
Какое тяжелое висит молчание… И вдруг… Неужели?
Нет, это не шаг вперед. Это еще кто-то сделал шаг в вечность…
Старшая надсмотрщица подходит к нашей правофланговой. Это Мария – военфельдшер из Севастополя. Она еще не член нашей организации. Ей голос «мамы» – не закон…
– Ты отказываешься от подарка? Отвечай!
Ответа не слышно. Зато слышен звук пощечины.
Эсэсовка подходит к самой старшей из нас – Ольге Васильевне. После воспаления легких она еле держится на ногах. Белая как мел. Черные провалы запавших глаз… Неужели и ее ударит эта зверюга с лицом звезды?
И снова. Вопрос. Молчание. Пощечина…
Моя щека горит. Я вздрагиваю от каждого удара, который обрушивается на подруг. Я вздрагиваю и съеживаюсь от каждого удара. Но по мере того, как эсэсовки удаляются к другим шеренгам, а строй наш остается недвижим, я незаметно для себя выпрямляюсь. Все во мне наполняется радостью. Хочется смеяться и петь. И еще: хоть краешком глаза увидеть, что делается в строю полек, француженок, чешек.
А за спиной продолжается: «Берешь посылку?» Секунда тишины. Удар. И так – до последнего человека в строю.
В тот день нас оставили без еды. Назавтра после пересчета до позднего вечера мы выстояли штраф.
Мы стояли как на параде.
* * *
Связка писем. Воспоминания – мрачные и светлые. Светлее всех – минута нашей встречи после штрафа Мы молча держались за руки и сквозь слезы смотрели друг на друга. Даже полузнакомые стали в эту минуту старыми друзьями. Без клятв. Навсегда.
ПЕТУШОК
В безлунную ночь звезды ярче сверкают.
Пословица
Жизнь в концлагере приводила людей – я имею в виду настоящих людей – к организации. Из колодца, сами понимаете, одни выход – наверх.
Слово «организация» не произносилось. Но час за часом, день за днем, будто к магниту, тянулось к ней все сильное духом, железное, что ли.
Кандидатский стаж? И мгновенье и вечность.
Членские взносы? Жизнь. И честь. Готовность вынести пытки.
Устав? Беречь товарища и, когда надо, молчать. Беречь товарища – а уже потом думать о себе.
Но прежде всего – вредить фашистам всюду, где и как только можно.
Передать чистую тряпку для перевязки. Уступить слабому лучшее место на нарах. Поделиться окурком, коркой хлеба. В нужную минуту подбодрить хотя бы простым пожатием руки.
Так выглядело в жизни, то, что газеты и ораторы выражают сухими, как осенние листья, словами «формы работы». Гудел, не умолкая, в этом мрачном застенке колокол совести.
– Листовку бы насчет «петушка», – не то советуясь, не то поручая, сказал мне «дядя Сергей». Прощаясь, он незаметно оставил в моей ладони две узенькие полоски чистой бумаги. Кто-то украдкой оторвал их от немецкой газеты и передал нам.
Фашисты боялись листовок. И попадись кто с этими полосками – ждали его допросы, пытки, расстрел…
Бумага жгла ладонь. А в голове звучала детская припевка: «Петушок, петушок, золотой гребешок, масляна головушка, шелкова бородушка»… Детство… Да было ли оно? Воспоминания оборвал выстрел. Кого-то убили, кого-то из нас.
Я написал на полосках: «Петушок» – наш враг. Дайте ему осесть на дно. Наша жизнь нужна Родине!»
Утром на дверях барака белела полоска бумаги. Но это была не моя листовка. И слова не те. И рука не та. Листовки видели на столбах, и в третьем и в шестом бараках там где-то висели и мои полоски, и люди читали их.
Через несколько дней я снова получил задание:
– Выступим еще раз против «петушка». Люди мрут, ухи.
– Сделаю, – ответил я, А сам не верил, что наши листовки помогут.
– Думаешь, дохлую лошадь подковываем? – угадав мои мысли, сказал «дядя Сергей», Капля камень долбит!
Когда листовки появились снова, немцы будто с цепи сорвались. Стали брать людей без разбора. Одних избивали других задабривали: старались нащупать организацию. А она получила сигналы: «Петушок» все прибывает! Действуйте!»
Передавал эти сообщения один наш товарищ – «Художник».
Да, я и забыл, что вы не знаете, о чем, собственно, идет речь. Сейчас объясню.
В концлагере фашисты положили «паек» такой, чтобы жилось недолго и умиралось не сразу. Двести граммов черствого черного хлеба с какими-то примесями. Два раза в день мутная похлебка-баланда. И больше ни крошки. Ни капли.
Мы страшно отощали. Стали шататься зубы, кровоточить десны. Мучили рези в желудке. Люди умирали десятками.
Вскоре мы разобрались, в чем дело. В баланду гитлеровцы засыпали какой-то порошок, по цвету и виду – ни дать ни взять цемент. А была это костная мука для подмешивания в корм курам-несушкам. Привозили ее в лагерь в больших бумажных мешках с яркой фабричной маркой – красным петухом.
С каждой неделей все круче и круче замешивалась баланда этим самым «петушком». Даже здоровый желудок не мог бы справиться с ним. Порошок камнем оседал в кишках. Спасения не было.
Мы старались разъяснить товарищам вред «петушка». Призывали съедать баланду не сразу, а давать «петушку» отстояться.
Наши призывы вроде бы действовали, пока люди ожидали раздачи баланды. А потом многими уже командовал голод…
Мешки с «петушком» выгружали узники. В этой команде и работал «Художник». По его совету разрывали мешки и рассыпали порошок. Нарочно затягивали разгрузку во время дождя.
Однажды после поверки нам сообщили, что «Художника» взяли. Пришлось переносить в другое место наш немудреный «арсенал» – чудом собранный пистолет, железный прут и штык. Жизнь пятерки, с которой был связан «Художннк», повисла на ниточке.
«Какой он человек? – с тревогой думал я. – Что если не выдержит пыток?»
И черт знает что лезло в голову. Сами понимаете…
Прошло несколько дней, неделя, и мы узнали, что «Художник» в «политабтайлунге».[25]25
Лагерное гестапо (нем.).
[Закрыть] Там шла «обработка». Однажды, когда «Художника» волокли с допроса он выкрикнул прозвище доносчика.
Эстафета с именем предателя передавалась тем, кто должен был свершить и свершил возмездие.
Но вот что произошло потом.
Был март. Стояла по-настоящему весенняя погода. Даже обычные мучения пересчета легче переносились в такой теплый солнечный день.
Аппель очень затянулся. Немцы явно нервничали.
Красавчик Руди, палач с лицом ангела, прохаживался перед строем и все посматривал в сторону лагерной комендатуры.
Неясная, глухая тревога охватила нас. Печатая шаг, к плацу направилось отделение эсэсовцев. Они выстроились возле Руди. И тут мы увидели: из комендатуры вывели зверски избитого человека в окровавленных лохмотьях. Над левым карманом его робы был приколот кусок бумаги с отпечатанным на ней красным петухом. Человека поставили у стены. Руди через переводчика объявил, что «русскому дается последний шанс признаться и искупить свою тяжелую вину перед рейхом. Иначе он будет расстрелян перед строем своих камрадов».
Переводчик дважды повторил это, а узник молчал. На его распухшем лице едва виднелись глаза. Они жили, эти глаза, и, может быть, видели наше огромное полосат каре, безмолвно стоящее с непокрытыми головами под синим мартовским небом.
Потом Руди что-то выкрикнул, Узника привязали к кольцу в стене, Мы поняли, что произойдет. Здесь уже не раз бывало такое…
Вскинулись автоматы. Залп. Человек грузно повис дернулся – и затих.
Уходя с переклички, мы, как по команде, подтянулись держа равнение на расстрелянного.
В бараке «дядя Сергей» сказал мне, что это был наш «Художник».
После отбоя, в темноте, мне передали кусок жестко картона. Ощупав его, я догадался, что это такое. Я выждал, пока из трубы крематория вырвалась очереди вспышка пламени, и в ее красном неровном свете увидел, что держу пробитую пулями мишень. На ней запеклась кровь.
Мишень снял с «Художника» каш человек из «похоронной команды».
«СЕЛЕКЦИЯ»
Правда выше жалости
М. Горький
В болотистой долине рядами стояли одноэтажные коробки бараков. Черные, холодные, пропитанные адской смесью запахов гибели…
На узких трехъярусных нарах лежали живые скелеты, одетые в полосатые робы. Их охраняли сытые звери – двуногие и овчарки. Бараки были обнесены колючей проволокой и бетонными стенами. Горе жило здесь в обнимку с отчаянием. Одним словом – концлагерь.
Все было прижато к земле – огромной раскрытой могиле!
В стороне от бараков высилось мрачное каменное здание. Тупо уставилась в небо квадратная труба.
Из трубы день и ночь валил густой дым и вырывались космы желто-красного пламени. Низкое небо, затянутое тучами, прижимало дым к земле. Он смешивался с плотным туманом болотистых испарений, и тогда все вокруг пропитывалось нестерпимым смрадом. От него сжималось сердце, подкашивались ноги. Говорить об этом здании избегали – за его дверью проходил последний рубеж жизни.
В стене здания, обращенной к баракам, чернели глазницы двух низеньких окон. И куда бы ни шел узник, они, казалось, неотступно следили за ним.
Над лагерем висело пепельно-серое небо. Этот кусок земли обходило даже солнце.
Ночью в неотапливаемых бараках люди тесно прижимались друг к другу, и часто скудное тепло живого отдавалось соседу, который в нем уже не нуждался.
Равные в своем ужасном бесправии, узники старались держаться. И держались. Окаменевшим молчанием звенел их гнев, намертво зажатый зубами.
Для этих людей, казалось, никогда не существовали такие простые слова, как «понедельник», «вторник», «февраль», «сентябрь»…
Время измерялось по-другому: от аппеля до раздачи «баланды», от выхода на работу в каменоломню до падения измученного тела на жесткие нары.
И еще – от «селекции» до «селекции».
* * *
Человека, которого в бараке прозвали «профессором» привезли ночью с очередным транспортом из Венгрии. Его втолкнули в барак. Указали на второй ярус. Два полосатых мешка оттолкнулись друг от друга, и новичок боком протиснулся в освободившуюся узкую щель…
Утром «профессор» замешкался с подъемом и умыванием. Пришлось объяснить ему нехитрые заповеди узника. «Профессор» молча выслушал, едва заметно кивнул.
Что Михаилу запомнилось в облике нового сосед? Может быть черные мохнатые брови и лысый, в крупных веснушках, череп? Печальные большие глаза и острый с горбинкой нос? Белые худые руки с тугими жгутами вен или, может, каким-то чудом сохранившаяся жилетка?
Возможно, он и в самом деле был профессором. Он стыдился своей ученой речи, своей привычки вставлять в речь афоризмы. Он еще сохранил отвращение к грязи и голоду. Трудно было сказать, сколько ему лет.
Когда по утрам к огромному плацу, на котором выстраивались узники, направлялся человек в белом халате, над полосато-серыми рядами нависала жуткая тревога. Все замирало. Предстояла «селекция»…
Изможденные, зачастую смертельно больные, пересиливая страх, узники старались выглядеть бодро, даже молодцевато.
От этого зависело все. Пол белым халатом немца – мундир. На петлицах короткие зигзаги молнии: СС. Похлопывая стеком по голенищам хорошо начищенных сапог, не спеша обходит он застывший в немом ожидании строй. Теперь главное – не показаться ему больным, слабым. Рявкающий выкрик: «гераус» – из строя! – и тот, кому подавалась эта команда, покидал живых и, еще сам живой, уже был только чем-то, предназначенным к отправке «туда» – в здание с квадратной трубой…
Стоя в одной пятерке с Михаилом, профессор ничем не выдавал своего волнения – даже когда «врач» приближался к нему. Но по мере того, как эсэсовец удалялся к строю других бараков, профессор проявлял все большее беспокойство. Он приподнимался на носках и вытягивал шею, стремясь увидеть ход «селекции». Неписаные законы лагерной конспирации запрещали лишние вопросы, и Михаил не задавал их.
* * *
Шла раздача «баланды», когда в блоке внезапно появился молодой эсэсовец. Он решил навести порядок и, раздавая направо и налево удары, замахнулся дубинкой на профессора. Возможно, юнцу просто захотелось «дать по мозгам» старому человеку. Но удар получил Михаил. Он успел оттолкнуть профессора.
Эсэсовец вызвал старшего. Тот назначил Михаилу трое суток сухого карцера. Только хлеб. Ничего жидкого.
– 3десь тюрьма, концлагерь, а не детский сад, – выкрикнул немец и улыбнулся собственному остроумию.
– Ты что шепчешь, ученая скотина? – набросился он вдруг на профессора.
– Люди строят стены тюрем из кирпичей стыда, – четко и в меру сил громко ответил старик.
– Что, что?
– Это сказал Оскар Уайльд, господин блокфюрер, а я только вспомнил…
– Этот Оскар, конечно, еврей, и ты повторяешь его бред, свинья! Пять суток карцера!
…В барак профессор вернулся надломленным.
Но первым его вопросом было: проходила ли за это время «селекция»?
– А что вам до этого? – спросил Михаил.
– Как что! – вскрикнул вдруг профессор, но тут же осекся. Снова ушел я себя.
* * *
Коротка ночь узника. Но не каждый дорожит минутой спасительного забытья…
Профессор, вплотную прижатый к Михаилу, лежит и глаза его открыты.
«Там» из трубы выплеснуло пламя, и зловещий его отсвет ворвался в окна барака. Ломаные тени запрыгали на стене. Профессор увидел, что и Михаил не спит.
– Знаете, Михай, – почти беззвучно сказал профессор – прав был Бальзак. Есть люди, похожие на нули: им всегда необходимо, чтобы впереди шли цифры… О иштэнем!..[26]26
О боже (венг.).
[Закрыть] Где это я говорю о Бальзаке…
– Ничего, профессор. Нули, идущие за единицей, удесятеряют ее силу.
Приступ удушья не дал профессору ответить.
Михаил старался поддержать его. По «кольцу» удалось передать ампулу глюкозы, потом еще одну…
Однажды, когда они остались вдвоем убирать в бараке, профессор снял с себя жилетку, протянул Михаилу и просил поскорее ее надеть, а сам стал на чеку, возле двери.
– На подкладке кое-что написано, – сказал он, – передайте тем, кто послал глюкозу, чтобы мою жилетку берегли. Ею должны будут заняться химики…
Печальные глаза профессора светлеют, становятся мягче.
– Михаил, я поверил вам. Помогите мне. У «зеленых» можно купить яд…
Он быстро поднес руку ко рту. На ладони оказалась вставная челюсть. Зубы были фарфоровые, но очень похоже на натуральные.
– Они на золоте, – сказал профессор, – Хорошая цена за ампулу цианистого калия… Не так ли?
– Профессор… – только и мог вымолвить Михаил.
– Мне передали, – продолжал профессор, – что шестому блоку назначена строгая селекция. Всех больных и слабых сожгут…
– Да, но…
– Всех больных и слабых, – повторил старик. – Там, в шестом – мой сын. Пусть у него будет яд. На всякий случай… Вы только попросите: пусть яд будет настоящим…
* * *
Бог и тот уже не сумел бы исправить случившегося. Труп профессора вместе с другими жертвами очередной «селекции» поглотил крематорий. Поэтому лагерфюреру пришлось ответить в Берлин: «Интересующий Вас ученый, по нашим документам – узник 369741, умер при невыясненных обстоятельствах. Никаких его личных вещей в бараке не обнаружено».
– И чем они только занимаются там, «наверху»? Какая-то жилетка, видите ли, им понадобилась, – ухмыляясь произнес лагерфюрер и, лизнув языком, заклеил конверт с надписью: «Срочное. Берлин. Лично рейхсфюреру СС Гиммлеру».
СКРИПКА В ЛЕСУ
Музыка не создана для исчадий ада.
Д. Кьюсак.
Вам приходилось слышать скрипку в лесу? Мне довелось однажды, и воспоминание об этом еще живо, хотя с тех пор прошло два десятка лет…
…Дунай сердито спорил с берегом. Ветер трепал седые космы волн. Мотались, прыгали на волнах лодки, привязанные к причалу. Ветер уносился в степь и дальше – к черной громаде леса. Там, уже вполсилы, он раскачивал густые кроны деревьев, рождая тот глуховатый шум, который беспричинно волнует в лесу.
Мы направлялись в лес, где, по слухам, бродила группа гитлеровцев. Война только что закончилась. Хотелось верить, что слухи о банде преувеличены или просто выдуманы. Но, так или иначе, лес надо было прочесать. Вскоре мы втянулись в сумеречную неизвестность леса. В звене нас было трое. Пройдя сотни две шагов, мы неожиданно услышали мелодичные звуки.
Представьте себе чужой лес. Тревожная тишина. И вдруг – скрипка… Ее грустный голос то сливался с шорохом листвы, то вдруг нарастал, отчетливо выделяясь в лесных шумах.
В третий раз за день начинался дождь, Будто просеянные сквозь сито капли тихонько шелестели в листьях. Скрипка жаловалась и негодовала. Она тревожила, она бередила душу. Я вспомнил, не знаю почему, бои на холмах Буды, товарищей в братских могилах…
Да, смычком водила опытная рука.
Я вел звено по узкой лесной тропе. И вот мы увидели скрипача. Это был пожилой цыган невысокого роста, обросший и худой. В его буйных, тронутых сединой волосах блестели бисеринки дождя. На цыгане было что-то вроде серой арестантской робы. Черные полосы на ней выгорели. Он шел впереди нас. Шел неровно, припадая на одну ногу, босой и какой-то неприкаянный. Между плечом и подбородком была зажата скрипка. За ним тянулась мелодия, которую трудно забыть и еще труднее передать.
Тропинка вывела к поляне. Мы увидели группу людей возле лесной сторожки. Мои солдаты вскинули автоматы, но я остановил их, заметив переводчика Иштвана – коренастого парня в островерхой шапке. Возле него стояло еще несколько венгров. А на полозьях перевернутых саней сидело трое пленных немцев. Они жались друг к другу, одичавшие и опухшие – должно быть, с голоду. Увидев нас, они вскочили.
И вдруг голос скрипки взлетел и оборвался на высокой ноте. Цыган увидел немцев. Не то вопль, не то крик ярости вырвался у него. Скрипка полетела в сторону. Размахивая смычком, цыган бросился на одного из немцев и вцепился ему в горло. Они покатились по земле. Цыган что то хрипло кричал, немец, задыхаясь пытался оторвать его руки от горла…
Старшина Замчевский с трудом оттащил обезумевшего цыгана от пленного.
Я подошел к цыгану. Он дрожал… Я кивнул Замчевскому, и тот отпустил его. Предложил цыгану папиросу, но он не обратил на нее внимание. Он вытащил из кармана куртки матерчатый треугольник и ремешок с металлической биркой и протянул их мне. На кусочке алюминия были выбиты какие-то цифры. Цыган выкрикнул что-то бессвязное.
Я обернулся к Иштвану, ожидая перевода. Тот пожал плечами и сделал пальцем жест возле виска мол у него «не все дома».
Цыган подобрал скрипку и, не оглядываясь на нас, пошел в лес, припадая на ногу и бормоча что-то. Мы молча смотрели ему вслед.
Вот он подошел к каменному распятию, стоящему на краю поляны. Оно было облупленное и исхлестанное дождем. Нелепо торчала проржавленная жесть ореола вокруг головы Христа. Цыган остановился перед распятием – и вдруг что было силы ударил по нему скрипкой. Треск дерева, оборвавшийся звон струн… Будто простонала скрипка…
Цыган постоял еще немного, потом резким взмахом отбросил смычок и побрел дальше. Вскоре лес поглотил его…
Один из венгров быстро заговорил. Иштван перевел его слова:
– Вот какое дело, капитан. Этого цыгана зовут Чорба Янош. Его даже в Будапешт приглашали играть на скрипке. Немцы увезли его с семьей в концлагерь. Куда-то в Австрию. Вместе со всеми нашими цыганами. Их сжигали в печах, а Чорба… Его заставили каждую партию провожать со скрипкой к печам… Вот оно как…
Я закурил и покосился на немцев. Они все еще стояли по стойке «смирно». Тот, на которого набросился Чорба, равнодушно жевал сухарь.
Подавляя очень злое, что подымалось во мне, я подал команду строиться и приказал Замчевскому отвести пленных в лагерь.