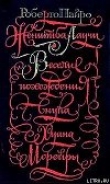Текст книги "Жить воспрещается"
Автор книги: Илья Каменкович
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
«СОЛОВЕЙ» И РОЗЫ
Чрево, породившее фашизм, еще способно рожать.
Бертольт Брехт
Фриц Мюллер отвалился от обеденного стола, вытер подбородок и аккуратно сложил салфетку. В тот день «дежурной» была салфетка с вышитым на ней – «Боже! Покарай Англию!» Скользнув по готической вязи букв, Мюллер улыбнулся. Он уже давно заметил, что именно эта салфетка сопутствует вкусному обеду и хорошему настроению.
У фрау Амалии Мюллер было еще два гарнитура салфеток. Эти с «Боже! Покарай…» – самые старые. Им скоро полвека. Сделали их в 1915 году. На остальных вышиты любимые сентенции хозяина: «С нами Бог!» и «Через прошлое – к будущему!»
Мюллер перешел в кабинет, где его ждало удобнее кресло, стопка газет, письма и коробка сигар. Привычным движением, не глядя, нащупал на столе перочинный ножик, вынул сигару, обрезал копчик ее и закурил. Острие ножика нырнуло в угол конверта, несколькими рывками вскрыло его, затем второй, трети, четвертый. Попыхивая сигарой, Фриц Мюллер приступил к чтению. В письмах ничего особенного. Но вот Мюллер вынул сигару и положил ее на фирменную пепельницу «Страхование имущества. Фриц Мюллер и сын». Повернув последний конверт и прочтя адрес отправителя, Мюллер на какой-то миг задумался.
«Дружище Фриц! – писал человек, которого Мюллер так и не вспомнил. – Слава богу, я отыскал тебя, ты будешь сто седьмым «соловьем». Больше никого из нашего прославленного батальона «Нахтигаль»[27]27
«Нахтигаль» – соловей (нем.).
[Закрыть] я не нашел, хотя на одни только объявления в газетах истратил 47 марок 35 пфенингов.
Меня ты должен помнить. Я – «Длинный Хуби» – Хуберт Баумгартнер, ефрейтор первой роты. С тобой мы участвовали в операции «Возмездие» – выковыривали из теплых постелей интеллигентов во Львове.
В двух словах о себе. В плен я сдался «индюкам». Янки со мной не очень церемонились, но вышел я по чистой после того как помог одному офицеру выгодно продать крупную партию медикаментов. Теперь у меня своя аптека в Гамбурге. Верь, дорогой Фриц, – все уладилось. Пережитое даже во сне не приходит. Теперь, как никогда, я понимаю мудрость твоего девиза: «Через прошлое – к будущему!»
Мы сколачиваем союз ветеранов «Нахтигаля». Обратной почтой переведи 5 марок вступительных и следи за газетой бывших фронтовиков. Мы скоро соберемся за кружкой пива в Мюнхене. Итак, жду перевода и письма. С фронтовым приветом и «Через прошлое – к будущему!» – Твой Хуберт».
Фриц Мюллер перечитал письмо, стряхнул с сигареты валик пепла и жадно затянулся.
«Ловкач, этот Хуберт! Переведи ему 5 марок! И это только вступительные!»
«Длинный Хуби» и его письмо напомнили Фрицу победный марш по безлюдному, притаившемуся Львову. Батальон «Нахтигаль» – оправдал доверие руководства СС!
Фриц Мюллер встал, энергично потянулся и зашагал по кабинету. Можно ли забыть пьянящее чувство всесильной власти над этими недочеловеками – славянами? Эти «унтерменши» узнали, что такое «Нахтигаль!» Тщетно пытались они поколебать волю испытанных «соловьев» позерским хладнокровием перед казнью и гнусными большевистскими выкриками… «Нахтигаль» вел на страх врагам батальонный фюрер Теодор Оберлендер!
Мысли Мюллера переносятся к событиям, заставившим Оберлендера подать в отставку. Газеты пестрели тогда требованиями замаскированных коммунистов удалить Аденауэра из дворца Шаумбург… «Пусть старый Конрад займется лучше своими розами!»
– Розы.„Розы… повторял Фриц Мюллер. Это увлечение Конрада Аденауэра – общеизвестно. Но старик уже в могиле, а нам бы такие розы, какие выращивал Хоппе!
…Случилось это на совещании у гаулейтера Восточной Пруссии Альберта Форстера. Большие, яркие стояли розы в хрустальной вазе на сером ящике штабной рации, рядом с письменным столом, гаулейтера. Свет люстры играл на хитросплетениях граней и узоров вазы и в то же время подчеркивал густоту цвета роз.
В мрачной, по-военному строгой обстановке кабинета розы могли казаться причудой гаулейтера. Дважды в течение своего выступления Форстер вставал, не прекращая речи, подходил к вазе, осторожно касался бахромы лепестков. Героем дня у гаулейтера стал комендант концлагеря Штутгоф-штурмбанфюрер Хоппе. Фриц Мюллер стал свидетелем такого разговора:
– Как удается тебе выращивать такие розы? – спросил Форстер.
– Очень просто, – с улыбкой ответил Хоппе. – Нужно только знать, какое удобрение наиболее полезно розам и в каком поливе они нуждаются.
Заметив недоумение гаулейтера, Хоппе торжествующе оглянул собравшихся и с той же улыбкой пояснил, что удобрялись розы пеплом узников, сожженных в крематории, а поливались, – Хоппе выдержал эффектную паузу, – поливались человеческой кровью…
* * *
Фриц Мюллер оторвался от воспоминаний и пробурчал, в диктофон: «Перевести Хуберту Баумгартнеру 5 марок».
ПИСЬМО ДАЛЕКОГО ДРУГА
Одна из великих сил мира – дружба людей.
Старый год доживал последнюю неделю, когда я получил письмо, вызвавшее воспоминания о короткой, но многозначительной встрече.
«Мой далекий советский друг! Я долго молчал, но сейчас, в канун Нового года посылаю это письмо и, к сожалению, с печальной вестью…»
Письмо было из Италии. Писал Луиджи Фабиано– бывший боец антифашистского Сопротивления. Встретились мы с ним… Впрочем, об этом расскажу дальше.
«Две недели тому назад, – продолжал Луиджи, – у меня на руках умер Эмилио… За его простым гробом шел весь наш поселок, много рабочих автомобильного завода, бывшие партизаны.
Что же случилось с Эмилио? Тяжелая болезнь? Нечастный случай?
О, нет, мой друг! Дважды он был тяжело ранен и унес в могилу осколок фашистского снаряда. Изведал ад гитлеровских концлагерей и был спасен вашими танкистами, – но недолго наслаждался свободой. Подорванный пережитым организм сдал, Эмилио заболел и, ты уже знаешь это, – ослеп.
Можно было позавидовать силе воли нашего друга. Даже слепым он остался в строю, активным солдатом нашей партии, настоящим коммунистом.
Так мог ли Эмилио оставаться дома, когда узнал с бомбе, взорванной в помещении районной секции Компартии. Эю же – дело неонаци!
В первом ряду демонстрации протеста шел Эмилио Я был рядом. Потом произошло непоправимое… На нас напали фашистские молодчики. Велосипедными цепями, железными прутьями, дубинками обрушились они, а… полиция – она помогала им!
Мы прикрыли Эмилио, хотели вывести его, но не сумели… Так попал он в больницу.
Чудом выжив в схватке с фашистами немецкими Эмилио погиб от рук фашистов отечественных, тех кто называет себя наследниками Муссолини… Да, история повторяется, дорогой мой друг! Тяжела потеря, но и сегодня мы повторяем наш боевой девиз: «Фашизм не пройдет!»
* * *
Теперь о знакомстве с Луиджи Фабиано. Произошло оно в Австрии, 20 июня 1947 года. В тот погожий солнечный день мы приехали в деревню Маутхаузен, расположенную на холмах недалеко от города, где кончалась советская и начиналась американская зона оккупации. Здесь предстояла официальная передача австрийскому правительству бывшего гитлеровского концлагеря Маутхаузен.
…Перед массивной, из бутового камня, стеной у ворот лагеря началась официальная церемония. Отныне Маутхаузен превращался в музей антифашизма.
Тяжело воскрешать в памяти все, что мы видели здесь переходя от крематория к гильотине, из подвалов, где совершались массовые казни к газовой камере, куда обреченные доверчиво шли думая, что идут в душевую…
Мы ступали по земле, где светлая сила человеческого духа все же не была сломлена черными силами варварства. Многострадальная эта земля хранила следы героического антифашистского Сопротивления. Нам показали братскую могилу семнадцати участников коммунистического подполья. Еще такие же могилы. Барак смертников. Здесь, ожидая дня казни, томились военнопленные – советские офицеры. Отсюда пробилось пламя восстания против палачей.
Сейчас в лагере царила тишина. И только пепел в застывших печах крематория, да бесконечные ряды крестов на огромном кладбище, напоминали о том, что творилось в Маутхаузене…
«Оставь надежду, сюда входящий»… – Подобной надписи не было у входа в этот ад, созданный человекоподобными для людей. Но те, кто остался в живых никогда не забудут зловещего предупреждения, которым встречали их в Маутхаузене: «Отсюда выхода нет. Отсюда вы вылетите в виде дыма из трубы крематория»…
… Волнуется человеческое море у стен Маутхаузена. Бывшие узники этой «фабрики смерти» приехали из Польши, Италии, Франции, Греции, Чехословакии, крохотного Люксембурга, многих других стран. Одиночками и группами разбредаются они по лагерю, ищут и находят бараки в которых «жили» и где только во сне видели марево свободы…
Человеческие ручейки стекаются к нашей небольшой группе советских офицеров. Мы стоим у мемориальной доски, с которой только что упало покрывало, открывшее миру цифры жертв, поглощенных здесь фашистским Молохом: Советский Союз – 32180… Польша – 30203… Венгрия – 12923… Югославия – 12870… немецких антифашистов – 1500… американских граждан – 34… английских граждан – 17…
122.766 человек замучено в Маутхаузене! И это только по документам, оставшимся в лагерной комендатуре!
К нам подходят незнакомые люди, пожимают руки, показывают свои значки – треугольник в колючей проволоке… Нам еле успевают переводить слова теплой благодарности «Люсьенов», «Джованни», «Пьеров», – своим побратимам по Маутхаузену «Михаилу», «Петру», «Ване»…
Надо ли говорить, как хотелось запомнить каждое дружеское слово, каждое проявление любви к советским людям, чтобы рассказать об этом дома, на Родине.
Внезапно окружавшие нас умолкли и расступились. В образовавшемся коридоре шло двое мужчин. Один из них медленно и осторожно ступал, устремив невидящие глаза в пространство и как бы прислушивался к звуку собственных шагов. От правого глаза к щеке тянулся широкий след ранения. Протянутые руки искали нас, и его товарищ, – это был Луиджи Фабиано – направил их к ближайшему из нашей группы капитану Елисееву:
– Камарад, товарищ! С нами был русский офицер Петрович. Много допросов выдержал наш Петрович, но никого не выдал… Петрович умер, а мы не забыли его.
Слепой – это был Эмилио – поднял кулак правой руки и снял берет. Молча и мы обнажили головы. Неожиданно слепой стал ощупывать гимнастерку Елисеева, и в тревожной тишине мы услышали мелодичный перезвон медалей.
Вдруг тонкие пальцы Эмилио коснулись уголков ордена Красной Звезды. Вздрогнув, как от удара током, он припал к груди Елисеева и словно в забытьи повторял: «Камарад! Товарищ!»
Потом он лихорадочно быстро снял с себя куртку, поднял руки, державшие рубашку, и повернулся.
На смуглой коже спины мы увидели красно-розовые рубцы звезды, вырезанной палачами… Этот кровавый след оставили на теле бойца интернациональной бригады Эмилио Альдони молодчики генерала Франко…
Расставаясь мы обменялись с Луиджи адресами.
* * *
Как самую дорогую реликвию храню я письмо Луиджи Фабиано. В который раз перечитываю его и перед глазами отчетливо предстает день первой встречи с Эмилио Альдони и трудно представить себе, что нет его в жиых.
Письма из Милана приходят чаще. Недавно Луиджи прислал мне горсть земли с могилы Героя Советского Союза – Федора Полетаева, и я передал ее музею школьного клуба интернациональной дружбы.
Дети Луиджи Фабиано и внуки Эмилио Альдони постоянные корреспонденты и почетные члены этого клуба. Эстафета дружбы, скрепленной кровью борцов-антифашистов – в надежных руках!
ПЕСНЯ В НОЧИ
Повесть
Неправда, камрад, прекрасна та смерть, в которой заключается смысл жизни.
М. Залка
I
За дверями мороз. Посвистывает ветер в переплетах многорядной колючей проволоки, хлопает дверцей сторожевой вышки, забирается в открытые настежь окна бараков.
В бараках пусто. Тысячи измученных и обессиленных людей колонна за колонной бредут к массивным воротам. Над ними стервятник, вонзивший крючковатые когти в рубленный крест свастики. На решетке ворот – чугунные буквы короткой и зловещей надписи: «Каждому – свое».
Ветер начисто вылизал бетонную площадь. И только там, где вчера лежал истерзанный овчарками труп беглеца, осталось бурое пятно. Кровь замерзла. Легким облачком повис над пятном иней. И казалось – кровь дышит…
Словно припав к земле, вытянулось невысокое мрачное здание. Закопченный обрубок квадратной трубы постоянно дымит и временами выбрасывает языки пламени.
За дверями мороз, а здесь тепло. Гудит пламя в печах. Они закрыты чугунными задвижками, в каждой из них – круглое окошко, сквозь которое видно, как пляшет, беснуется огонь.
Печи загружены, и «капутчики» отдыхают. В углу крематория свалены обнаженные трупы очередной партии. Удушенные газом. Умершие от голода. Запоротые на смерть. Расстрелянные. Не выдержавшие каторжного труда. Скошенные болезнями…
Четыре часа утра. Вот-вот раздастся сигнал к аппелю, взвоет сирена, и из бараков на аппельплац потянутся живые скелеты, одетые в полосатые робы. Привычным движением каждый снимет головной убор и с прихлопом опустпт руку на бедро. Часами заключенные будут стоять на морозе, не шелохнувшись. В деревянных колодках на босу ногу. Страшно медленно движется время, хотя сама смерть подгоняет его.
В морозные дни «капутчикам» достается. Из всех бараков в крематорий приносят трупы умерших за ночь. Приволокут сюда и тех, кто упадет замертво, не выдержав издевательского ритуала пересчета.
В команде «капутчиков» – новичек. Он выдает себя тем, как опасливо, осторожно берется за труп, укладывая его на носилки. Выделяется новичок и одеждой. На его куртке, на спине и груди намалеван белый круг с красным яблоком. Это «флюгпункт». Он означает, что узник совершал побег. Каждый эсэсовец, когда ему вздумается, может упражняться в стрельбе по той живой мишени.
«Капутчики» знают, что и их дни сочтены. Больше одного-двух месяцев редко держат команду крематория – «капут-команду». Ее «ликвидируют» в газовой камере, и другая команда затолкнет их трупы в эти вот печи.
И все-таки им жалко новичка. Они еще верят в чудо – надеются вернуться в бараки. А того смерть подстерегает на каждом шагу.
«Капутчики» отдыхают. Присев на низенькие козлы они слушают нового товарища. Под красным треугольником к его робе пришит грязный лоскут с черными цифрами 37771. Они заменяют здесь и фамилию и имя. Подводят черту под прошлым. Не оставляют права на будущее.
А еще совсем недавно «гефтлинг» № 37771 был командиром отделения связи Мамедом Велиевым.
II
– В семье я был девятым. После меня появились еще брат и сестра.
Кормил нас голос отца, сельского хананде – певца на свадьбах и праздничных обедах.
Сестры не в счет, а из братьев только у меня оказался сильный, звонкий голос. В пятнадцать лет я уже подпевал отцу, и он был доволен. Отец учил меня, как петь и как беречь голос. Неграмотный был старик, а знал секрет правильного дыхания. Без этого ведь певец – не певец.
Что мы пели? Мугамы, дастаны о герое Кероглу, песни на слова Низами, Физули, Вагифа, исполняли народные мелодии.
Жилось нам трудно. Часто не было в доме куска хлеба. Но уже тогда я заметил, что не всякий заработок интересовал отца. Бывало, отказывался он от приглашения. Наотрез. Не помогали тогда ни обещания хорошо заплатить, ни посулы богатых подарков. Не уступал он даже умоляющему взгляду матери.
Как-то я не выдержал:
– Почему ты отказываешь Аскеру-ами?[28]28
Ами – дядя (азерб.).
[Закрыть] Разве он нехороший человек?
– Среди змей хороших и дурных не различают, – ответил отец пословицей.
В другой раз он не пошел на торжество обрезания у первенца Ага Бека, известного в округе кочи.[29]29
Кочи – наемный убийца (азерб.).
[Закрыть]
– Отец… – начал было я.
– Надо быть слугой совести и хозяином воли, – отрубил он и прогнал меня с глаз долой.
Умер отец внезапно. Пел он где-то, как вдруг кровь, хлынула горлом. В дом принесли уже мертвым…
– «Вассер!» «Вассер!» – прерывает рассказ Мамеда Велиева условный сигнал.
Дверь распахнулась от резкого толчка снаружи. Дохнуло морозом. В крематорий вошли два эсэсовца в белых халатах поверх шинелей и двое «зеленых».
«Капут-команда» мигом вскочила. Застыла смирно.
Один из «зеленых» с деревянным лотком в руке пошел с эсэсовцами туда, где лежали трупы. В лоток с тупым стуком падали челюсти с золотыми зубами и коронками вырванные у мертвецов.
Между тем второй «зеленый» заинтересовался узником 37771.
– Русише швайн! – Он подошел к Мамеду Велиеву и ткнул кулаком в мишень на робе. – Зольдат пиф-паф унд рус ист капут. – Немец хрипло засмеялся.
Узники молчали.
Немигающим взглядом Мамед Велиев уставился на уголовника. И тот оборвал смех.
– Думмер керль[30]30
Глупый парень (нем.).
[Закрыть] – сказал «зеленый», подступая еще ближе. – Золотой зубка маешь? – Он потянулся раскрыть рот узника.
Резким движением Мамед Велиев отбросил руку уголовника и плюнул ему и лицо.
«Зеленый» ошалело утерся. Потом кинулся на Мамеда и сбил с ног, принялся пинать башмаком. На шум прибежали эсэсовцы, в руках блеснули пистолеты.
– Вас ист лос?[31]31
В чем дело? (нем.).
[Закрыть] – крикнул эсэсовец и, выслушав «зеленого», выстрелил, не целясь, в лежащего.
Эсэсовцы и «зеленые» ушли.
«Капутчики» наклонились над Мамедом, приподняли ему голову. Мамед открыл глаза, медленно, опираясь на руки, сел. Живой. К счастью, промахнулся эсэсовец.
– Надо же тебе было связываться с ним, – сказал один из «капутчиков».
Мамед Велиев вытер рукавом окровавленное лицо, разбитое башмаком «зеленого». Пробормотал:
– Промокшему – что бояться дождя…
Было время загружать печи. «Капутчики», подхватив носилки, поплелись забирать трупы.
III
Прошли сутки.
За ночь Мамед Велиев еще больше осунулся. Большие черные глаза, над которыми мохнатыми козырьками нависли брови, лихорадочно блестели. В рядах крепких зубов чернели провалы…
Вдруг по его лицу будто скользнул светлый луч. Появилось подобие улыбки, но тотчас она сменилась гримасой боли. Подсохшие было на губах и скуле раны потрескались. Проступила кровь.
А улыбался Мамед Велиев потому, что явственно увидел Приморский бульвар родного Баку. Дрожала зыбкая лунная дорожка на темной глади бухты. Темнели очертания городских купален. На еле различимом горизонте перемигивались огоньки, зеленые и красные. Мамед постоял у парашютной вышки, затем втянулся в неторопливое движение тысяч горожан, которых привел сюда душный бакинский вечер…
С трудом отогнав мираж, Мамед увидел печи. Он поежился, хотя в крематории было жарко. Осторожно провел языком по губам.
– Рассказывай дальше, – попросил один из «капутчиков»
Мамед припомнил, на чем он вчера остановился, и продолжил свой невеселый рассказ:
– После смерти отца я поехал к дяде в Баку. Закончил техникум и стал оператором на промысле. Потом поступил в Политехнический институт. Выступал в ансамбле Дворца культуры нефтяников…
Я все говорю: стал этим, стал тем, – прервал он самого себя. – А человеком?… Человеком я стал в Аджимушкайских каменоломнях под Керчью.
…Было это в Крыму, в мае 1942-го. Мы отступали. Творилось черт знает что. Через Керчинский пролив переправлялись кто как мог. В гуще самодельных плотов, лодок, перегруженных баркасов рвались немецкие снаряды и мины.
Наша группа подошла к Аджимушкайским каменоломням. Днем и ночью тянулись сюда беженцы – женщины, старики, дети. На что рассчитывали? Не знаю. Хоть от бомбежки укрыться…
Связь с командованием нарушилась. Мы двигались в общем потоке к переправе. Но я замени, что не только гражданские искали убежища в каменоломнях: туда уходили и некоторые воинские части, закатывалась боевая техника.
«Наверно, здесь будет линия обороны», – подумал я. По правде сказать, тянуло на тот берег. Там безопаснее… Вот и получилось, что один Велиев говорит во мне: «Йохаши, Мамед, чего ты хочешь? Люди отступают – отступай и ты». Другой Велиев укоряет: «Здесь твои товарищи будут биться с врагом. Задержат его. Помогут тем, кто переправится на другой берег, собраться с силами. А ты оставишь товарищей?… Тебе тяжело? Но говорят же в народе: «Если ты устал, знай, что друг твой устал вдвойне»
Не знаю, сколько бы еще спорили эти два Велиева, но все решил старший лейтенант Федор Казначеев – мой земляк, бакинец. Издали узнал он меня и крикнул: «Эй, Сураханы-Балаханы! Давай своих связистов сюда! Есть исправная рация!»
И, хотя кругом шла свадьба шайтана с ведьмой, поверьте, легче стало на душе. Что еще надо солдату? Есть команда. Есть боевое задание. Выполняй! Одним словом, стали Аджимушкайские каменоломни нашей крепостью…
Как и вчера, рассказ Мамеда прервал приход эсэсовцев. Они привели команду, которая просеивала пепел сожженных. Искали в пепле золото, драгоценные камни. Иногда находили. Ничего не пропадало на этой адской Фабрике смерти…
Проводив взглядом «золотоискателей», Мамед продолжал:
– …Так вот и попал я в каменоломни. Это был настоящий подземный город. Высоченные стены. Тянет от них холодом и сыростью. Тускло мерцают редкие электрические лампочки. Огромные залы, коридоры, закоулки забиты людьми. Вот тебе и Сураханы-Балаханы…
Через пару дней стало ясно: мы отрезаны. И тут началось…
К нам засылали провокаторов. Прямой наводкой стреляли по главному входу в каменоломни (тогда и ранило меня осколком в ногу), пытались прорваться в него танками.
Беда валила со всех сторон. Настал день, когда суточный паек дошел до 25 граммов сахара. И ничего больше… Мучила жажда. Мы приникали ртом к ноздреватым влажным стенам, пытались высасывать из них воду. В тоннеле была узкоколейка, и по утрам люди припадали к рельсам и вылизывали проступавшую на металле росу…
И все-таки жизнь продолжалась. Принимали мы передачи из Москвы. Вывешивали сводки Совинформбюро. Круглые сутки вели наблюдение за противником. У заваленных входов стояли часовые. Боевые группы занимали свои участки обороны.
Выдолбили мы что-то вроде колодца. По капле собирали воду и в первую очередь раздавали ее раненым и детям. А настоящий колодец был недалеко от каменоломни – у немца, под усиленной охраной. Казалось нельзя и подступиться к нему. А вот – подступались. По ночам смельчаки ползком подбирались к колодцу забрасывали немцев гранатами. Пока к гитлеровцам подходило подкрепление, наши успевали наполнить водой несколько ведер и котелков.
Такие вылазки (мы называли их «психическими атаками») дорого обходились. А фашисты дошли до того, что забросали колодец трупами наших солдат. Были колодцы и подальше. Но вылазки к ним требовали еще больших жертв.
Неважны были и мои дела. Случалось мне и прежде поранить руку или ногу. Несколько дней – и рана заживала. А тут – гноилась без конца.
Жил я в отсеке, где работала рация. Подымался через силу и час-другой дежурил. А то лежу, бывало прислушиваюсь, как стучит кровь под повязкой. Приходили мне на память дастаны про Кероглу и, сам не знаю, как получалось, – начинал петь.
Султан или хан – не боюсь никого.
Пусть выйдет, кичлив, – испытаю его.
Мужи да не прячут лица своего.
Пусть скачут, копей торопя, пусть выходят.
Главу Кероглу не склонит пред врагом.
Кто смел – тот стоит как гранит пред врагом
Победный мои клич раздается кругом:
Останусь, врагов истребя, – пусть выходят…
Пою, кажется, совсем тихо. А открою глаза – кругом люди. Подползли даже раненые. Песня из глаз высекала слезу. И просят: «Пой еще, пой…».
Понемногу рана заживала. Но в наряд меня не назначали. Опять стала мучить совесть. Рядом умирали от голода и жажды женщины, дети, раненые. Казалось они смотрели на меня с укором: «Ты же еще можешь ходить, держать гранату в руках. Почему не просишься в вылазку к колодцам?» И вот однажды, когда выкликали добровольцев для «психической атаки», моя рука раньше языка сказала: готов!
Вызвался в тот раз и старшина склада ОВС[32]32
ОВС – обозно-вещевая служба.
[Закрыть] Даниил Минков. Был он из попов, что ли. Несколько раз, когда я называл его Данилой, он поправлял: Даниил, Даниил Владимирович.
Задание нашей группе было дано не такое трудное, как штурм колодца. Недалеко от каменоломен утром убило лошадь. Мы должны были подобраться к ней и нарезать как можно больше мяса.
Оставили мы при себе только оружие да жестяные медальоны. Пришлось мне расстаться с фотографией Светланы. Если у бьют – чтоб карточка не досталась фашистам.
Поползли мы рядом с Минковым, голова к голове. Немцы нас, наверное, не заметили, но все равно стреляли наугад – темноты боялись. Где от меня отстал Даниил – я впопыхах не заметил. А когда вернулись с вылазки, хватились – нет Минкова…
Снова сигнал опасности.
«Капутчики» встали, задвигались только бы их не застали без дела. Но все обошлось: отделение эсэсовцев прошло мимо крематория.
IV
– Чего только не творили фашисты, продолжал Мамед Велиев. – Однажды забросили к нам дымовые шашки. Что было!.. Женщины задыхаются, мечутся, прикрывают детей своим телом. Противогазов-то на всех не хватало…
Дальше – хуже. Глухой ночью, бывало, стены задрожат от взрывов. Глыбы камня обрушивались на людей. Заваливало ходы сообщения. После одного из таких взрывов попали к нам фашистские листовки. Мы прямо глазам своим не поверили: на. листовках – фотография Минкова и его письмо к нам.
Писал Минков, что перебежал к немцам и они с ним хорошо обращаются, хорошо кормят. Еще писал он, что нашел спасение от «большевистских комиссаров». Немцы будто бы просили его передать нам искренний совет – «прекратить бесполезное сопротивление и тем самым избежать ненужных человеческих жертв».
Вот какая гюрза жила рядом с нами! А что из себя представлял этот самый Минков? Высокий, но какой-то дряблый. Нижние зубы выдавались у него вперед, а губа отвисала. И напоминал он лицом беззубую старуху. Глазки маленькие, все мимо людей смотрели – больше в ноги. Ходил он с наклоном вперед, как обезьяна.
«А может быть, Минкова ранили, взяли в плен и от его имени составили листовку?» Приходило в голову и такое. Гитлеровцы ведь на грязное дело мастера.
Как-то утром посты наблюдения сообщили, что немцы готовят новую пакость. Понатыкали новых пулеметных точек против выходов из каменоломен. Подвозят какие-то шланги…
В нашем отсеке умирал тяжелораненый лейтенант Чебаненко. Умирал в полном сознании. Когда заработал движок и стало немного светлее, лейтенант достал из планшета листок бумаги, карандаш и начал писать что-то. Видно, трудно ему это давалось: рука плохо слушалась.
– Что, товарищ лейтенант, письмо писать надумали? – попробовал я пошутить. – Почтальон наш что-то задерживается…
– Мое письмо дойдет, ответил он, а сам дышит тяжко, с хрипом. – Будет оно здесь, с партбилетом…
Что-то еще хотел он сказать, но тут силы покинули его. Застонал, вытянулся, затих… Сложил я ему руки на груди, как у русских положено. Взял письмо из похолодевших пальцев и, прежде чем вложить его в партийный билет, прочитал.
«Большевикам и всем народам СССР, – писал лейтенант Чебаненко. – Я небольшой человек. Я только коммунист – большевик и гражданин СССР. И если я умер, так пусть помнят и никогда не забывают наши дети, братья, сестры, что эта смерть была борьбой за коммунизм, за дело рабочих и крестьян. Война жестока и еще не кончилась. А все-таки мы победим…»[33]33
Подлинный документ (прим. авт.).
[Закрыть]
Сто раз, наверное, перечитал я письмо. На всю жизнь запомнил. Я думаю, такое письмо надо – на полковое знамя. Под портретом Ленина…
24 мая 1942 года, как сейчас помню, пробили сигнал тревоги. Сначала не поверили – газы!
Что творилось на наших глазах – разве передать?
К нам на узел связи пришли начальник обороны полковник Ягунов и комиссар Парахин. Полковник не дал старшему лейтенанту Казначееву закончить рапорт, протянул листок с текстом. Казначеев пробежал его глазами и, вижу, лицо стало белее мела… Начал он выстукивать радиограмму своим особым, казначеевским почерком, а я на слух ловил точки и тире морзянки открытого текста:
«Всем! Всем! Всем! Народам Советского Союза! Мы, воины подземного гарнизона, защитники Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но врагу не сдаемся…»[34]34
Подлинный документ (прим. авт.).
[Закрыть]
Сам не знаю, какая сила подняла меня на ноги. Старший лейтенант еще и еще раз послал в эфир смертную нашу клятву.
Последнее, что я помню, грохот взрыва…
Из-под обвала меня, тяжело раненного, вытащили немцы. Когда я пришел в себя, рядом стоял какой-то человек. Помню его слова: «Ну вот, очнулся. Значит будешь жить!»
Военфельдшер Петр Никонов – вот кто выходил меня. Ему я жизнью обязан…
Погнали нас в Симферополь. Кто от колонны отстанет – стреляют. Упал – стреляют. Отошел к канаве воды напиться – стреляют. Тащили меня под руки Никонов и еще один солдат.
В Симферопольском лагере я попал в барак для раненых. И здесь меня Никонов разыскал. Принесет, бывало, кусок хлеба или обрывок бинта, а случаюсь – вареную картофелину. Стал я выздоравливать. Вывел меня Никонов, я еле-еле приплелся к ним в барак, да и остался там. Хороший народ у них подобрался. «Организуют» чего-нибудь поесть – сначала выделяют слабым, а потом делят поровну.
Как-то раз – я уже порядком окреп к тому времени – дернул меня шайтан выйти погреться на солнышке. Хожу по лагерю. Картина известная, Сураханы-Балаханы. Один портянки стирает. Другой выставил худую, в коросте, спину и ищет в грязной рубахе. В одном месте – настоящая «Кубинка».[35]35
«Кубинка» – район, где когда-то в Баку, находился «толкучий» рынок.
[Закрыть] Меняют барахло. Возле сарая стояла группа людей, я решил подойти к ним – может быть, земляка найду. Подхожу – слышу знакомый голос с приквакиванием. А треплется он, будто аджимушкайцы раскопали у своих командиров припрятанный подпольный склад продуктов.
Протлкался я в середину – и обомлел. Кто бы, вы думали, провокацию разводит: Даниил Минков.
Подлец узнал меня.
Бросился я на него. «Сволочь! – кричу, – Падло! Предатель!..» Хотел за горло схватить, но он вывернулся, только по щеке я его смазал. Разняли нас. Отвели меня в барак.
Утром я уже сидел в «политабтайлунге».[36]36
Политабтайлунг – лагерное гестапо (нем.).
[Закрыть]
– Ты занимаешься тут большевистской агитацией, признавайся! – орал гестаповец.
Я ответил, как Никонов научил: мол, Минков оскорбил мою веру, и я не мог простить ему этого.
– Врешь! Ты есть комиссарский помощник! Мы все знаем. На, вот читай, да поживее, – протянул он мне бумагу. – И назови комиссаров, евреев и коммунистов, которые замаскировались в лагере.
Читаю. Узнаю аккуратный почерк Минкова:
«По вашему приказанию, господин комендант лагеря, представляю на ваше распоряжение свое объяснение в вязи с дракой, учиненной сегодня в лагере, и пострадавшим от коей являюсь я». Вот выкомаривался, собака!
Кончалось заявление тем, что Минков будто бы постоянно видел меня возле командования, и, значит, я пользовался особым доверием комиссаров.
Я стоял на своем. Меня били. Били свирепо, особенно один фашист, неплохо говоривший по-русски.
– Ты, коммунист, – кричал он, – признавайся!
А я ему в ответ: «Собачий ты сын! (эти слова я сказал по-азербайджански). Да, коммунист! И не солдат я. Я – лейтенант Чебаненко».
Бросили меня в карцер.
Снова вызывают.
Сидит у следователя Минков и говорит:
– Никакой он не Чебаненко. Врет. Он командир отделения. – И ко мне обращается: – Надо уважать в наших же интересах установленные порядки…