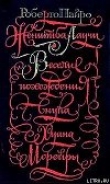Текст книги "Жить воспрещается"
Автор книги: Илья Каменкович
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
ЛИСТКИ ИЗ ДНЕВНИКА ЭСЭСОВЦА
Этих людей надо бить палками при жизни; ведь после смерти их нельзя наказать, нельзя опозорить их имена, заклеймить, обесчестить ибо от них не останется даже имен.
Г. Гейне
20 апреля 1944…
Сегодня, в знаменательный для нашего фюрера день, я убрал человека, который оказался неспособным выполнять высокую миссию эс-эс, начертанную Адольфом Гитлером
Я выполнил приказ начальника.
Позавчера, когда мы остались вдвоем, шеф тихо и несколько торжественно обратился ко мне:
– Вам доверяется ответственное поручение в интересах чести эс-эс. Три дня назад во время известной вам акции у N сдали нервы. Он не только прекратил участие в экзекуции, но дошел до того, что скрылся в лесу, провел там остаток дня и только вечером явился в лагерь. Он обнаружил отсутствие германской твердости при выполнении приказа об уничтожении врагов рейха. Мне, конечно об этом донесли, и я принял решение. Падение N угрожает сохранению тайны акции и может оказать разлагающее влияние на других наших подчиненных. Вы, как мне известно, были в отличных служебных отношениях с N. Так вот. Пригласите его к себе в домик. Поговорите душам. Выпейте с этим слизняком и примените к нему то, что мы называем «зондербехандлунг»… Позвоните мне в любое время дня или ночи, когда все будет кончено. Остальное сделают люди из «похоронной команды», все равно уже выходит срок, и в барак они не вернутся. Тайна сохранится, будьте уверены! Хайль Гитлер!
– Хайль Гитлер! – ответил я.
Поручение шефа мне показалось не таким уж сложным.
… Посылка № 28. Сало. Мех на воротник. Килограмм шерстяных ниток. Безделушки.
… С наслаждением слушал Вагнера. Перебирал фотографии. Как вырос мой Мартин! Настоящий мужчина! Скоро можно будет взять его сюда на практику. Пусть для начала посмотрит как действует наша «баня». Пусть закаляется.
Долго обдумывал, как провести «операцию». Не просто все это, не просто… Зол на самого себя. Никогда раньше не страдал нерешительностью.
Не выполнить поручение шефа – равносильно измене. В лучшем случае он отправил бы меня на Восточный фронт. Но где гарантия, что он не поручил бы кому-нибудь «ликвидировать» и меня?
Письмо от Анны-Марии, Много нежностей. Обычная для Мартина приписка: пришли ему то, пришли другое…
27 апреля…
Ура! Шеф предоставил мне отпуск на 10 дней! Поеду домой. Жди, Анна-Мария.
Теперь, когда все позади и N. как мы говорим, «вылетел в трубу крематория», хочется записать некоторые подробности. Обычно до перерыва на обед я успевал обработать две партии по двадцать человек. Это в среднем 45–50 выстрелов. Потом шел обедать и уже оставался в канцелярии. Словом, обычное дело. Но в тот вечер мне предстояло совсем другое… У себя дома… Как бы там ни было, а N все-таки немец, коллега…
В ожидании N я убрал ковер из кабинета. Зажег настольную лампу. Поставил на столик бутылку коньяка, рюмку, коробку сигар. Тяжелую хрустальную пепельницу на всякий случай убрал со стола.
И вот N у меня. Вначале он молча расхаживал по кабинету и это меня нервировало. В кармане брюк я то и дело нащупывал рукоятку «Вальтера», чувствуя, что рука взмокла от пота. Приемник работал на средней громкости.
Мы выпили по рюмке. Потом я спросил, как бы между прочим:
– Что там у тебя стряслось?
– Да так… минутная слабость, – ответил он. – Какое-то наваждение…
N сорвался с кресла и снова пошел мерить комнату своими негнущимися ногами. Отвратительно скрипели его сапоги. Когда он оказывался спиной ко мне, трудно было сдержаться, чтобы не влепить пулю в его потную лысину. Потом он снова плюхнулся в кресло, вытер платком лоб и наполнил рюмки.
– Не могу простить себе той выходки…
– Постой, что же все-таки было? – спросил я.
– Что было? Посуди сам: акция уже подходила к концу. Я, конечно, порядком устал. Несколько недобитых шевелилось под грудой трупов. Пока приводили очередную партию, стало тихо. Слышно было только, как осыпается край рва. Черт знает, кому вздумалось оставить на последок женщин с детьми… Трудный был день…
N закрыл глаза и медленно произнес, как бы вслушиваясь в собственные слова:
– Ров почти доверху заполнен трупами! И как геройски умеет умирать большевистская молодежь! Что это такое – любовь к отечеству или коммунизм, проникший в плоть и кровь? Некоторые из них, в особенности девушки, не проронили ни слезинки…[12]12
Из дневника Фридриха Шмидта, командира 626 отряда полевой жандармерии.
[Закрыть]
Помолчав, он продолжал:
– Нервы мои были взвинчены до предела. Наконец, осталось что-то с три десятка женщин и детей. Когда их подвели ко рву, начался плач, крики – ну, как обычно. Пришлось дать очередь поверх голов. И вот что удивительно: идут ведь на смерть, чего еще бояться? Но автоматная очередь заставила их умолкнуть. Несколько грудных как ни в чем не бывало, сосали материнскую грудь. Муторно стало мне от всего этого. От этой тишины. Чтобы подбодрить себя, я крикнул: «Шнель! Шнель» и стал подгонять женщин. С тобой этого не бывало?
Я молчал.
– Осторожно, будто боясь причинить боль мертвецам, – продолжал N, – укладывался последний ряд. Я подошел к краю рва и приготовился. И тут какая-то девчонка, евреечка, повернулась на бок и уставилась на меня своими черными глазищами. Рот приоткрыт, губы шевелятся. Я невольно наклонился к ней. «Дяденька, – спросила девочка, – дяденька, я правильно лежу?» Вот тогда все и случилось…
N закрыл лицо руками. Голова его упала на грудь.
Левой рукой я увеличил громкость радио, выхватил «Вальтер» и одну за другой всадил в голову N две пули…
МОЙ МАЛЬЧИК
Всякий родится, да не всяк в люди годится
Немецкая пословица
– Вот они, эти проклятые сто марок!
Седая полька запихивала деньги в карман моей шинели и, перекрывая пыхтение паровоза, кричала: «Бери, шкоп проклятый! Не строй из себя святого! Бери, и пусть бог милостивый видит, чем вы торгуете! Бери, чтобы ты не знал покоя ни на этом, ни на том свете!»
Другие польки бросали деньги молча и одубелыми на жестоком морозе руками (часами они ожидали наш транспорт!) бережно принимали детей, которых солдаты вытаскивали из вагонов.
Поезд тронулся, а старуха, завернув «моего» мальчика в одеяло, все еще стояла на путях, и облачко пара у ее рта показывало, что она еще не выговорила всех проклятий
Да, было в моей жизни такое.
…А все началось с письма этого недоноска Альберта – племянника старого Неймгена. Пришел я как-то к старику. Неймген был явно навеселе. Попыхивая трубкой, он встретил меня своим излюбленным: «Ну, что я говорил!»
– Ну, что я говорил! Речь рейхсминистра Геббельса слышал?
– Нет, я работал в третью смену. Что-нибудь важное?
– Не слушаешь радио, так почитай хотя бы вон то, что висит на стене в рамке, под портретом фюрера.
Я подумал, что Неймген меня разыгрывает. От старика можно было всего ожидать. Но к стене подошел. Под стеклом было письмо Альберта с фронта. Я запомнил его до последнего слова:
«Дорогой дядюшка! Я не могу в эти минуты не вспомнить тебя и своего обещания тебе. Десять минут тому назад я вернулся из штаба нашей гренадерской дивизии, куда возил приказ командира корпуса о последнем наступлении на Москву. Через два часа это наступление начнется. Я видел тяжелые пушки, которые к вечеру будут обстреливать Кремль. Я видел полк наших гренадеров, которые должны первыми пройти по Красной площади у могилы их Ленина… Это конец, дядюшка! Ты знаешь, я не восторженный юноша… Это конец! Москва наша! Россия наша! Европа наша!
Тороплюсь. Зовет начальник штаба. Утром напишу из Москвы и опишу тебе, как выглядит эта прелестная азиатская столица».[13]13
См. сб: «От Москвы до Берлина». М., 1968, стр. 402.
[Закрыть]
– Погоди, – сказал я. – Но письмо шло четыре дня, а сообщения о взятии Москвы еще нет…
– Мало ли что бывает. Может, ждут фюрера, чтобы он с первыми частями вошел в сталинскую столицу. Побывал же фюрер в Вене, Париже…
– Эх, старик! Побывал в Москве Наполеон. А чем все кончилось?
– Ну, знаешь… такие примеры… Наш фюрер…
– Наполеон, кстати, тоже начал войну 22 июня. Поживем-увидим. Какая будет сегодня погода, скажу завтра…
– Можно подумать, что ты, Франц, не радуешься победам нашего оружия…
Справедлива наша пословица. «У умной головы рот закрыт». Я забыл про это. Разговор не клеился. Неймген стал показывать подарки, которые прислал ему Альберт из Праги, Варшавы, Парижа, из Бельгии. Эго были сувениры – зажигалки, всякие там потешные вещички, и среди них даже настоящее чучело кобры, свернувшейся кольцами.
– А что Альберт прислал с Восточного фронта? – спросил я.
Старик Неймген замялся и ответил, что ожидает самовар из Москвы.
– Как бы не пришлось тебе долго ждать…
Потом включили приемник. Наш «радиогенерал» что-то заливал о союзнике русских-«генерале-морозе», о каком-то лейтенанте, который проявил чудеса «истинно германской доблести», о фанатическом упорстве обреченных защитников русской столицы…
Через неделю меня арестовали за «пораженческую пропаганду».
Всю жизнь я избегал политики. И вот попал на «исправление» в концлагерь Саксенхаузен с красным «винкелем» политического на полосатой робе.
Там-то я подружился с коммунистами – славные они, смелые. Дружил я и с ними и попался, когда передав одному из них лекарство, «организованное» в ревире.[14]14
Ревир – госпиталь в лагере.
[Закрыть]
Добавили мне еще два года «исправления». А в 1944 году, в январе, попал я под «тотальную» мобилизацию. Было мне уже под пятьдесят. Зачислили солдатом в конвойную роту.
Командиром был старый наци Брейтхубер.
Какое-то время мы перевозили политических из разных концлагерей в Маутхаузен, что в Нижней Австрии. А в тот злосчастный месяц дали нам перевозить детей в Аушвиц.[15]15
Немецкое название Освенцима.
[Закрыть] Мой бог, что это было за грязное дело! Детей, кое-как одетых, набивали в товарный вагон так, что казалось, им и повернуться нельзя. На полу тонкий слой соломы. Ни тепла. Ни воды. Мороз сбивал детей в живой ком, который в пути обрастал мертвецами…
На остановках жуткий протяжный стон и плач несся из каждого вагона. К поезду сбегались женщины. Откуда только узнавали они о нашем транспорте? Женщины плакали, молили открыть двери, чтобы передать детям кто что мог. Ну, Брейтхубер живо наводил тут порядок.
Однажды поляки попросили Брейтхубера отдать им детей «Ведь больше половины из них все равно умирает в дороге…» Предложили деньги. Но Брейтхубер взятки испугался, показал свою «неподкупность». Однако через ефрейторов (в большинстве амнистированных уголовников) он дал понять, что закроет глаза, если из каждого вагона «уйдет» по десятку детей.
Солдаты бросали жребий, кому достанется малыш. На очередной станции каждый продавал «своего» ребенка за 50 марок. Из них 30 получал Брейтхубер. Скоро по всей линии поляки узнали о «коммерции» нашей роты и встречали транспорт на каждой остановке. Тогда Брейтхубер повысил цену – сто марок за ребенка.
Случилось так, что из десяти детей, которых выделил ротный нашему вагону, один по жребию достался мне. Я выбрал худенького остроносого мальчика с большими голубыми глазами. Я дал «своему» мальчику теплые носки, выслужившую срок рубаху и носовой платок. Возле Кракова наш вагон должен был продать свой десяток…
Когда все это произошло, я сперва отказался от денег.
Я же оставался человеком. Но яростная настойчивость старой польки оказалась сильнее моей решимости. Вы спросите – почему? Тогда я не сумел бы ответить. Теперь я знаю: я смутно почувствовал, что не вправе снимать с себя вину за то, что творилось… И эти сто марок должны были напоминать мне об этом. Я сохранил их, рассчитался с Брейтхубером другой купюрой…
Вот так-то, товарищ…
Я слыхал, вы собираете «сувениры» гитлеризма. Правильно это. Показывайте их людям. Чтоб не забывали. Может, вам пригодится и этот «сувенир»…
С этими словами Франц Фишер, семидесятилетний берлинец, протянул мне старенькую мятую бумажку в сто немецких оккупационных марок.
«ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС» И «НОВАЯ ЕВРОПА»
Страдание – позор мира и надо его ненавидеть, чтобы истребить.
М. Горький
Зимней стуже и всем ветрам открыто это приземистое строение – не то сарай, не то конюшня.
Две жирные единицы, выведенные черной краской на стене у входа в здание, означают его номер в мрачном городке, населенном людьми, придавленными болезнями, непосильным трудом, голодом, ожиданием неминуемой гибели…
Одиннадцатый барак города смерти давно погружен в темноту и, по мысли лагерного начальства, в сон. Ветры не вымели из барака тяжелого смрада от немытых тел, пота, гноящихся ран… Ночь не принесла успокоения тем, кто свалился без сил на деревянные нары. Тишина в бараке то и дело нарушается безумным вскриком, зубовным скрежетом, стонами… Холод заставил узников прижаться друг к другу. Тесно. Повернуться на бок можно только одновременно всей пятеркой.
На третьем ярусе нар у самого угла барака – пятеро. Пятеро под рваным тонким одеялом. Это еще совсем дети.
Двое не спят. Жарко дыша в ухо товарищу, старожил барака расспрашивает новичка, наставляет…
– Сколько лет тебе?
– Тринадцать скоро исполнится.
– Пацан еще. Мне вот-не вот пятнадцать. Здесь я уже два месяца. Нас везли – еще тепло было. Почти все живыми доехали. Голодали только.
– А у нас в вагоне трое замерзли и чья-то бабушка, сошла с ума. Плохо было очень.
– Хватит кисель размазывать! Здесь еще насмотришься. Порядкам научись!
– Ты как сюда причалил?
– Мы из Ленинграда на Кубань эвакуировались, а немцы перехватили. Злые они на ленинградцев – ужас. Взрослых всех расстреляли. А нас сюда…
– Вот что, слушай, запоминай, присматривайся. Тут чудес много. Зазеваешься – плохо будет. Если только на козе прокатят – считай себя счастливым… А то и пулю заработать очень просто…
– На козе?
– Она вроде деревянной кровати, только без спинок и короткая. Уложат голым задом кверху, начнут лупить и заставят удары отсчитывать. По ягодицам ремнем еще терпимо. Вот если «бананом», да повыше поясницы – пропадает человек. Отбивают все внутри…
– Бананом?
– Это у эсманов палка такая. Верх резиновый, а начинка – железная. От тела куски отрывает… Главное – запомни свой номер. Станешь на аппель – все из головы выбрось – слушай. Не проморгай, когда твой номер вызовут, – отзовись. Подадут команду: «Мютцап!» – пулей руку к голове и снимай кепку. Останешься в мютце как белая ворона, влетит – до смерти запомнишь…
– А что мы здесь делать будем?
– Сюда убивать привозят. Одних быстро, а других прежде работать заставляют.
– На воротах лагеря я прочитал – «Арбайт махт фрай»
– Будет тебе «фрай» – порадуешься! Слушай сюда! На работу попадешь, следи, где капо, откуда эсман появится. При них работать надо быстро, держаться бодро. Не вздумай хныкать или «кантовать»! Соображай, когда фрицы отвернутся или покурить пойдут. Еще вот, до пятницы чтоб не оставалось у тебя ни одной «танкетки»…
– Как ты сказал?
– Вшей одним словом. Я дам тебе гребешок. Сначала голову прочеши как следует. А то на робе убьешь, а они с головы наползут…
– Здесь, что – по пятницам баня?
– Это только для вас – «цугангов»[16]16
Новоприбывших, новичков (нем.).
[Закрыть] баня. А мы знаем: газовня это. Там душат газом…
– Живых?
– Ну и чудак ты… Конечно, не мертвых. Отец мой в девятой штубе. А меня «лойфером» пристроили. Бегаю весь день из канцелярии в бараки, в ревир, на склады. Папку под руку и шурую по «гитлерштрассе», как по Дерибасовской у нас в Одессе… Бумажки разношу. Ну, еще кое-что делаю… Не теряюсь…
– А папа что?
– Он дорогу строит. Хорошо, что сам на себя посмотреть не может. Страшным стал. Скелет настоящий. А в порту бывало тюк табаку на спину и айда в трюм – на спор, конечно. Силен был!
– И его убьют?
– И его, браток, и его… Как всех. Как недавно дядю Сашу. Только бы не издевались! А то возьмут да пошлют еще на «последний вальс»…,
– Это еще что?
– Есть тут большой железный каток. Дорожный. Как только в рабочей команде кто-нибудь из сил выбьется, его посылают работать на тот каток. По-польски он «вальц» называется. Впрягают 15–20 доходяг…
– Дистрофиков?
– Пусть по-твоему. Впрягут и давай гонять – дорогу трамбовать… Каток тяжелый, а эсманы только и знаю «шнель!», да «шнель!» Палками и плетками гонят. Из упряжки мертвыми выносят. Никто в бараки с того «вальца» не возвращался. И прозвали тот каток «Остатний вальс»… «Последний вальс»…
– Последний вальс. Да… А как же мы?
– Тяжело будет. Мы только вечером в барак сходимся. А днем по разным командам. Если хочешь что-то по-нашему сказать, можно только когда свет выключают. Хлопцы засыпают быстро. Говорить можно вполголоса и киселя не размазывать. Я Чапаева три раза изображал. Сам не верил – здорово получалось. Ты был пионером?
– А я и сейчас пионер. Меня же не исключили! Галстук спрятал только.
– Смотри, береги его. Здесь хоть умри, куска красной материи не увидишь. Пригодится галстук твой! Толы смотри – могила! А то начнешь хвалиться! Нам еще флаг понадобится!
– Понадобится… Последний вальс…
– Ты об этом меньше думай! Лучше как встанешь, миску приготовь. Утром суп получим. Суп не простой! Называется «Новая Европа»… А сейчас спи, браток, спи!
СНОВА ТОЛЬКО РЕПОРТАЖ…
Что слезою сияло,
То солнцем взойдет!
И. Галчинский
Холодным ноябрьским днем 1944 года к нам привели колонну до того истощенных людей, что все они казались скелетами. Отличались друг от друга эти скелеты только ростом, да еще тем, чем смогли они укрыть голову и ноги. Остальное было одинаковым: черно-серые полосатые робы с красным у сердца треугольником политического узника.
Стуча зубами и заикаясь, один из «цугангов» выговорил:
– М-мы из Штуттгофа…
Все стало ясным. Ведь Штуттгоф на человеческом языке означал: пытки… смерть… ад…
Над колонной повисло облако пара, а перед рядами вытянулись трупы тех, кто не вынес чудовищной голгофы этапа.
Несколько сот исстрадавшихся, голодных и больных людей, стоявших на аппельплаце, казались полосными столбами, вбитыми в асфальт. Но так только казалось. Чтобы не замерзнуть, люди топтались на месте и постукивали нога об ногу. Жуткий это был стук…
Люди в колонне стояли молча. Они знали, что их ожидало. Стон или жалобы могли только ускорить путь в крематорий.
Когда выглянуло солнце, колонна перестала быть безликой. В первой шеренге человек с окровавленной тряпкой на голове опирался на плечо товарища. Другой повис на молодом парне, стоявшем как изваяние.
Двое узников поддерживали человека средних. Грудь его была перевязана, глаза закрыты, голова бессильно повисла. Рядом, держась за его безжизненную руку, стоял мальчик лет десяти с большой головой на тоненьком стебельке – шее. Одет он был в тюремную робу не по росту. Ноги в солдатских ботинках. Из одного торчала солома. На груди мальчика алел матерчатый треугольник, под ним – полоска черных цифр.
Началась перекличка.
Эсэсовец, держа на куске картона списки, обходил шеренги, выкликал номера узников, сверял фамилии… Против многих номеров зачернели крестики: умер… умер… умер…
– 77606,– вызвал эсэсовец и упер острие карандаша в этот номер.
– Узник 77606 здесь! – отозвался мальчик в робе не по росту.
Эсэсовец подошел ближе.
– Год рождения?
– 1935, – ответил мальчик и, мешая польские и немецкие слова, обратился к эсэсовцу:
– Мой папа умирает. Его надо в ревир!
– Найдем место и для тебя, и для твоего папы, – деловито ответил эсэсовец и ткнул карандашом в красный треугольник на робе мальчика.
– Да, я – политический… Очень прошу – папу в ревир…
Но эсэсовец уже не слушал его. Он выкликнул номер следующего узника, а карандаш его, между тем, подчеркнул строчку, на которой стояло:
«№ 77606. Фелига Марцель. 1935 год рождения. Участник Варшавского восстания».
О ЧЕМ ШЕПТАЛ ВЕТЕРОК…
Умей слышать и громкое и молчаливое горе…
В. Сухомлинский.
Холодный мрак медленно сползал с окрестных холмов, затянутых пеленой тумана. Небо, до тех пор напоминавшее казенное одеяло, прояснялось. Открывая голубые полыньи, неторопливо плыли облака, подгоняемые ветерком.
Гулял ветерок и над городком бараков. Тепло и мягко обволакивал он одетых в полосатое тряпье людей, прижимавшихся к дощатым строениям, навевал сладкую дрему, уводил от тяжелых дум.
Каким только ни бывает ветер! Как похожи его повадки на человечьи!.. Он может быть откровенным и злым как норд, тихим, но коварным как альпийский фен, вселяющий непонятную вялость и меланхолию. Коршуном налетает он на землю и мрачно завывает метелью. Немилосерден иссушающий «афганец». Будоражит и взвинчивает нервы – сирокко. Страшные бедствия несут тайфуны, почему-то называемые нежными женскими именами…
Согнанные сюда люди были далеки от размышлений о многоликой природе ветра… Пронумерованным клеймом татуировки хотелось одного: пусть ворвется сюда ураган и сметет эти вросшие в землю бараки, прорвет ржавую паутину проволоки в бородавках колючек, унесет прочь приторный дух тлена и крови…
Ветерок, робко пробившийся к людям, был добрым, ласковым и хотелось доверить ему пережитое, чтобы донес он горькую повесть до далеких родных мест…
Будто магнитом притягивал бескрайний океан неба. Люди подымали к нему глаза, но безразлично следили за игрой облаков. От этой неподвижности и упрямо устремленных в небо глаз люди походили на слепых.
Над людьми висело небо, страх и… тишина. Гнетущая тишина тревожного ожидания. Случайно вырвавшийся стон, даже негромко сказанное ребенком слово током пронизывало всех, заставляло вздрагивать, оглядываться.
Из кирпичного домика комендатуры вот-вот должны показаться те, кто одним движением, затянутой в серую перчатку руки, решат их судьбу… И когда из-за крайнего барака показались «они», тишина спрессовалась, готовая, взорваться диким криком отчаяния, мольбой, проклятием, гневом…
Дуновением ветерка занесло в эту тишину шепоток…
– А смерть, это надолго?
– Да, сынок, надолго. Очень.
– Мамочка, а разве…
– Надолго, сынок, но не навсегда. Ты проснешься большим и у тебя будет красный галстук. Твоя фотография будет в газете. И будут писать, что мой сын не испугался фашистов… А сейчас помолчи, родной!
Ветерок, прислушиваясь, застыл.
– А тебя не заберут?…
– Нет, не заберут… Стой тихонько и спокойно!
– Не могу, чешется все…
– А ты очень-очень захоти и все пройдет…
– А все, чего очень хочешь, бывает?
– Все, сынок!
– А если я очень жить хочу?
…И снова немая тишина. Может быть ветерок унес ответ матери, а может быть она не нашла нужных слов…
Шепот тихонько струился уже в другом месте…
Мальчик, заглядывая снизу вверх, с улыбкой что-то говорил матери, дополняя слова жестом тоненькой, как веревочка, руки…
– Правда, ведь маленькие они совсем еще дурачки, не знают, что такое смерть и боятся…