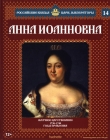Текст книги "Анна Леопольдовна"
Автор книги: Игорь Курукин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Глава седьмая
ПАДШИЕ ПЕРСОНЫ
…Команда моя обстоит благополучно.
Рапорт В. Ф. Салтыкова
«Внутренний неприятель»
Свергнуть «незаконного» (а на самом деле вступившего на престол вполне легитимно на основании петровского указа 1722 года) императора было нетрудно – сложнее было искоренить память о нем. Власти и раньше уничтожали отдельные документы (например, в 1727 году манифест по делу царевича Алексея); теперь же правительство Елизаветы решило устранить всю информацию о предшественнике, «вычеркнуть» его царствование из истории. Сразу же после переворота стали изыматься из обращения монеты с изображением Иоанна Антоновича, публично сжигались печатные листы с присягой, а с 1743 года началось систематическое изъятие прочих официальных документов с упоминанием свергнутого императора и его матери-правительницы – манифестов, указов, церковных книг, паспортов, жалованных грамот и т. п. 471
Поскольку уничтожить годичную документацию всех государственных учреждений не представлялось возможным, целые комплексы дел передавались на особое хранение в Сенат и Тайную канцелярию; ссылки на них давались без упоминания имен. Наследник Елизаветы Петр III, вступив на престол, повелел после снятия необходимых копий уничтожить все дела «с известным титулом», и только очередной переворот не дал выполнить это распоряжение 472.
Первые учебники по всеобщей истории Вейсьера де ла Кроца и Гильмара Кураса, изданные как раз в годы правления Елизаветы («русские» события добавлялись к основному тексту переводчиками), упоминали только об угрожавшем «погибелью» России «незаконном правлении», которое было пресечено Елизаветой. Забвению подлежали также имена бывших министров – и не только в России. Когда в Германии стали появляться в продаже биографии Миниха, Остермана и Бирона, А. П. Бестужев-Рюмин в 1743 году предписал русским послам в европейских странах добиваться запрещения торговли подобными изданиями и «уведать» их авторов. Попавшие же в Россию экземпляры «пашквилей» должны были немедленно конфисковываться и сжигаться.
Масштабную кампанию по «умолчанию» дополняла серия пропагандистских акций. В церковных проповедях евангельские образы и риторические обороты убеждали паству в законности власти Елизаветы как преемницы дел отца и защитницы веры от иноземцев. К этому жанру примыкали другие публицистические произведения, призванные оправдать произведенный переворот: уже упомянутые «Краткая реляция» и «Историческое описание о восшествии на престол Елисаветы Петровны» или «Разговоры между двух российских солдат, случившихся на галерном флоте в кампании 1743 года».
В проповеди надень рождения Елизаветы 18 декабря 1741 года владыка Амвросий (тот самый, который еще недавно благословлял брак Анны Леопольдовны, а затем предлагал ей стать императрицей) оправдывал действия дочери Петра I борьбой с врагами России, которыми представали Миних, Остерман и другие «эмиссарии диавольские»: «…тысячи людей благочестивых, верных, добросовестных невинных, Бога и государство весьма любящих втайную похищали, в смрадных узилищах и темницах заключали, пытали, мучали, кровь невинную потоками проливали», назначали на руководящие должности иноземцев, а неправедно нажитые деньги «вон из России за море высылали и тамо иные в банки, иные на проценты многие миллионы полагали» 473. Антона Ульриха и Анну Леопольдовну владыка теперь величал «сидящими в гнезде орла российского нощными совами и нетопырями, мыслящими злое государству».
Усердие сочинителей приводило к тому, что история свержения императора – «благополучнейшей виктории» над «внутренним неприятелем» – иногда представала в совершенно кощунственном виде. Так, согласно «Историческому описанию», сам Бог «влия благодать свою в немощного и неимущего дома и родителей и мало ведомого, в чине солдатском служащего Георгия Федорова сына Гринштейна» и его приятелей и вдохновил их на подвиг во имя «многострадальной» Елизаветы. Ночной захват власти выглядел священной миссией, которую взяла на себя гвардейская «блаженная и Богом избранная и союзом любви связуемая компания, светом разума просвещенная». Во главе с Елизаветой «по вооружении силой крестною и исшествии из казармы сия блаженная компания… утвердиша слово: намерения не отменить и действо исполнить». После чего заговорщики «поспешением силы крестныя без всякого сопротивления вшед в чертоги царские, принцессу Анну и чад и супруга повелением великия государыни Елисавет Петровны взяша, и отвезены бысть в дом ее величества и лишися власти и санов» 474.
В торжественном «Похвальном слове» на день восшествия Елизаветы на престол М. В. Ломоносов в 1749 году вещал: «Чудное и прекрасное видение в уме моем изображается… что предходит с крестом девица, последуют вооруженные воины. Она отеческим духом и верою к Богу воспаляется, они ревностию к ней пылают…» 475«Дворская буря» явно повлияла на творчество ведущего драматурга эпохи Александра Сумарокова, по совместительству генерал-адъютанта фаворита Елизаветы Алексея Разумовского и начальника канцелярии Лейб-компании. Его «Гамлет», в отличие от подлинника, изображал близкий к российскому вариант событий – подготовленное друзьями принца «силою присяг» народное восстание, в ходе которого герой захватывает дворец, убивает Клавдия и арестовывает главного злодея Полония 476.
Осуждение и шельмование деятелей свергнутого правительства сопровождались традиционной раздачей милостей. Была объявлена очередная амнистия (но уже без снисхождения к осужденным «по первым двум пунктам»), «сложены» по десять копеек штрафов с подушной подати за 1742 и 1743 годы и «казенные доимки» за 1719–1730 годы; ликвидирована сама Доимочная комиссия 477. Тайная канцелярия получила распоряжение «наказаний не чинить» обвинявшимся в оскорблении брауншвейгской фамилии и ложно объявившим «слово и дело» духовным лицам, коих надлежало отныне передавать в Синод. На несколько дней, судя по протоколам, деятельность сыскного ведомства замерла, прекратились допросы и пытки; но уже в декабре канцелярия продолжила обычную работу в прежнем составе и с прежним жалованьем.
Из своих защитников-гренадеров Елизавета 31 декабря 1741 года создала Лейб-компанию – привилегированное воинское соединение телохранителей. Сама она стала ее капитаном; принц Гессен-Гомбургский – капитан-поручиком, Грюнштейн – прапорщиком; прочие офицерские должности в этой «гвардии в гвардии» получили самые близкие к императрице люди: А. Г. Разумовский, М. И. Воронцов, братья П. И. и А. И. Шуваловы. Сержантами, капралами и вице-капралами были назначены наиболее активные заговорщики. Все лейб-компанцы «никакой породы» получили дворянство, гербы с девизом «За веру и ревность» и по 29 крепостных душ. Лейбкомпанцы постоянно сопровождали императрицу в поездках, несли дежурство во дворце – и были убеждены в своем особом положении, перед злоупотреблением которым былые гвардейские «продерзости» выглядят детскими шалостями.
Гренадеры буянили, резались в карты, пьянствовали и валялись без чувств, находясь на карауле в покоях императрицы, приглашали туда с улицы для угощения «неведомо каких мужиков»; гуляли в исподнем по улицам, устраивая при этом грабежи и дебоши; могли потребовать, чтобы их принял фельдмаршал, или заявиться в любое учреждение с указанием, как надо решать то или иное дело; их жены считали себя вправе брать «безденежно» товары в столичных лавках 478.
Много лет спустя Державин писал про правление «царь-девицы»:
Слава доброго правленья
Разливалась всюду в свет.
Все кричали с восхищенья,
Что ее мудрее нет.
Брауншвейгскому же семейству была уготована роль злодеев. Сторонники Елизаветы в процитированных выше сочинениях выглядели боговдохновенными спасителями отечества, а сама она – исполненной христианского смирения, не помышлявшей о престоле и даже целовавшей руку заведомому злодею Бирону – «свинии в вертограде». Анна Леопольдовна, напротив, была представлена недостойной власти – разве могла дочь мекленбургского герцога тягаться с прямой наследницей Петра Великого, у которой «тысяща таковых служащих князей в рабстве престола российского обретается»? Анна же не только угнетала «страждущую Елисавет», но и стремилась присвоить себе царский венец!
Торжествующая добродетель обязана если не быть, то выглядеть милосердной. Арестованную семью несколько дней держали во дворце Елизаветы, а потом посадили в закрытые возки и повезли в Ригу, ведь манифестом было публично обещано отправить ее в немецкое «отечество». В один день 29 ноября 1741 года начальнику конвоя генерал-лейтенанту В. Ф. Салтыкову были вручены одна за другой три инструкции. Первая требовала как можно быстрее доставить свергнутого императора и его семью (через Нарву, Дерпт, Ригу) в курляндскую Митаву, оказывая «их светлостям должное почтение, респект и учтивость» и обеспечивая в пути «всякое довольство». Вместе с принцессой предстояло ехать сестрам-фрейлинам Юлии и Якобине Менгден, трем камер-юнгферам, карлице Катерина, «сидельнице» Катерине, кормилицам, прачкам и прочему обслуживающему персоналу. Вторая инструкция приказывала ехать «с величайшею поспешностию», объезжать крупные города или проезжать через них ночью, не останавливаясь; не допускать каких-либо разговоров Анны Леопольдовны и Антона Ульриха с окружающими и, формально не запрещая переписки, все письма «отбирая, присылать в Кабинет, однако так осторожно поступать, чтоб они признать не могли». Последняя, «секретнейшая», инструкция предписывала «ради некоторых обстоятельств» везти арестантов, наоборот, как можно медленнее; в Нарве пробыть не меньше восьми – десяти дней, а в Риге держать их под строжайшим караулом до получения дальнейших указаний о выезде в Митаву, которого так и не последовало 479.
Перед отъездом императрица велела спросить Анну, нет ли у нее каких-либо просьб. Опальная принцесса попросила только одного: не разлучать ее с фрейлиной Юлианой Менгден. Елизавета не возражала.
Несбывшийся отъезд: Рига и Динамюнде
Близкий в то время к Елизавете маркиз Шетарди сообщил в конце ноября в Париж, что императрица решила не выпускать брауншвейгское семейство за границу, пока в Россию не доберется ее племянник Карл Петер Ульрих, герцог Голштинский. Поскольку ехать будущему императору Петру III предстояло через Мекленбург или Брауншвейг, «потому решено для безопасности особы герцога в пути задержать в Риге принца и принцессу Брауншвейгских с детьми их до тех пор, пока тот не достигнет русских пределов». С его прибытием новая императрица рассчитывала уладить принципиальный вопрос о престолонаследии.
Пленницу должно бы было насторожить прибытие гонца-сержанта с предписанием: «…объявить принцессе Анне и ей сказать, чтоб она по тому нам в верности присягу, в присутствии вашем и нашего лейб-гвардии Измайловскаго полку майора Гурьева, учиня, крест и Евангелие поцеловала. И в том за себя и за сына своего, принца Иоанна, и дочь ее, принцессу Екатерину, ибо они все в нашем законе, подписала». Ведь хотя она и состояла в православном «законе», но, отправляясь в заграничное изгнание, становилась иностранкой, и в этом случае обязательство «верным, добрым, и послушным рабом и подданным быть» являлось излишним. Тем не менее Анна Леопольдовна подписала присланную бумагу: «Принцесса Брауншвейг-Люнебургская Анна с детьми своими принцом Иоанном и принцессою Екатериною по сему присягали и своеручно а и в место детей мои подписуюсь».
Огромный «поезд» под конвоем из трехсот гвардейских солдат и офицеров прибыл в Ригу 27 или 28 декабря 1741 года. Но вместо отправки в «заграничное отечество» семейство почти год томилось в рижском замке под бдительным надзором В. Ф. Салтыкова.
Между тем в столице Елизавета занялась поисками монарших драгоценностей, в исчезновении которых подозревала Анну Леопольдовну и ее окружение.
Уже по пути, в Нарве, был учинен допрос наперснице принцессы. Юлиану Менгден для острастки обвиняли в умысле об «отмене наследства престола российскаго, ибо чрез тебя принцессе Анне и штатской советник Темирязев представляем был», и предлагали признаться под угрозой «высочайшего и правосудного гнева»; но главные вопросы не касались политики:
«Известно есть, что по арестовании бывшаго герцога Курляндского блаженныя памяти ея величества государыни императрицы Анны Иоанновны все алмазные вещи взяты принцессою Анною Брауншвейг-Люнебургскою. А ныне многих из них, яко то: жемчужной гарнитур на платье бывшей герцогини Курляндской и купленный у Рондовой жены алмаз, тако ж бывшей герцогини Курляндской золотой сервиз и многих присланных с персидским послом алмазных и золотых вещей не находится и прочего. Но как ты всегда была при ней и для того о всём тебе о том не ведать нельзя, того ради имеешь объявить самую истинную правду, не утаивая ни для чего, куда что из того девалось. Кому как чрез тебя, так и чрез кого других что брано, тайно и явно?
Сколько денег ты от нея, принцессы, из Соляной конторы, тако ж из других мест получила и куда их девала?
Не переводила ль ты каких денег и в чужие края, сколько и чрез кого?
Потому ж, сколько графу Линару или другим кому денег и алмазов отдано? И у кого в России и в других местах такия вещи и деньги, от тебя данныя, в сохранении имеются?..»
(Добрая принцесса, как вспоминал ювелир Позье, не мелочилась, даря «камни», а слухи еще преувеличивали ее щедрость. Шетарди передавал, что отбывавший в сентябре 1741 года на родину Линар увез с собой «на 150 000 бриллиантов; драгоценности фаворитки стоят по крайней мере столько же»; правительница осыпает подарками любимицу-фрейлину и тайно посылает драгоценности отцу, изгнанному из собственного герцогства.)
Юлиана подробно отвечала:
«На 1-й. Жемчужный гарнитур в казенной, у камердинера Гранкина, весь сполна, в красном ларчике, оклеян опойком; а что купленный алмаз у Рондовой жены, того заподлинно не знаю и какого величества – не видала, а сервиз золотой, бывшей герцогини Курляндской, остался в зеленой комнате в моржевой бауле, привезенной персидским послом. Алмазы и золотыя вещи и прочие алмазы принцесса изволила к себе положить в кабинет, который за стеклами в желтой комнате, и золотые вещи, которыя им привезены, тут же в кабинете положены. А прочее всё отдано в казенную, Симонову, токмо из оных привезенных персидским [послом] вещей вынуты из перстней два алмаза, и которые отданы мне, и оные положены в серебряное блюдечко с крышкой и остались в комнате моей, на столе уборном. А из алмазных вещей складень и перстень бриллиантовые отданы жениху моему для переделывания, о котором объявлено от принцессы князю Куракину, который перстень был покойной государыни Анны Иоанновны; да брату принцеву отдан орден и кавалерия бриллиантовые, фельдмаршалу Миниху две табакерки золотыя, осыпаны искрами бриллиантовыми, да сыну его, обер-гофмейстеру Миниху, дана одна табакерка золотая с бриллиантами ж, которыя табакерки были герцогини Курляндской; да ему ж, гофмейстеру Миниху, даны пряжки бриллиантовые бывшего герцога Курляндского, ценою в 2000 рублей. На сей мой ответ объявляю самую истинную правду, не утаивая ни для чего, чрез меня и чрез других ни тайно, ни явно никому не давано.
На 2-й. Получила я от принцессы, когда [она] приняла титул великой княгини, 10 000 [рублей]; да перед рождением принцессы Екатерины пожаловала мне 30 000, и оные деньги браты из Соляной конторы. И после изволила мне жаловать в разныя числа по тысяче, по две и по три; а куда оная мною сумма употреблена, об оном объявляю: жениху своему отдала 35 000 для положения в Дрезден в банк, да 12 000 зятю Миниху, да 10 000 рублев и 4000 червонных остались в моей комнате, а больше оной суммы из других мест ни откуда денег я не получала, как выше от меня показано. Да и по взятии герцога Курляндскаго дано от принцессы фельдмаршалу Миниху 100 000, обер-маршалу 80 000; да в то ж время, как приняла титул великой княгини, гехеймрату (тайному советнику. – И. К.) Миниху 20 000, Анне Юшковой 6000, Авдотье Андреевой 4000, а из какой суммы – заподлинно не знаю, а больше разумею, что из соляной суммы. Да изволила ж посылывать принцесса по церквам от 500 и до 1000 [рублей], а сколько оных дач было, не знаю. А как принашивались из Соляной конторы деньги, были в ведении за замком у самой принцессы, и больше онаго расходу не знаю.
На 3-й. В чужие край денег мною никуда не переваживано, кроме тех, о которых показала во 2-м пункте, что отдала жениху своему 35 000.
На 4-й. Графу Линару от принцессы дано: на покупку разных товаров 20 000, да я его ж подарила алмазными пряжками, которыя ценою стоили 2000 рублев, а для сохранения денег, алмазов и других вещей в России никому не отдавала.
На 5-й. Тайных советов, предприятиев и умыслов я ни с кем не имела, токмо штатской советник Темирязев приходил ко мне в октябре месяце и объявил мне: покойная государыня Анна Иоанновна изволила сделать тестамент о наследствии российской короны на одного сына принцессина. А о дочерях в том тестаменте о наследствии не упомянуто; надобно-де, не упущая ныне времени, делать, чтоб и дочери по брате были наследницами российской короны. И об оном сказав мне, пошел от меня, и о вышеписанных словах его я принцессе сказала, на которые мои слова изволила сказать, что я об оном знаю: говорил мне прежде Михаил Головкин. И спустя неделю оный же Темирязев приходил ко мне в другоряд и спрашивал, сказывала ли я о его словах принцессе, и я сказала, что докладывала. И в то время принцесса его у меня зашла и, взяв его от меня, пошла в покой к принцессе Екатерине, и что там говорили, того я не слыхала; токмо мне изволила сказывать принцесса, что оной Темирязев о том наследстве ей говорил. О утверждении ж в наследстве дочерей подано было письменно от Остермана и Головкина, а в какой силе, об оном я не знаю, для того, что при мне не читано, а ведали об оном архиерей новогородский и князь Алексей Михайлович Черкасский. И пропустя некоторое время, оный архиерей меня спрашивал: об оном знаю ли я, на что я ему сказала, что ведаю, а о других ни о ком не знаю, ведали ль или нет. А других предприятий ни с кем не советовала и ни о каких не знаю.
На 6-й. Привезенные из Шлюсенбурха (Шлиссельбурга. – И. К.) пожитки бывшего герцога Курляндскаго майором Вульфратом и полковником Манштейном внесены в комнату к принцессе и открываны сундуки при мне и при других девушках камердинером Гранкиным и лакеями, и из оных пожитков никому ничего не давано, токмо принцесса взяла к себе все алмазы, и те алмазы выломав, положила к прежним алмазам к государыниным вместе; а золото и червонных 10 000, из оных пожаловала мне 4000 червонных, о которых я объявила выше, что остались в моей комнате, а прочие употреблены на оклады св[ятых] икон. А о золоте мною же показано, в бауле моржовом положенной сейф; а деньги рублевой монеты отданы Андрею Ивановичу Ушакову на дачу жалованья служителям герцога Курляндского, а сколько тех денег было, не знаю. А которое было привезено платье, оставила у себя (а кому что давано из онаго платья, о том не знаю), только по церквам давано на ризы и девкам, который отдаваны замуж».
Императрица этими объяснениями не удовлетворилась. Следователи стали трясти оставшихся в Петербурге служителей принцессы, и 22 декабря поручик гвардии Суворов прискакал в Дерпт с новыми вопросами. Вновь подруге Анны Леопольдовны приходилось вспоминать про ту или иную вещь, упомянутую камер-медхенами и прочим персоналом. Избавляя читателя от подробных описаний давно исчезнувших вещиц и перечня людей, через чьи руки они проходили, можно сказать только, что правительница и в самом деле любила одарять приближенных – платьем, деньгами, вещами – и щедро награждала за заслуги. Но ни она, ни фрейлина Юлиана не пытались каким-либо образом перевести капиталы и ценности за границу – они явно не собирались спасаться бегством.
Еще, пожалуй, можно отметить стремление принцессы переделать по своему вкусу украшения, доставшиеся ей от императрицы и Бирона. Правительница Российской империи с увлечением выковыривала драгоценные камни из оправ и отдавала их ювелирам. «Видела я, что алмазы ломали из часов, из трясил [48]48
Трясило(от фр. tresse —плетеная тесьма, галун, коса) – здесь: женское головное украшение, скреплявшее прическу.
[Закрыть]и из перстней… и как выломают алмазы, тогда принцесса к себе изволила брать», – показывала камер-медхен София. Она же говорила, как Анна с подругами «бывшаго регента и детей его с платья позументы спарывали и выжигали, а из выжиги [49]49
Выжига– слитки драгоценных металлов, полученные путем сжигания ткани с золотым шитьем или переплавки позолоченной оловянной посуды.
[Закрыть]делали шандалы и к уборному столу коробки, и всё осталось на том уборном столе, а сколько тех вещей сделано числом, того сказать не упомню, а не выжженный споротый позумент остался в коробке под кроватью фрейлинской, в спальне, а со скольких кафтанов того позументу спорото и сколько весом – того не знаю».
Документы следствия над «павшими персонами», наполненные упоминаниями о подобных «мелочах» (имея в виду не ценность вещей, а обыденность происходившего), показывают не только нравы главных действующих лиц. За ними вырисовывается картина придворного мира как своего рода распределителя, где милость высокопоставленной особы конвертировалась в материальные ценности, которые по стоимости могли существенно превышать официальное жалованье их получателя. Таким путем обеспечивалась верность слуг, решались служебные дела и формировались придворные «партии».
При новом допросе Менгденша «в пополнении» рассказала: «…алмазных вещей ломано самою принцессою, при котором и я была, и Юшкова: бывшаго регента бриллиантовую шпагу, тряселки, складни старыя и другия многия вещи ломаны, которых порознь сказать не упомню, при котором был и обер-гофмейстер граф Миних и другия тутошные девицы, и оные алмазы выломав, положила сама принцесса к прежним алмазам, в черепаховой доскан [50]50
Доскан(искаж. доскань) – табакерка.
[Закрыть], в оправленный серебром, и оный доскан положен в красный шкаф, который был в почивальне». Прочее «ломанное золото и серебро» осталось у фрейлины: «…и то серебро употреблено в нижеупомянутые шандалы и в прочее, а из золота сделан стаканчик». Однако Юлиана настаивала, что не раздавала «алмазных и других вещей» жене фельдмаршала Миниха, своему жениху Динару и другим знатным персонам, тем более что сама Анна Леопольдовна охотно делала дорогие подарки (золотые табакерки, «алмазные вещи») ее матери, брату, сестре Якобине. А ей самой принцесса пожаловала «из старых четыре кафтана его, регента, обложенные позументом, да бывшаго принца Петра три кафтана, с которых я позумент спорола; 4 шандала, 6 тарелок, 2 коробки, и оное серебро осталось на столе в комнате моей» 480.
Щедрость правительницы подверждает и список заказанных придворному гофкомиссару И. Либману дорогих изделий 481. Брауншвейгская чета на допросе подтвердила, что ювелирные вещицы были изготовлены, и указала, кому из придворных или дипломатов они были подарены. Согласно подсчетам поставщика, принцесса осталась должна за сырье и работу мастеров 4681 рубль 10 копеек; принц Антон заказал изделий на 24 тысячи рублей, а заплатил только десять тысяч. Относительно самих вещей Анна Леопольдовна объявила, что подарила по бриллиантовой табакерке австрийскому посланнику Ботте и обер-гофмаршалу Левенвольде; «каменье и прочие вещи остались при дворце, а что меня принц подарил на рождение принцессы Екатерины трясилой бриллиантовой, из той трясилы сделан перстень, о котором известно ее и[мператорскому] в[еличеству]».
Елизавета этими ответами по-прежнему осталась недовольна – и, кажется, не без оснований. Спустя несколько дней принцесса вынуждена была признать: «Графу Динару для покупки разных вещей дано от меня денег 20 000 рублев, да для переделывания складень бриллиантовый, да перстень бриллиантовый же, о чем я сказывала при отъезде из С[анкт]-Питербурха князю Куракину. А больше как денег, так и алмазных вещей ему, графу Линару, от меня не дано». Конвойному же поручику она призналась, что «хотя из оставших после бла-женныя памяти императрицы Анны Иоанновны, также и после бывшаго регента алмазных вещей ныне в наличности и не имеется, токмо из тех алмазных вещей она, принцесса, переломав, сделала себе складень, да на руки складни из больших каменьев, да часы бриллиантовые ж, а оставшие выломанные бриллианты остались в шкафе, в табакерке черепаховой» 482.
И опять гонец вез к сосланным очередные пункты и бывшая фрейлина Юлиана (сердитая императрица называла ее Жулькой) припоминала, куда могла деться та или иная вещица, которая оказалась «не сыскана»: «Слышала я от принцессы, что две коробки золотыя большия с нахттиша (ночного столика. – И. К.) положены к золоту бывшаго герцога Курляндскаго в баул, который стоял в зеленой комнате, а сколько на тех коробках граней, того я не знаю». Председатель комиссии «по описи пожитков» генерал-прокурор Трубецкой 3 марта написал Салтыкову: «Оныя коробки и поныне нигде не отысканы. И для того ныне ея и[мператорс]кое в[еличест]во, желая в том совершенную справедливость сыскать, всемилостивейше указать изволила в подтверждение у принцессы Анны достоверно о… упоминаемых коробках спросить, чтоб о том она истину объявила, где оныя сыскать можно».
«Золотые две коропки от нахтыша, как я прежде говорила, что положены были в баул к золотой посуде бывшего герцога Курляндского, – заявила бывшая правительница, – и ныне я по сущей справедливости подтверждаю, хотя и под присягою сказать, что конечно оные две коропки положены мною в тот баул. А куда оные оттуда девались, того я поистине не знаю; и для чево б мне не объявить, ежели бы я кому их отдала, но я объявила и о таковых вещах, которые их могли выше стоить, кому были от меня даваны», – и гордо подписалась: «Принцесса Анна» 483.
Пресловутые коробки так и не отыскались, а Елизавету уже интересовало другое – куда могла деться отданная графу Линару золотая цепь ордена Святого Андрея Первозванного. Анна не без иронии отвечала: «Та цепь отдана ею, принцессою, графу Линару, а что она, принцесса, прежде не объявила, и то думала, и без оного-де знать могут, понеже-де те кавалерии отдаются всегда с теми золотыми цепьми».
Получаемые из столицы и пока не слишком грозные придирки всё же несколько разнообразили для ссыльной четы и ее окружения скучные дни практически тюремного заточения. В рижской цитадели (там теперь находится резиденция президента Латвийской Республики) Антон Ульрих и его супруга провели целый год – до января 1743-го. Судя по словесному обороту, содержавшемуся в присланном из Кабинета императрицы указе от 22 апреля: «…а когда оные принц и принцесса из Риги поедут…» – можно предполагать, что Елизавета и ее министры такой вариант в принципе допускали – или же пребывание брауншвейгского семейства на границе призвано было успокоить зарубежную «общественность» в лице коронованных «братьев» и «сестер».
В марте узников посетил один из близких к императрице людей – камер-юнкер Роман Воронцов. Как докладывал Елизавете начальник охраны Салтыков, «оной господин камор-юн-кар с господином майором Гурьевым у принцессы были и высокую вашего и[мператорс]каго в[еличест]ва милость ей, принцессе, они объявили», а заодно сообщили о скором прибытии ее гардероба. Содержание этой беседы в делопроизводстве не отражено, однако сам Воронцов доложил повелительнице, что Анна якобы заявила ему: «…мне де ее императорского величества высокая милость болше всего может веселит[ь] на свете» 484. Багаж сосланных, 4 апреля 1742 года благополучно прибывший к ним, был отправлен дальше, в Брауншвейг, с камердинером Грамке и надолго застрял в прусских Эльбинге и Мемеле.
Но желанный отъезд так и не состоялся. Елизавета то ничего не спрашивала у Салтыкова и ничего ему не приказывала, то требовала, чтобы он получил у своих подопечных разъяснения о нахождении очередной драгоценной безделушки. Вначале генерал распорядился содержать супругов раздельно, но 1 февраля государыня милостиво разрешила «свести» их вместе: «Уведомились мы, что вы принцессу Анну еще доныне с ея мужем не в одном месте, но порознь и каждаго в особых покоях содержите. Но понеже о сем в данных вам от нас указах и инструкциях не написано, то мы вам сим повелеваем, оным вместе быть, извольте токмо в содержании их так поступать, как в вышеупомянутых указах и инструкциях изображено». Салтыков по-военному отрапортовал об исполнении: «Всеподданнейше вашему императорскому величеству доношу, именной вашего императорского величества указ сего февраля 5-го дня получил, по которому принцессу Анну с ея мужем вместе в одни покои свел». Заточенной принцессе ее удачливая соперница время от времени присылала продукты со своего стола, вино, отрез на платье.
Заключенные поначалу рассчитывали на обещанную свободу и даже развлекались. Салтыков доносил, что в теплые дни во внутреннем дворе замка принцесса катается на качелях, принц же с девицами играет в кегли и даже «вздумал ныне щеголять и волосы подвивать, и клещи тупейные по требованию его купили». Антон Ульрих каким-то образом ухитрялся передавать на волю письма родственникам: в июне, августе и сентябре он безуспешно просил брата-герцога Карла Брауншвейг-Вольфенбюттельского похлопотать о его освобождении. Для Анны же последствием царского разрешения проживать совместно с супругом стала очередная беременность. Но в ночь на 15 сентября 1742 года у нее случился выкидыш, по заключению докторов – «месяцев трех, мужеска полу».
За каждым шагом семьи бдительно следили. Охранники «стучали» друг на друга; над ними стоял бдительный Салтыков (его рапорты неслись в столицу каждые три-четыре дня), а за ним самим присматривал кто-либо из ближайшего круга императрицы: на смену уехавшему Воронцову прибыл генерал-лейтенант Александр Бутурлин. Любой крик младенца Иоанна Антоновича подробно описывался в доносах: «Играючи с собачкою, бьет ее по лбу, а как его спросят: "Кому-де, батюшка, голову отсечешь?" – то он отвечает, что Василию Федоровичу (Салтыкову. – И. К.)». В день коронации Елизаветы Петровны Салтыков устроил обед для офицеров рижского гарнизона и администрации – он был пожалован орденом Святого Андрея Первозванного. На следующий день после торжества поступил донос на обер-кригскомиссара Никифора Апушкина, который «пьяный шел в квартеру свою мимо квартеры, где стоит принцесса Анна с фамилиею»: «…и в то время она, принцесса, стояла у окна. И зашед против окон, поклонился ей, принцессе, он, Апушкин, и просил, чтоб ему показать маленькаго принца, котораго в то время она, принцесса, держала на руках. И сказал: „Будь над ним благословение Божие“». Апушкин вынужден был оправдываться: «…был чрезмерно пьян, ничего не помню, да не точию оного, но и того не помню, что я упал и убился грудью пред крыльцом квартеры моей, а причины я никакой к тому не имел и ее, принцессу, от роду моего не видал, понеже я от [1]728 году в Санкт-Питербурхе не бывал, а находился всегда при армии».