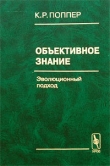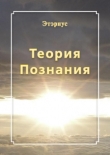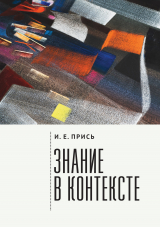
Текст книги "Знание в контексте"
Автор книги: Игорь Прись
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 20 страниц)
Как уже было сказано, Льюис вводит семь правил (критериев) релевантности: актуальность, убеждение, сходство, надёжность, метод, консерватизм, внимание [1], [6, p. 202–203]. Это ad hoc правила, которые не направляются общим принципом. Мы утверждаем, что таким общим принципом является принцип семейного сходства, то есть наличие общего в-правила (или общих ПП), а все правила Льюиса – его следствие (или аспекты). Это можно назвать «грамматической интерпретацией» правил Льюиса как аспектов одного и того же понятия в-правила.
Выше мы уже интерпретировали льюисовское правило подобия как правило семейного сходства, то есть как подобие между употреблениями одного и того же в-правила (или одних и тех же ПП), в качестве которого выбирается правило очевидности как знания, или совокупность ПП, лежащих в основании очевидности.
Наличие парадигматических (устоявшихся) применений в-правила, между которыми имеется семейное сходство – неотъемлемая характеристика в-правила (эту характеристику можно взять за его определение). Парадигматические применения в-правила – результат применения надёжного метода. К соответствующим ПП могут, например, относиться предложения о безошибочном функционировании перцепции, памяти и других процессов, как правило, приводящих к формированию истинных убеждений. Парадигматические (устоявшиеся) применения правила можно рассматривать и как образцы для его применения. С ними также ассоциируются общепринятые конвенции. Общее знание можно трактовать как (логическое) знание грамматики формы жизни, то есть эксплицитное или имплицитное знание в-правил (ПП). То, что называют абдукцией – экспликация имплицитного в-правила, которое наилучшим образом объясняет свои языковые игры – «явления».
Следовательно, к релевантным возможным мирам как употреблениям очевидности, соответствующих ПП (или соответствующего в-правила) автоматически не относятся возможности нарушения общих конвенций, ошибок в надёжных процессах, образцах или абдукции. Любые такие нарушения были бы нарушением в-правила (ПП). Мы приходим к льюисовским правилам консерватизма (согласно которому возможности, которые игнорируются конвенционально, не релевантны), надёжности (согласно которому нерелевантными считаются возможности ошибки в надёжном процессе, к которым, в частности, относятся перцепция и память), и метода (согласно которому ошибки в образцах и абдукции нерелевантны).
Отметим, что для Льюиса указанные правила отменяемы (defeasible). Для нас они отменяемы, потому что может оказаться, что, на самом деле, их нарушение не противоречит действительному в-правилу (ПП), а не тому, которое предполагалось. То, что является ПП в одном контексте, может перестать им быть в другом контексте. Для Витгенштейна в зависимости от контекста статус в-правил и ПП может меняться.
Таким образом, возможные миры, в которых нарушаются льюисовские правила (критерии) могут оказаться релевантными, тогда как критерия, в каком случае это происходит, нет и быть не может. Льюис просто говорит о том, что меняются пресуппозиции. Для нас это означает изменение правил игры, переход к другой системе ПП (другому в-правилу). В результате такого изменения исходное знание может быть утеряно. Если же такие возможные миры трактуются как нерелевантные, то это просто означает, что они выходят за пределы применимости действующего в-правила, которое и гарантирует наличие исходного знания.
Но как определить, меняется в-правило или нет? Это можно сделать только, отталкиваясь от знания в контексте. Знание первично: либо оно есть, либо его нет в том или ином случае. И именно этот факт определяет, что считать очевидностью, какие предложения являются ПП и какие возможности считать релевантными, а какие нет. Отменяемость льюисовских правил косвенно указывает на выбор неправильного порядка в объяснении эпистемических явлений. Правильный порядок объяснения должен начинать со знания.
Посмотрим на оставшиеся льюисовские правила. Как уже было сказано выше, актуальность – самоочевидное условие. В-правило (или ПП) применяется к ней автоматически, так как извлекается из неё.[102]102
Между прочим, Льюис пишет, что в качестве очевидности он рассматривает полный перцептивный опыт субъекта (не видимость, не доступное самому субъекту содержание концептуализированного опыта) в актуальной ситуации. Мы интерпретируем это как знание, которым располагает субъект, не обязательно зная, что он знает.
[Закрыть] Нас интересует актуальная ситуация и семейное сходство с актуальной ситуацией какова она есть на самом деле, а не как она представляется субъекту (сам субъект может не знать, в какой ситуации он находится). Согласно льюисовскому правилу убеждения, всякая возможность, в которую субъект верит, или должен верить, релевантна. На самом деле, он должен верить в те и только те возможности, которые совместимы с очевидностью и в данном контексте релевантны, то есть являются применениями контекстуального в-правила и, следовательно, обосновываемы этим правилом, рациональны. С нашей точки зрения речь идёт о возможностях, в которые субъект верит или может верить рационально и, следовательно, должен их принимать во внимание. Это возможные употребления очевидности как в-правила (или соответствующих ПП) в данном контексте – реальные (релевантные) возможности.
Нерелевантные возможности в контексте атрибутора исключаются автоматически, по умолчанию. На них просто не обращают внимания, поскольку они не релевантны. Но если мы хотим их исключить осознанно, на них надо обратить внимание. Согласно правилу внимания Льюиса, в этом случае они становятся релевантными. Это делает знание неуловимым. Оно есть, и вдруг его уже нет (если обратим внимание на совместимую с очевидностью, понятой как видимость, нерелевантную возможность, которая сразу же превращается в релевантную и в которой убеждение субъекта ложно). Скептицизм в рамках подхода Льюиса получает некоторое оправдание. Этой проблемы, на наш взгляд, можно избежать, если правило внимания понимать не как индивидуальное, а как публичное. Публично обратить внимание на возможность – значит обратить внимание на неё в соответствие с публичным правилом, определяющим, на какие возможно следует обращать внимание, то есть в соответствии с в-правилом. В противном случае каждый будет обращать внимание на то, что он считает возможностью. То есть мы говорим лишь о возможностях, на которые следует обратить внимание (это те же самые возможности, в которые следует верить). Внимание следует обратить на реальные употребления в-правила (ПП), то есть на те возможности, которые имеют семейное сходство с актуальной возможностью. Для Льюиса правило внимания тоже отменяемо. Исходя из сказанного выше, уже ясно почему.
Итак, по сути, все правила (критерии) Льюиса сводятся к правилу семейного сходства, что согласуется с предположением самого Льюиса, что не все они независимы, а сводятся друг к другу в самых разных вариантах. Это значит, что правила Льюиса можно трактовать как грамматические тавтологии. Понимание общего принципа как наличие общего в-правила (ПП) означает, что правильный подход к знанию должен начинать с понятия знания как первичного понятия, в терминах которого объясняются все другие эпистемические понятия. В рамках эпистемологии Витгенштейна концепт знания первичен.
Ниже мы сравниваем наш подход с недавно предложенной точкой зрения Миона.
5. Петлевой эпистемический контекстуализм МионаМион предложил общий принцип для правил Льюиса, который близок к предложенному нами (схожий принцип мы также использовали ранее в [7]). Принцип Миона гласит: «Петли функционируют как правила, определяющие, какие возможности считаются релевантными альтернативами» [8, p. 7]. При этом Мион подчёркивает, что петли не отделимы от контекста общения. Речь идёт о контексте атрибутора. К понятию семейного сходства Мион не прибегает.
Напомним, что мы рассматриваем релевантные возможности как реальные возможности употребления петлевых предложений как в-правил. Это языковые игры, между которыми имеется семейное сходство. Отметим, что существуют различные интерпретации ПП, которые мы не имеем возможности здесь рассматривать. Наша интерпретация ПП как наиболее общих в-правил, наиболее близка к интерпретации ПП как правил, предложенной А. Колива. Мион тоже трактует петли как правила. Для нас сомневаться в ПП бессмысленно. Для Витгенштейна, подлинное сомнение предполагает практические следствия и опирается на ПП, в которых не сомневаются. «Сомнение, которое бы ставило под сомнение всё, не было бы сомнением» (Витгенштейн, О достоверности, § 450). В том случае, когда сомневаться в ПП не бессмысленно, они перестают быть ПП. Либо они превращаются в истинные парадигматические предложения (знание), либо в контексте они могут быть истинными или ложными эмпирическими предложениями.
Обратимся к двум примерам, которые анализирует и Мион (мы их модифицируем и анализируем несколько по-другому).
Предположим, что историк Анна находит архивные документы, которые косвенно указывают на то, что в аустерлицком сражении Наполеон мог быть ранен. Означает ли это, что Анна теряет своё исходное знание, что Наполеон в сражении не был ранен, поскольку очевидность, которая имеется в её распоряжении, быть может, не позволяет исключить ситуацию, в которой Наполеон был ранен? (Быть может, ранее она принимала эту возможность за нерелевантную.) Всё зависит от того, является ли эта ситуация релевантной. Можно рассуждать примерно так. Предположим, что в данном контексте атрибутора «Наполеон выиграл аустерлицкое сражение» – ПП, имеющее логическую достоверность. Тогда возможный сценарий, в котором в сражении Наполеон был ранен, не является релевантным, так как этот сценарий имеет сходство с возможным сценарием, в котором Наполеон проиграл сражение. Последний, однако, исключается. Следовательно, имеющееся ПП исключает сценарий, в котором Наполеон был ранен, как нерелевантный (не имеющий сходства с актуальным) и в рассматриваем контексте с точки зрения атрибутора Анна продолжает знать, что Наполеон в аустерлицком сражении не был ранен.
Для Миона, контекст атрибутора определяет выбор ПП, а выбор ПП определяет возможные релевантные ситуации. Мы говорим об употреблении ПП как в-правил и семейном сходстве между этими употреблениями. Если бы Анна перестала знать, что Наполеон не был ранен (например, если бы Анна действительно обнаружила убедительное (но ложное) свидетельство в пользу того, что Наполеон был ранен), атрибутору, быть может, просто пришлось бы отказаться от ПП «Наполеон выиграл аустерлицкое сражение», то есть признать, что ситуация, в которой Наполеон ранен и ситуация, в которой он проиграл сражение релевантны. То есть в своём контексте атрибутор в качестве ПП принял бы другие предложения – не потому, что это бы ему продиктовал контекст, а потому, что знание о том, что Наполеон не был ранен, было бы утеряно. Другими словами, первична, на наш взгляд, всё-таки констатация наличия или отсутствия знания, что Наполеон был или не был ранен (проиграл сражение или нет), а не наличие или отсутствие тех или иных ПП. Знание или незнание не выводятся.
В другом примере предполагается, что «Телма нас везёт в аэропорт, и мы опаздываем на рейс. Действительно ли Телма знает, что в баке достаточно бензина, чтобы его хватило до аэропорта? Можно ли ей доверять? В этой ситуации возможность, что датчик уровня топлива неисправен, даже если вслух беспокойство не выражается, релевантна. Соответственно, утверждение, что она знает, что в баке достаточно бензина, может оказаться ложным. С другой стороны, в более спокойном сценарии эта возможность не будет релевантной. Наше утверждение, что Телма знает, что в баке достаточно бензина, будет истинным» [8, р. 11]. Высказывания «Она знает, что в баке достаточно бензина», «Она знает, что датчик бензина исправен» истинны или ложны в зависимости от практического контекста в той же самой эпистемической ситуации (очевидности). При высоких практических ставках они ложны, а при низких (мы никуда не опаздываем) – истинны. В этом последнем случае, согласно Миону, «Датчик работает исправно» – ПП, определяющее релевантные возможности. Таким образом, релевантные возможности определяются, исходя из употреблений ПП, которые идентифицируются в конверсационном контексте. При одной и той же очевидности, в зависимости от контекста, могут быть разные ПП.
Мы смотрим на эти примеры с точки зрения эквивалентности очевидности и знания. Поскольку знание зависит от контекста атрибутора, очевидность зависит от контекста атрибутора. В контексте, в котором ставки невысоки, очевидность более обширна, так как к очевидности относится знание, что в баке достаточно бензина. Нет необходимости вводить независимое от очевидности (но зависимое от контекста) понятие релевантных ситуаций, совместимых с очевидностью.
На наш взгляд, в рамках подхода Миона возникает вопрос о том, каким образом выявляются ПП. Для Миона, в контексте устанавливаются ПП, которые определяют релевантные ситуации. Но можно сказать и наоборот: именно набор релевантных ситуаций позволяет эксплицировать ПП[103]103
Льюис указывает на замкнутый круг: прагматические пресуппозиции определяют релевантные возможности, которые, в свою очередь, определяют пресуппозиции. Говоря в наших терминах, в-правило не отделимо от своих применений.
[Закрыть]. Мион предлагает комбинировать ПП и контекст. На самом деле, отдельно их рассматривать невозможно. Выбрать ПП – это уже выбрать релевантные возможности, так как ПП и вообще в-правила не могут быть отделены от устоявшихся случаев своих употреблений. Мы не можем ни сначала установить ПП, а затем, исходя из них, установить релевантные возможности, ни наоборот. В этом смысле проблему выбора релевантных ситуаций ПП не решают. Они её переформулируют в других – витгенштейновских – терминах[104]104
Отметим, что, как считает, Колива, сам Витгенштейн не атрибуторный контекстуалист, а инвариантист [9]. Для него знание, которое приписывается субъекту, не зависит от контекста атрибутора.
[Закрыть]. На самом деле, просто в одном случае мы знаем, что есть знание, а в другом нет. Сначала, как говорит Уильямсон, знание, различие между знанием и незнанием.
Таким образом, то или иное знание или незнание реконструируются как наличие или отсутствие тех или иных ПП, то есть тех или иных релевантных и нерелевантных сценариев, или той или иной очевидности. А не наоборот: мы каким-то образом, исходя из идентификации ПП и, соответственно, определения релевантных и нерелевантных сценариев при данной очевидности, устанавливаем имеет место знание или нет. Вместо трёхкомпонентной конструкции знания – очевидность, контекст, релевантные ситуации – мы предлагаем однокомпонентную – очевидность. Субъект знает, что р, если и только если очевидность, которой он располагает (в контексте) исключает не-р. На самом деле, такая формулировка очень близка к формулировке знания, предложенной Льюисом.
6. Возражения против подхода ЛьюисаСогласно Беллери и Колива эпистемический контекстуализм Льюиса не принимает во внимание специфичность случаев Гетье [10]. Льюис их объясняет так же, как он объясняет отсутствие знания в более привычных случаях, как, например, в случае лотереи. Но случаи Гетье, на первый взгляд, радикально отличаются от них. В самом деле, в случае лотереи почти во всех возможных мирах, за исключением одного, а также в актуальном мире, мнение истинно, тогда как в некоторых случаях Гетье, наоборот, во всех возможных мирах, за исключением одного – актуального, – мнение ложно. Можно также предположить, что в некоторых практических контекстах в случае лотереи субъект знает, что он не вытянет выигрышный билет (Льюис и Беллери & Колива приводят примеры таких практических контекстов [1; 10]). Но, например, в случае Гетье с остановившимися часами, которые показывают правильное время дважды в сутки, контекста, в котором можно сказать, что субъект знает время, когда он смотрит на часы именно в тот момент времени, когда они показывают правильное время, не существует или, во всяком случае, его нелегко вообразить. Это указывает на известную асимметрию между случаями Гетье и более обыденными случаями отсутствия знания.
Таким образом, применение эпистемического контекстуализма к случаям Гетье оказывается проблематичным. Контекстуальное определение знания, вроде бы, не учитывает особенности случаев Гетье, а объясняет отсутствие знания единообразным образом. То есть оно не принимает во внимание эпистемическую удачу, присутствующую в случаях Гетье.
В то же время в известном примере Гетье другого типа – примере с ложными фасадами, – как показал Греко, приписывание знания может зависеть от контекста [11, р. 80]. Напомним, что согласно стандартной формулировке этого примера, субъект, не зная об этом, находится в районе фальшивых (фасадов) амбаров, но по чистой случайности смотрит на один-единственный подлинный в этом районе амбар и формирует истинное обоснованное мнение, что перед ним амбар. При аналогичном методе формирования его мнения, оно с лёгкостью могло бы оказаться ложным (на самом деле оно ложно во всех ближайших возможных мирах). Поскольку мнение субъекта оказывается истинным лишь благодаря эпистемической удаче он не знает, что перед ним амбар.[105]105
Некоторые авторы отрицают, что случай с ложными фасадами – случай типа Гетье. Другие даже утверждают, что в этом случае субъект знает, что перед ним амбар.
[Закрыть]
Некоторые эпистемологи также утверждают, что эпистемическая удача имеет место и в случае лотереи, поскольку возможный мир, в котором он вытягивает выигрышный билет, ни в вероятностном, ни в модальном смысле не более удалён, чем возможные миры, в которых он вытягивает невыигрышные билеты. Субъект мог бы вытянуть выигрышный билет с той же вероятностью, с которой он вытягивает любой невыигрышный билет, и мир, в котором он вытягивает выигрышный билет, подобен миру, в котором он вытягивает невыигрышный билет. В этом смысле у субъекта есть истинное обоснованное убеждение, что его билет невыигрышный, и истинность его убеждения обусловлена эпистемической удачей. Таким образом, имеется сходство между этим случаем и случаями Гетье.
Можно ли говорить о континууме между более привычными случаями отсутствия знания и случаями Гетье? Вообразим, специфическую лотерею, в которой все билеты, за исключением одного, выигрышные, субъект об этом не знает, и по чистой случайности вытягивает один-единственный невыигрышный билет (этот пример имеет сходства с примером с фальшивыми амбарами). Его убеждение, что он проиграл, будет истинным, но во всех возможных мирах, за исключением актуального, ложным. (Можно также сказать, что его убеждение будет субъективно обоснованным, поскольку оно будет основано на правдоподобной, но ложной посылке, что лотерея нормальная.) Существует непрерывный переход между нормальной лотереей и нашей воображаемой лотереей, которая имеет сходства со случаями типа Гетье. Это указывает на то, что, быть может, различие между случаями Гетье и более обыденными случаями отсутствия знания лишь в степени. С точки зрения ЭСЗ любое незнание, будь то случаи Гетье или более обыденные случаи, суть просто отклонения от знания.
Беллери и Колива считают, что контекстуальное определение знания Льюиса также трактует одинаковым образом случаи Гетье, в которых причинная связь между очевидностью и истинным убеждением нарушена, как это имеет место в случаях с Ноготом и Хэвитом и остановившимися часами, и случаи типа случая с фальшивыми фасадами, в которых эта связь, якобы, не нарушена, поскольку перед субъектом действительно находится подлинный амбар. (Вопрос в том, что они принимают за «очевидность». По всей видимости – материальный объект. Для нас, как и для Уильямсона, очевидность всегда пропозициональна; это знание.) Для объяснения отсутствия знания в случаях Гетье эпистемолог добродетелей Греко ввёл условие «по причине» (because). В первых двух случаях истинное мнение формируется не по причине применения субъектом своих перцептивных способностей, тогда как в случае с фасадами, как можно предполагать, именно по этой причине – между подлинным фасадом и субъектом имеется причинный визуальный контакт. (Эпистемолог добродетелей Э. Соса даже считает, что субъект приобретает «животное», но не «полное», знание.)
На самом деле, мы не думаем, что в примере с фасадами можно сказать, что истинное убеждение субъекта приобретается по причине применения его перцептивной способности, устанавливающей причинный контакт между ним и «очевидностью». Непосредственный перцептивный опыт неспособен привести к формированию мнения, так как он не имеет никакого содержания. Он неспособен установить причинную связь между очевидностью и истинным мнением, так как сам по себе он не очевидность, а просто часть реальности, в которой при помощи концептов может быть истинным или ложным образом идентифицировано то или иное данное, играющее роль очевидности. Перцептивная способность, приводящая к формированию убеждения, – способность концептуальная. Другими словами, связь с истинным мнением должна быть нормативно-причинной. Эту связь устанавливает не непосредственный перцептивный опыт субъекта, а его (истинным или ложным образом) концептуализированный перцептивный опыт – в данном случае ложным образом концептуализированный опыт (видимость), что перед ним находится амбар, а, следовательно, не подлинная очевидность, что перед ним амбар (перцептивный опыт, истинным образом концептуально оформленный, давал бы знание, что перед ним амбар, но знание отсутствует). Почему следует считать, что опыт оказывается ложным образом концептуализированным и, следовательно, не очевидностью? То есть почему амбар идентифицируется в его рамках как амбар некорректным образом? (Как только-что было сказано, если бы он идентифицировался корректным образом, это было бы знание.) Идентификация амбара и соответственно концептуализация опыта – применение концепта «амбар», которые имеет условия своей применимости. Эти условия в районе фальшивых амбаров не удовлетворяются. Применение концепта с лёгкостью могло бы оказаться ложным. Почти все случаи применения концепта «амбар» в этих условиях являются ложными. Именно неприменимость концепта «амбар», его неукоренённость в опыте, реальности, делает заключение о причинной связи между истинным мнением и очевидностью неверным. У субъекта в районе фальшивых амбаров есть лишь очевидность относительно видимости амбара. С другой стороны, поскольку перед субъектом действительно находится амбар, можно вообразить контекст (что и делает Греко), в котором между очевидностью и истинным мнением действительно устанавливается причинная связь и субъект приобретает знание. Такой контексте невозможно вообразить в случае, если перед субъектом находится фальшивый амбар. Рассмотрение примера с амбарами, как и других примеров, свидетельствует, на наш взгляд, что концепт знания первичен: знание либо есть, либо его нет.
Посмотрим, как случаи Гетье выглядят в терминах понятия петлевого предложения (ПП). В примере с остановившимися часами у субъекта есть очевидность, что стрелка часов (а не часы, как надёжно функционирующий инструмент) показывает некоторое время. Эта очевидность не субъективные данные, не видимость, а достоверное знание, которое может быть выражено в виде соответствующего ПП. Очевидность относится не к измеряемому времени, а к часам как материальному объекту (надёжность часов к очевидности не относится. Соответствующее предложение не является ПП. Это тот случай, когда льюисовское правило надёжности отменяется). Если бы часы шли правильно, на основе их показаний можно было бы сформировать знание о времени. Быть может, можно было бы даже принять предложение о времени, которое показывают эти часы, за ПП, имеющее логическую достоверность. Но в случае Гетье знанием является лишь убеждение субъекта о показаниях часов, а не о времени. Поэтому с очевидностью совместим сценарий, что время на самом деле несколько отличается. Другими словами, возможны употребления ПП, совместимые с показаниями надёжно функционирующих часов, отличными, чем те, которые видит субъект. Между этими употреблениями имеется семейное сходство, то есть они являются релевантными. Субъект не знает, что часы показывают правильное время, так как его мнение о времени в подобных сценариях оказывается ложным.
Аналогичным образом, в примере с фальшивыми амбарами ПП, выражающее нормальные условия визуального наблюдения, отсутствует. (Нечто подобное говорит и Льюис. Для него отсутствуют нормальные пресуппозиции. Истинная пресуппозиция, о которой субъект не знает, здесь в том, что субъект в районе фальшивых амбаров.) Как следствие, актуальный сценарий имеет семейное сходство со сценарием, в котором эти условия нарушаются и, соответственно, формируется ложное мнение. Напротив, в упомянутом выше специфическом контексте атрибутора, который воображает Греко, и в котором знание имеет место, сценарии, в которых нарушаются нормальные условия визуального восприятия, рассматриваются как не имеющие сходства с актуальной ситуацией (не релевантные).
Для атрибуторного контекстуализма Льюиса сходство между возможными мирами (их релевантность), совместимыми с очевидностью, зависит от контекста. Мы утверждали, что очевидность лучше трактовать как знание. ПП, лежащие в основе такой очевидности, играют роль в-правила для определения релевантных (подобных) сценариев. ПП (знание, очевидность) зависят от контекста. Поэтому очевидность напрямую определяет наличие или отсутствие знания. В тех и только тех случаях, когда очевидность в пользу р, включает само предложение р (о чём субъект может и не знать), то есть знание, что р, в подобных ситуациях, р не может быть ложным. Мы возвращаемся к эпистемологии сначала-знания [2; 12].