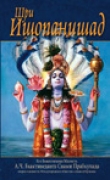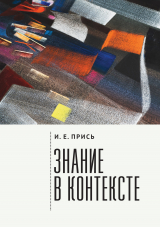
Текст книги "Знание в контексте"
Автор книги: Игорь Прись
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Согласно Уильямсону, у нас не всегда есть доступ к нашим ментальным состояниям. В частности, вообще говоря, из Kp (знание, что р) не следует K˥Kp (а из ˥Kp (отрицание знания, что р) не следует K˥Kp. Например, мозг-вбаке не знает, что он ничего не знает о внешнем мире), хотя довольно часто без наблюдения (исследования) со стороны мы находимся в положении, в котором мы имеем доступ к нашим ментальным состояниям: мы знаем, во что мы верим, что мы желаем, чувствуем и знаем, что мы знаем [9]. Аргумент неосвещённости Уильямсона имеет следующий вид: «Ответ от имени эпистемологии сначала-знания состоит в том, что состояния полностью открытые интроспекции и полностью операционным правилам, иллюзия. Всякое нетривиальное состояние таково, что можно в нём находиться, не будучи в положении знать, что в нём находишься. Аргумент в пользу этого заключения имеет следующий вид. Назовём состояние светящимся (luminous), если, когда бы мы в нём ни находились, мы всегда в положении знать, что мы находимся в этом состоянии. Для каждого нетривиального состояния можно перейти из этого состояния в другое состояние посредством очень постепенного процесса. Поскольку наши дискриминационные способности ограничены, в последние моменты этого процесса, в которые мы все ещё находимся в исходном состоянии, мы не можем сделать различие между тем, каким образом мы есть (в релевантных отношениях) и тем, каким образом мы есть в самые первые моменты, в которые мы уже не в этом состоянии. Как следствие, состояние есть не светящееся (luminous) (…). Таким образом, каждое светящееся состояние – тривиальное. В частности, состояния верования, желания и ощущения (feeling sensations) не являются светящимися, потому что они не тривиальны. Можно ощущать боль, не будучи в положении знать, что ощущаешь боль. Можно во что-то верить, не находясь в положении знать, что в это веришь. Равным образом, поскольку знание (knowing) – нетривиальное состояние, можно знать что-либо, не будучи в положении знать, что это знаешь» [24, р. 212]. Таким образом, можно не знать, веришь ли, что что-то имеет место быть, знаешь ли что-то, испытываешь ли некоторое ощущение и так далее. Более того, как показал Уильямсон, можно знать что-то, и при этом очевидность в пользу того, что знаешь это, может быть сколько угодно незначительной. Обоснование этого утверждения требует введения понятия очевидностной вероятности.
17. Очевидностная вероятностьВ рамках своей неоперационной эпистемологии Уильямсон вводит новое понятие очевидностной вероятности. Это вероятность, условная на очевидности, понятой как знание. Для самого знания она равна единице, поскольку она условна на самой себе. Чем выше очевидностная вероятность, что р, тем более полным является обоснование мнения, что р. Таким образом, существуют степени обоснованности мнения [9, ch. 10]. Имеет также смысл также говорить об очевидности очевидности. Следствием условия несветимости является то, что можно знать, что p, даже если очевидностная вероятность, что знаешь, что p, сколь угодно близка к нулю. То есть истинное мнение, что мы знаем что-то, может иметь сколь угодно низкую степень обоснованности [41] Уильямсон пишет: «В том смысле, в котором только знание даёт полное обоснование, можно также определить градуированный смысл обоснования, употребляя формулу E= K. Вероятность истинности предложения при данной очевидности становится условной вероятностью на полном содержании знания. Вероятность может быть интерпретирована как степень обоснования веры в это предложение. Структура таких очевидностных вероятностей может быть исследована посредством математических моделей эпистемической логики, иногда с неожиданными результатами. Например, можно что-то знать, даже если на имеющейся очевидности вероятность, что знаешь, близка к нулю» [24, р. 215]. Таким образом, можно знать что-то, не имея почти никакой очевидности (никакого обоснования), что знаешь это.
Выше мы уже говорили, что следует различать концепты вероятности и модальности (см., например, раздел 2.4 Главы 2 Части 1). Пример с лотереей показывает, что вероятностная близость и модальная близость к актуальному миру не одно и то же. Случай 1. Моё истинное и обоснованное мнение, что я не выиграл в лотерею, – не знание, хотя объективная вероятность, что я не выиграл очень высока. Очевидностная вероятность в смысле Уильямсона, то есть условная на очевидности/знании вероятность, тоже высока, но меньше 1. Случай 2. Моё истинное и обоснованное мнение, что напечатанный в газете результат розыгрыша лотереи правилен, то есть не допущена ошибка или опечатка, есть знание, хотя объективная вероятность, что ошибка и опечатка отсутствуют, меньше, чем в предыдущем случае.
Асимметрия между двумя случаями объясняется тем, что очевидностная вероятность во втором случае равна 1 (моё знание есть очевидность. Вероятность, условная на этой очевидности, равна 1). В терминах возможных миров наличие знания в втором случае объясняется тем, что возможные миры, в которых допущена ошибка, не имеют достаточного сходства с актуальным миром, то есть они не являются близкими (релевантными) мирами. Другими словами, модальная близость отличается от вероятностной близости, если принять концепцию объективной вероятности. Напротив, концепты модальности и очевидностной вероятности не расходятся[83]83
Предположение, что очевидностная вероятность удовлетворяет стандартным аксиомам теории вероятности не очевидно, хотя и правдоподобно. (См. ответ Уильямсона в [42, p.333].) Уильямсон принимает абдуктивную методологию, согласно которой о теории судят по её плодам.
[Закрыть].
Согласно нормативной концепции обоснования, обоснованное мнение удовлетворяет некоторому «должно» («ought» или «should»). Как уже было сказано выше, а рамках теории Уильямсона, обоснованное мнение должно быть знанием[84]84
С точки зрения ЭСЗ, концепция нормативности обоснования противостоит традиционному взгляду, согласно которому обоснованное мнение не является обязательным, а необоснованное мнение не запрещено.
[Закрыть]. В частности, обоснованное мнение не может быть ложным. Необоснованное мнение, однако, может удовлетворять более слабой норме, чем норма знания. Оно может иметь хорошее оправдание. Например, в случаях Гетье истинное мнение не является знанием. Поэтому оно не является обоснованным. В то же время оно является оправданным. Так же и ложное мнение мозга-в-баке не является обоснованным, но имеет хорошее оправдание.
Знание – конститутивная (подобно правилам игры), а не телеологическая, норма для мнения (убеждения) и утверждения, выявляющая реальную сущность (природу) мнения и утверждения[85]85
Знание также норма для практического рассуждения (см. ниже).
[Закрыть]: «Верь (утверждай), что p, тогда и только тогда, когда знаешь, что p». Это не операционное правило, так как мы не всегда знаем, что мы знаем. Аргумент Уильямсона в пользу того, что знание есть норма для мнения, имеет следующий вид: «Если никогда не желали рассматривать “Р” как рациональное основание, чтобы что-то делать, даже когда верили “Если Р, то в доме пожар”, то принятие (commitment) “Р” будет слишком слабым, чтобы его считать убеждением (belief). Принимая во внимание связь между знанием и основаниями для действия, отсюда следует, что если верите, что Р, желаете принять решения недефектным образом только в том случае, если знаете, что Р. Это подсказывает простую когнитивную норму: верьте, что Р, только если знаете, что Р. Назовём это правилом знания для убеждения (KRB)» [24, p. 214]. Другими словами, можно говорить об убеждении, если есть готовность принять решение, действовать, исходя из этой посылки. В противном случае это не настоящее убеждение. Но безупречно действовать можно только на основании знания. Следовательно, знание должно быть нормой для убеждения.
Утверждение (assertion) – аналог мнения/убеждения. Если знание – норма для мнения/убеждения, то знание должно быть и нормой для утверждения. Уильямсон пишет: «Утверждение – аналог убеждения в языке. Оно имеет аналог KRB – правило знания для утверждения (KRA): утверждай, что Р, если и только если знаешь, что Р. В точности так же, как парадоксальные верования Мура дают очевидность для KRB, парадоксальные утверждения Мура дают очевидность для KRA. Более того, KRA может быть подтверждено широким набором лингвистических данных. Так же, как и с KRB, оппоненты KRA имеют тенденцию возражать, что это задаёт нереалистически высокий стандарт. Для сторонников KRA такие возражения принимают оправдания за обоснования. Если “аргумент против светимости” корректен, можно нарушить любую нетривиальную норму для утверждения или мнения, не будучи в состоянии знать, что её нарушаешь [Согласно Витгенштейну, в конечном итоге мы следуем правилу (норме) слепо. – Примечание наше]. Оба правила, KRA и KRB, – естественные развития ЭСЗ, так как они подразумевают, что даже не влекущие с необходимостью истину центральные когнитивные установки, такие как утверждение и мнение, нормативно зависят от знания» [24, р. 215].
Подход Уильямсона позволяет объяснить следующий парадокс Мура. Предположим, Мур формирует следующее убеждение или делает следующее утверждение: «Идёт дождь, и (но) я не знаю (или не верю), что идёт дождь.» Интуитивно это убеждение или утверждение плохо сформировано. Это можно объяснить тем, что оно не удовлетворяет норме знания. В самом деле, если знание – норма для мнения и утверждения, то мнение или утверждение Мура удовлетворяет этой норме только тогда, когда Мур знает, что оно истинно, то есть он знает, что идёт дождь, и знает, что он не знает (или не верит, и, следовательно, не знает), что идёт дождь. Но это противоречие.
19. Аналогия между знанием и действиемСуществует интимная связь между действием и языком. Витгенштейн цитирует «Фауста» Гёте: «Am Anfang war die Tat» (В начале было действие). Ж. Бенуа показывает, что с точки зрения философии позднего Витгенштейна сказать, что в начале было действие, и сказать, что в начале было слово – одно и то же: «Заменяя Слово на Действие (Deed), немецкий поэт, возможно, предполагает, наоборот, некую более глубокую идентичность. В начале было Действие, потому что в начале было Слово, но это Слово было просто Действием – как, возможно, в какой-то степени всегда и есть слово. Тогда вернуться от слов к действию означает, по сути, принять другой взгляд на слова: увидеть их как действия» [43, р. 161]. В самом деле, примитивные языковые игры Витгенштейна – нормативные (интенциональные) действия, то есть употребления правил (норм) – языка в широком смысле. Эти правила можно трактовать как петлевые предложения (ПП), – «знание», или знание-как (согласно интеллектуалистской позиции Стэнли и Уильямсона, которую мы во многом разделяем, знание-как – (практическая) разновидность знания-что. См. Главы 2–3 Части 5). Таким образом, можно также эквивалентным образом сказать, что в начале было знание.
Это подтверждается аналогией между знанием и действием, которую устанавливает Уильямсон [9; 30][86]86
Уильямсон признаёт, что эта аналогия не совершенна и продолжает её развивать.
[Закрыть]: знанию соответствует действие, мнению – интенция, истинности – успех, ложности – неудача[87]87
Перцепция, что р, даже ближе (в плане аналогии) к действию, чем знание, что р. Она включает input из среды агенту, подобно тому, как действие включает в себя output от агента в среду. В обоих случаях имеется причинная связь.
[Закрыть]. Знание – это приспосабливание сознания к миру, тогда как действие – приспосабливание мира к сознанию, знание и мнение – на входе практического рассуждения, тогда как действие и намерение – на выходе из него. Уильямсон также устанавливает аналогию между попыткой проанализировать знание в виде «знание = мнение + истина + Х» и попыткой проанализировать действие в виде «действие = интенция + успех + Y»[88]88
Парадигмой этого анализа служит следующий анализ цвета: красный = цветной + Z.
[Закрыть]. Эта аналогия в дальнейшем им развивается. Уильямсон вводит понятия «блэнкин» (blanking), а «желание-как-мнение»[89]89
Поскольку желание, наряду со знанием (или мнением), относится к входным данным для практического рассуждения, его можно трактовать как желание-как-мнение (см. ниже). Здесь Уильямсон ссылается на [44]. Желание – разновидность мнения. Желать что-то – верить, что это хорошо. Это объясняет, почему буриданов осёл не умрёт от голода. Хотя тюк сена слева он желает так же сильно, как и тюк сена справа, он в то же время может иметь намерение съесть тюк слева (или справа). Желание, как и знание или мнение, относится к входным данным (input) практического рассуждения, а интенция – к выходным данным (output).
[Закрыть]. Блэнкин занимает промежуточное место между мнением и знанием и является чем-то вроде «рационального мнения». Блэнкин соответствует попытке действия. Наличие знания, что p, с необходимостью влечёт наличие блэнкин, что p, которое в свою очередь с необходимостью влечёт наличие мнения, что p. Но не наоборот. Например, иррациональное мнение не является блэнкин; оно соответствует лишь интенции. Наличие интенции действовать не всегда означает наличие попытки действовать [30].
Напомним, что для Уильямсона знание – норма для мнения: «Верь, что р, тогда и только тогда, когда знаешь, что р». Знание для него также норма для практического рассуждения и действия. Она имеет следующий вид: «Действуй только исходя из того, что знаешь». В практическом рассуждении мнения играют ту же самую локальную роль, что и знание, а интенции – ту же самую локальную роль, что и действие. Но с глобальной точки зрения, когда с практическим рассуждением всё в порядке, действуют, исходя из того, что знают, а не просто верят. Уильямсон пишет: «Маргинализация знания в подходе к познаваемым вещам (…) так же порочна, как и маргинализация действия в подходе к практическим вещам» [30, р. 164]. Практическое рассуждение, которое употребляет ложные посылки, плохо функционирует.
Знание генерирует действие. Уильямсон пишет: «Функция умного действия включает применение знания для реализации целей агента» [23, р. 269]. И наоборот: действие (например, смотреть, слушать, исследовать и т. д.) генерирует знание.
Знание играет центральную роль в объяснении действия. Предположение, что успешно действуют именно исходя из знания (знание – норма для действия), лучше объясняет действия, чем предположение, что успешно действуют, исходя из истинного мнения. Вот один из примеров Уильямсона. Вор-взломщик проникает в дом и очень долго и настойчиво ищет спрятанный брильянт. В конце концов он его находит. Это можно объяснить лишь тем, что он знает, что в доме спрятан брильянт. Если бы у него было просто истинное мнение или даже истинное обоснованное мнение, но не знание, он бы так долго и настойчиво его не искал. Удовлетворение его желания объясняется знанием. (См. также [45; 46]). Согласно традиционная точка зрения обыденной психологии, причинами наших действий являются наши мнения (верования, убеждения) и желания. Последние объясняют действия функционально. Удовлетворение желания объясняется истинным мнением. Такая теория хуже объясняет пример с вором-взломщиком.
20. Контекстуализм и практическое рассуждениеВ самых общих чертах эпистемический контекстуализм утверждает зависимость эпистемических стандартов от контекста, в том числе и от практического контекста (в разных практических контекстах «ставки» могут быть более или менее высокими)[90]90
Строго говоря, следует различать собственно эпистемический контекстуализм, когда стандарты оценки высказывания «S знает, что р» относятся к исходному контексту, в котором располагается сам субъект S, и семантический контекстуализм, когда стандарты оценки относятся к контексту, вообще говоря, внешнего наблюдателя – атрибутора высказывания «S знает, что р» (см., например, [47]).
[Закрыть]. Например, зависимость от контекста стандартов применения концепта знания позволяет отвергнуть скептицизм. Последний объясняется игнорированием этой зависимости и, соответственно, выбором слишком сильных стандартов, относительно которых знание невозможно. Контекстуалист утверждает, что в обыденном контексте мы знаем о вещах окружающего нас мира. Лишь в специфическом скептическом контексте мы не имеем этого знания. На самом деле, против такой разновидности контекстуализма существуют убедительные возражения. В частности, можно утверждать, что в этом случае сам концепт знания оказывается неоднозначным, зависящим от контекста.
Эпистемический контекстуализм несколько отличается от другой контекстуалистской позиции – так называемого «субъект-чувствительного (или просто чувствительного) инвариантизма» (subject-sensitive invariantism), принимающего во внимание лишь контекст субъекта, тогда как зависимость эпистемического статуса субъекта от контекста атрибутора отрицается [48]. Но и эта разновидность контекстуализма в эпистемологии не безупречна. Уильямсон, например, показывает, что антискептический субъект-нечувствительный инвариантизм, согласно которому стандарты для корректного применения эпистемических терминов, например, знания, не варьируются, объясняет эпистемические явления не хуже, чем контекстуалистские теории. Это ослабляет позиции контекстуализма и чувствительного инвариантизма.
Некоторые аргументы в пользу контекстуализма апеллируют к связи между знанием и практическим рассуждением. Согласно Уильямсону, «KPR: Приписывание предложению в первом лице настоящего времени “знаю” истинно в контексте, если и только если это предложение – подходящая предпосылка для практического рассуждения в этом контексте» [48, p. 227]. Например, «(…) “Я знаю, что моя дверь закрыта” истинно в моём контексте тогда и только тогда, когда то, что моя дверь закрыта, является подходящей предпосылкой для моего практического рассуждения» [48, p. 227]. Результатом такого практического рассуждения может быть, например, то, что я выхожу из дому, не проверив, закрыта ли дверь. На самом деле, как утверждает Уильямсон, «знание-практическое-рассуждение (KPR) принцип» необязательно возрождает контекстуализм. Он предлагает следующий модифицированный принцип KPR’: «Знают, что q, если и только если q – подходящая предпосылка для практического рассуждения» [48, p. 231]. Здесь нет эксплицитного апеллирования к контексту. При этом если q – подходящая предпосылка, но субъект не находится в положении знать, что она подходящая, он знает, что q, не будучи в положении знать, что он знает, что q (здесь применяется «аргумент против светимости»).
Рассмотрим следующий пример. Иван и Марья в зоопарке. (1) Иван: «Я знаю, что это зебра». (2) Марья: «Каким образом ты знаешь, что это не подделанный под зебру мул?» (3) Иван: «Да, исходя из того, что я знаю, я не могу сказать, что я знаю, что это не подделанный под зебру мул. Следовательно, я не знаю, что это мул.» Чувствительный инвариантист скажет, что в контексте (1) Иван знает, что это зебра, тогда как в контексте (2)/(3) он этого не знает. Во втором контексте стандарты более высокие. Переходя из одного контекста в другой, Иван потерял знание. Ответ нечувствительного инвариантиста будет такой: я знаю, что это не подделанный под зебру мул, так как я знаю, что это мул. Стандарты в обоих случаях одни и те же.
На первый взгляд, отличие между Уильямсоном и Витгенштейном в том, что для первого то, что Витгенштейн называет петлевым предложение (ПП), – знание, тогда как для второго они имеют логическую (в широком смысле) природу. Языковые игры (ЯИ) Витгенштейна – переплетение языка и вещей, нормативные практики, интенциональные (нормативные, концептуализированные) действия. «Подходящую предпосылку» в смысле Уильямсона, которую он трактует как знание, можно трактовать как ПП в смысле Витгенштейна, то есть как правило для ЯИ. (Оператор знания – самое общее правило ЯИ. Поскольку есть аналогия между знанием и действием, можно говорить как о практических, так и чисто эпистемических ЯИ.) Уильямсон, так же, как и Витгенштейн, не трансценденталист (и не антитрансценденталист – оба выходят за пределы трансцендентальной философии, а не пытаются её опровергнуть или преодолеть). Витгенштейновские ПП не трансцендентальные условия возможности. Хотя они относятся к «грамматике» формы жизни, они укоренены в реальности и могут менять свой статус (см. [40] о трёхаспектной природе ПП). Для к-реалиста зависимость от контекста – это то, без чего реализм и познание вообще не имеют смысла, а не дополнительное условие.
21. Принцип доверия с точки зрения ЭСЗЭСЗ вносит существенные поправки в понимание принципа доверия (principle of charity) Дэвидсона. Одна из его формулировок гласит: «Доверие нас обязывает (charity is forced on us); нравится нам это или нет; если мы хотим понимать других людей, мы должны считать, что они правы по большинству вопросов» [49, p 197]. Метафизическая версия принципа утверждает, что большинство мнений агента истинно. Поэтому интерпретатор должен максимизировать пропорцию приписываемых агенту истинных мнений. Другие версии принципа требуют максимизации рациональности или непротиворечивости (coherence) мнений субъекта. (Схожие принципы предложили Дэниел Деннет и Ричард Грэнди.)
Уильямсон считает принцип доверия Дэвидсона «очень спорным принципом» [23, p. 261]. Его версия принципа утверждает максимизацию знания (но не минимизацию незнания, которое бесконечно) [23, p. 265]: «Предложение в том, чтобы в принципе доверия заменить истинное мнение знанием, относящимся к содержанию» [23, p. 264]. «Подходящий принцип доверия высоко оценит те интерпретации, согласно которым спикеры склонны утверждать то, что они знают, а не интерпретации, согласно которым они склонны утверждать то, что истинно, или даже то, во что для них разумно верить (в связи с утверждением!» [9, р. 267].
Применимость принципа максимизации знания подтверждается на примерах. Рассмотрим, вкратце, один из примеров Уильямсона – «Emanuel, Celia, Elsie» [23, p. 262–263]. Предположим, что Е (Emanuel) смотрит на С (Celia) и убеждён, что «она стоит перед ним», «имеет черту характера «а»», «имеет черту характера «b», …… «с ней произошло то-то и то-то», «в её жизни была такая-то история» и т. д… Предположим, что все эти убеждения Е ложны, за исключением первого, что она стоит перед ним. Предположим, однако, что все они, за исключением первого, истинны в отношении El (Elsie), которую E не видит и даже никогда не видел. С точки зрения принципа доверия Дэвидсона личное местоимение «она» указывает на El, а не на С, так как именно при этом предположении имеет место максимизация истинных убеждений. На самом деле, конечно же, местоимение «она» отсылает к С. И это объясняется принципом максимизации знания. Е знает, что С стоит перед ним, хотя больше ничего о ней не знает. Напротив, Е ничего не знает о El.
Как отмечает Уильямсон, кластерные дескриптивные теории референта, которые были опровергнуты Х. Патнэмом и С. Крипке, – частный случай принципа доверия Дэвидсона, призывающего к максимизации истинных мнений [23, p. 264]. Они не могут объяснить тот факт, что Е думает о С. Чисто причинная теория референта тоже не может это объяснить. В самом деле, предположим, что El находится в причинной связи с С. Поскольку С находится в причинной связи с Е, El находится в причинной связи с Е. Причинная теория не может ответить на вопрос о том, в силу чего тогда Е думает о С, а не о El.