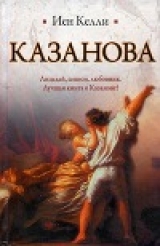
Текст книги "Казанова"
Автор книги: Иен Келли
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
В школе в Падуе
1734–1738
Именно аплодисменты… и литературная слава возносили меня на вершину счастья.
Джакомо Казанова
Аббат Антонио Мария Гоцци был учителем, виолончелистом и священником. Ему было двадцать шесть лет, он отличался «полнотой, скромностью и почтительностью» и жил вместе со своими родителями, изготовлявшими и продававшими обувь, когда к нему в Падую в ученики приехал Джакомо Казанова. Гоцци был доктором гражданского и канонического права, почитал музыку и теологию, был заядлым холостяком, а также имел обширную, весьма эклектичную библиотеку. На ее полках можно было найти книги на темы от современной астрологии и до популярных классических эротических произведений, вроде творения Никола Шорье «Алоизия, или Диалоги Луизы Сигеа о таинствах Амура и Венеры», по-видимому прочитанного Казановой. Кроме того, у Гоцци была младшая сестра, Беттина, «самая прелестная девушка на нашей улице», как утверждал Джакомо.
Гоцци оказался идеальным наставником для интеллектуально всеядного девятилетнего мальчика. Ежемесячно ему должны были платить сорок сольдо, и уже вскоре он проникся теплыми чувствами к своей новой работе и ученику. Джакомо не умел писать надлежащим образом и, к своему стыду, был помещен в группу пятилетних детей.
Сначала он был совершенно несчастен и тосковал по дому, но неожиданно ученье пошло быстро и отношения с Гоцци стали налаживаться. Аббат узнал, что его новый ученик плохо спит по ночам из-за тех ужасных условий, в которых живет, и отправился поговорить с хозяйкой заведения. Сразу после его ухода женщина обвинила во вшах Казановы горничную, а его самого поколотила. Тем не менее она стала лучше заботиться о мальчике, поскольку увидела, что теперь поблизости есть кто-то из местных, кто беспокоится о нем, даже если его семья и далеко. Здоровье Джакомо постепенно поправлялось.
Спустя шесть месяцев после приезда Гоцци назначил его проктором – главным мальчиком, ответственным за проверку домашних заданий – и предложил Джакомо переехать в свой дом. Вместе они написали Марции Фарусси, Гримани и синьору Баффо, детально описав условия жизни в общежитии в Падуе, и заявили, что Джакомо может умереть, если останется там. Немедленного ответа от Гримани или Баффо они не получили, но Марция приехала в Падую с ближайшим же буркьелло. Ей письмо прочли, так как сама она была неграмотна. Марция забрала Джакомо из общежития и, отобедав с ним в гостинице, где провела ночь, доставила внука аббату и его семье. За те сорок восемь часов, что она провела в городе, Марция устроила дальнейшее будущее внука: заплатила вперед за его обучение и обрила его кишевшую вшами голову, изведя насекомых. Гоцци дали ему светлый парик, который скрывал голый череп, но из-за контраста с его тонкими «черными бровями и темными глазами» мальчик служил поводом для насмешек иного рода.
В следующие два года Гоцци ввели Казанову в самое сердце собственной семьи. Винченцо и Аполлония Гоцци гордились тем, что их сын – священник, и тем, что один из его учеников (представленный им как «чудо», поскольку сам научился греческому языку из книг библиотеки Гоцци) стал жить с ними. Их единственная выжившая дочь, Элизабетта, или Беттина, стала первой, о ком Джакомо писал: «Не знаю почему, это она мало-помалу зажгла в моем сердце первые искры той страсти, которая впоследствии стала главной страстью всей моей жизни». Казанове было тогда десять лет.
За первый год пребывания сына в Падуе Дзанетта лишь раз вызвала его в Венецию, перед тем как подписать контракт на работу в театре в далеком Санкт-Петербурге. Визит Джакомо в 1736 году в родной город запомнился ему тем, что он смог сравнить свою прежнюю венецианскую семью – театральную, несколько непристойную, артистическую – с новой «семьей» в Падуе, где его уже считали готовым к карьере в церкви. Молодой Гоцци никогда раньше не был в Венеции, и Джакомо с удовольствием раскрывал перед ним привлекательность космополитичного города, не преминув отметить красоту своей матери, которая заставляла священника «испытывать неловкость». Казанова также осознал разрыв между интеллектуальным и театральным образами жизни: он стеснялся своей матери, которая не могла устоять перед искушением пофлиртовать с застенчивым сельским священником, но в то же время впервые в жизни увидел ее одобрение в свой адрес. Возможно, Марция убедила ее по-новому взглянуть на скромного болезненного ребенка, отосланного актрисой прочь из дома. Менее чем за год мальчик, которого когда-то считали идиотом, стал ярким, любознательным и живым и мог за общим столом изумлять компанию латынью. Более того, он пошел еще дальше – на обеде в доме Баффо, находившимся вблизи церкви. Сидя в тени, отбрасываемой колокольней, приглашенный на обед гость из Англии, поклонник Дзанетты, решил поддразнить ее умника-сына непристойной старинной загадкой:
Discite grammatici cur mascula nomina cunnus
Et cur femineum mentula nomen habet?
(Объясните-ка нам, ученые мужи, отчего на латыни слово
cunnus [вагина] мужского рода, a mentula [пенис] – женского?)
Джакомо оказался на высоте. Он не просто перевел, как просила мать, он и решил дать подходящий ответ на загадку, написав англичанину превосходный шутливый стих:
Disce quod a domino nornina servus babet.
(Тем объясню, что рабыня носит хозяина имя.)
Вся компания разразилась смехом, а англичанин подарил Джакомо в знак признания успеха собственные часы.
Дзанетта отметила событие, отдав Гоцци свои часы, и, когда она поцеловала его в обе щеки, аббат так застеснялся, что, краснея, ретировался в комнату при театре «Сан-Самуэле», которую делил с Джакомо. Позднее он сказал своему ученику, что его ответ на загадку был «великолепен», и с этого момента, в небольшом палаццо на кампо Сан-Маурицио, Казанова датирует собственное стремление к литературной славе, ибо «в ту же минуту, когда раздались аплодисменты и я почувствовал себя на верху блаженства, в мою душу упало первое зерно поэтического честолюбия». Впервые он получил публичное признание от матери и взрослых литераторов, и все благодаря демонстрации остроумия. То был опьяняющий вечер.
Спустя всего Четыре дня Гоцци и Джакомо уехали из Венеции, но при этом «дядя» Джакомо, аббат Альвизо Гримани, дал им деньги на новые книги, а Дзанетта, что любопытно, передала им подарки для Беттины: немного венецианского шелка и двенадцать пар перчаток. Она не хотела, чтобы ее сын находился только в компании Гоцци, и, возможно, инстинкт матери говорил ей, что сыну нравится Беттина – по причинам, которые он едва ли мог понять. Более прагматичное объяснение предполагает, что именно Беттина занималась волосами Джакомо, а его мать не хотела видеть на нем уродливые парики.
Беттина была на несколько лет старше Джакомо и называла его «мое дитя», и поначалу он был ей чем-то вроде куклы. Ее история рассказывается со слов Джакомо, поэтому мы никогда достоверно не узнаем, действительно ли Беттина соблазнила его в возрасте одиннадцати лет, но в его изложении первое романтическое и сексуальное приключение было в большей степени инициировано женщиной, нежели им самим. Это подростковая истина, простая и далеко не непорочная. Она купала его ежедневно, комментируя изменения в его теле, касаясь его и тиская. Она высмеивала его «робость», когда он испытывал приступы неуверенности в себе, не зная, как ему следует действовать. Он знал, что хотел большего. Он знал, что она хочет того же. Он чувствовал замешательство и ненормальность ситуации.
Она связала ему чулки и принесла их на регулярные утренние свидания в его спальне, чтобы убедиться, что они ему впору. Ее брат служил мессу.
Приготовившись натянуть на меня чулок, она вдруг сказала, что мне не мешало бы как следует вымыть ноги, и тут же приступила к делу, не заботясь о моем разрешении. Я постыдился показать ей, что стыжусь, и позволил ей действовать, никак не предвидя последствий. В своей заботе о чистоте Беттина проявила такое рвение и зашла так далеко, что ее любопытство причинило мне столь острое, до сих пор не испытанное мною наслаждение, которое я не мог укротить, и оно вырвалось на волю. Когда все утихло, я, считая себя виновным, попросил у Беттины прощения. Она, не ожидавшая этого, подумав немного, великодушно сказала, что в этом вина ее, а не моя, но что больше такого не повторится. Тут она ушла, оставив меня наедине с моими размышлениями. Они были печальны.
Так Джакомо описывает свой первый сексуальный опыт в стиле, который, в действиях и риторике, станет его подписью. Кульминация – его первая – может быть пропущена за деталями обольщения, описаниями умысла и его последствий для партнера и самого Казановы.
Сперва его интриговало желание и реакции его партнеров, так как он находился в плену своих собственных и точно так же смущался, как и любой юноша-подросток, замечая противоречивые сигналы девочек. Кроме того, он страдал, или получал удовольствие, от мгновенности своей реакции, необычной для мальчика его возраста, и в зрелом возрасте, как представляется, Джакомо мог эякулировать без того, чтобы кто-либо физически коснулся его пениса.
С Беттиной все было кончено, в плотском смысле, прежде чем успело начаться, и Джакомо был растерян и сконфужен. С пылом примерного католического школьника он решил, что единственный способ восполнить то, что он обесчестил сестру аббата, – жениться. Беттина, по-видимому, приняла это менее серьезно, она обещала ему, что случившееся больше не повторится, но вскоре подстроила, чтобы он пошел с ней на танцы как ее эскорт, переодетый в девочку. Позже случилось следующее: она позволила Кандиани, более старшему мальчику, прийти к ней в комнату, в обстоятельствах, которые Казанова интерпретировал, возможно справедливо, как оскорбление для себя и как доказательство ее распущенности. Кандиани ударил его ногой в живот, когда обнаружил Джакомо подслушивающим у комнаты Беттины, и Джакомо начал в мечтах представлять собственную месть. Беттина потом утверждала, что Кандиани шантажировал ее связью с Джакомо. И тогда, и сейчас истину установить невозможно, в течение ближайших нескольких дней у Беттины приключились страшные судороги. В смятении и тревоге – синьора Гоцци была уверена, что болезнь – дело рук колдуньи – Джакомо нашел записку от Кандиани к Беттине, говорившую против них обоих: «Когда, встав из-за стола, я пойду к себе в комнату, там вы и найдете меня, как раньше». Галантный Джакомо спрятал ее и, что типично для него, смеялся, пока у Беттины не диагностировали оспу.
Такие трагикомические внутренние драмы, кажется, не затронули его занятий – или, на деле, не обратили на себя внимание Гоцци. Джакомо продолжил свою работу, а Беттина выздоровела, хотя болезнь оставила на ней шрамы. Она и Кандиани почти не разговаривали, и два года спустя она вышла замуж за местного башмачника. Казанова завел привычку вспоминать как близкую подругу девушку, которую он назвал своей «первой любовью». В 1776 году он присутствовал у ее смертного одра.
Между тем Дзанетта побывала в Санкт-Петербурге и вернулась в Италию. Она получила приглашения выступать перед двором польского короля и в Дрездене и никогда уже больше не жила в Венеции.
Джакомо добродушно рассказывал об окончательном исчезновении матери из его детства. Он даже выбросил из головы слезы маленького Джованни – своего восьмилетнего брата и единственного из детей семьи Казанова, которого она взяла с собой в Дрезден – как знак того, «что он был не очень умным, ибо не было ничего трагического в ее отъезде».
Он вернулся в Падую и к учебе. Казанова хвалился тем, что он получил диплом доктора права в шестнадцать лет, что долгое время считалось ложью, но оказалось правдой. В диссертации по каноническому праву он писал о праве евреев строить синагоги – спорный вопрос того периода – и о гражданском судопроизводстве и наследовании. Записи архива Падуи ясно свидетельствуют, что он окончил учебу в 1741 году, поступив в университет в 1737 году, в возрасте двенадцати лет, хотя и жил в Венеции с 1739 года. Он переехал туда в позднем отрочестве и метался между двумя городами, скрепя сердце учась у венецианского адвоката, хотя на самом деле хотел стать врачом. Семья Гримани, вероятно, подталкивала его к занятиям каноническим правом, считая близость к церкви достойной большего почтения. Казанова напишет потом, что он неоднократно говорил всем, что его призванием являлась медицина, «но моим желанием пренебрегли». Его юридическая подготовка тем не менее обернулась для него впоследствии циничным отношением к закону и юристам, но свое свободное время он использовал хорошо. Испытывая безотчетную и фамильную тягу к народной медицине, он дополнительно изучал медицину, физику и химию в монастыре де ла Салюте и приобрел навыки самостоятельной диагностики и лечения.
Его семья, однако, до некоторой степени была права в выборе для него церковной карьеры. Если бы он последовал предложенным путем, то выбрал бы более безопасную дорогу – подальше от театра и в направлении к респектабельной жизни, открывавшую ему идеальное использование его способностей к риторике. Однако иные его таланты и склонности остановили его в блистательном продвижении на этом поприще для избранных, увлекая его в храм не столь возвышенный, зато более близкий его сердцу.
Акт I, сцена IIIЯ становлюсь священником
1739–1741
Красавец, гурман и сластена, он обладал тонким умом, великолепным знанием жизни, венецианским остроумием… и имел двадцать любовниц.
Казанова о Малипьеро, своем первом аристократическом образце для подражания
«Он только что приехал из Падуи, где учился в университете» – такими словами нам представляют долговязого школяра, прибывшего в самый модный район Венеции, Сан-Марко. Казанова сильно переменился с тех пор, как пять лет назад уехал отсюда на буркьелло тихим, болезненным ребенком. Он был высок для своего возраста, почти достигнув своего взрослого роста в шесть футов и полтора дюйма. Он считался очень умным и образованным, что, по сути, было правдой, и приходской священник в маленьком приходе Сан-Самуэле встретил его с энтузиазмом. Отец Тозелло повез его на гондоле по Большому каналу, от Пьяцетты за пресвитерией, к патриарху Венеции в базилику Сан-Марко, который должен был тонзуровать и рукоположить Джакомо в младший духовный сан. Церемония состоялась 17 января 1740 года.
Таковы были первые шаги в церковной карьере, не означавшие, однако, полного принятия священства или вступления в его ряды. Несмотря на это, Марция Фарусси с великой радостью получила новости от своего старшего внука. Принятие Джакомо титула «аббат» придало ему вес в глазах местного населения, если он еще не имел его – с его стройным телосложением, копной кудрей и прямым взглядом. Он стал постоянно присутствовать на мессе, а затем и на кафедре. Его положение – особенно после одного полезного знакомства – открыло ему доступ в салоны венецианского общества, на что сын актрисы прежде не мог и рассчитывать, и позволило посещать многие венецианские монастыри, где в уединении постигая грамоту томились многочисленные девушки и молодые женщины.
Вернувшись в Венецию, Казанова поначалу расположился в квартире матери на Калле-делла-Комедиа вместе со своим братом Франческо. Дзанетта по-прежнему содержала его. Мальчики были предоставлены сами себе, поскольку их бабушка присматривала за младшими детьми в тесноте корте делле Мунеге. Считалось, что Джакомо опекает его «дядя» аббат Гримани, на практике же принятие в венецианское общество произошло благодаря тому, что он – через отца Тозелло – был представлен владельцу палаццо (дворца), находившемуся рядом с церковью и Большим каналом, веселому бывшему сенатору, которому больше всего на свете нравилась молодежная компания.
Со слов Казановы, в свои семьдесят лет богатый Малипьеро имел множество земных благ и достижений, был общителен и с радостью находился в окружении интересных молодых людей и «общества, которое составляли дамы, сумевшие отлично попользоваться своими лучшими годами, и тонкие умы, осведомленные обо всем, что происходило в городе». Он был одним из самых влиятельных вельмож Венеции и, распознав таланты Джакомо, помогал ему. Отец Тозелло не мог не знать об этом, приход Джакомо был мирским и он не слишком ревностно относился к посещению церкви, и – хотя позднее карьера и репутация Казановы сделают смешной саму мысль, что друзья и родственники считали его пригодным для служения церкви – в глазах прихожан, приходского священника из Сан-Самуэле и сенатора Малипьеро он превосходно выдержал проверку на звание священника.
Будучи аббатом, Казанова стал постоянным гостем обедов в роскошном палаццо Малипьеро. Тогда и теперь дворец имел один из самых просторных portegos (бальных залов), откуда открывался превосходный вид на Большой канал и Венецию. Стуча дверным молотком, сделанным в виде Геракла, и ступая по мраморному шахматному полу бального зала палаццо, Джакомо Казанова вступал в новый элегантный мир, который полностью отвечал его вкусу. Дворец Малипьеро на каждом углу был украшен обнаженными богами и нимфами, и здесь юный аббат подошел к новому этапу жизни. Он познакомился с огромным количеством «почтенных дам», которые, в свою очередь, открывали свои сердца молодому вежливому новичку и представляли его своим дочерям, учащимся при местных монастырях.
Под шепот приливов и журчание сплетен в мраморных сводах portego Малипьеро «поведал правила поведения» на ухо Джакомо – он сказал, чтобы последний никогда не хвастался своей дружбой с женщинами или той легкостью, с которой, как священника и протеже сенатора, они принимали его в своих кругах.
Это богатое палаццо Малипьеро, залитое отраженным в водах канала светом, в жизни молодого актера, Казановы, сыграло драматическую роль. Самый впечатляющий интерьер в округе – более просторный, чем театр «Сан-Самуэле» и церковь, – portego олицетворял вступление в настоящее венецианское общество. Это была сцена, которая требовала определенного внешнего вида и умения себя держать – качества, распознанные и воспитываемые в Джакомо умудренным жизнью Малипьеро. Палаццо, исполненное изысканности и романтического цинизма старой Венеции, стало его миром, уводившим от церковной карьеры и манившим играми венецианского высшего общества. Казанова жил менее чем в десяти шагах от места своего рождения, но в совершенно новом мире ослепительных возможностей. Венеция, столь часто изображаемая как закрытый, ветхий город, управляемый олигархией старого режима, также, по иронии судьбы, была одним из самых демократичных мест. Малипьеро в своем дворце, Дзанетта в своей гардеробной и Марция в корте делла Мунеге жили в пределах нескольких ярдов друг от друга, слушали один и те же приливы, одинаково страдали от влажности и длинных проповедей Тозелло. Джакомо повезло (но это был не единичный случай) быть замеченным местным вельможей. Олигархи Венеции охраняли свои права и привилегии – история Казановы стоит в одном ряду с историями тех, кто осмеливался пытаться пересечь классовые барьеры, – но также открывали дорогу талантам и юношеской увлеченности тем, кто соответствовал их среде.
Усложняло и без того непростой мир желаний этого микрокосма Венеции то обстоятельство, что семидесятилетний сенатор был влюблен. Предметом его вуайеристского желания стала еще одна непосредственная соседка Казановы, тесно связанная с семьей Джакомо. Малипьеро влюбился в Терезу Имер, семнадцатилетнюю дочь импресарио Джузеппе, бывшего работодателя и любовника Дзанетты Фарусси в театре «Сан-Самуэле». Сад палаццо Малипьеро смотрел на дом семьи Имер, обращенный одной стороной на оживленное пространство корте делла Дука Сфорца, где из лодок высаживались направлявшиеся в театр зрители. Здесь у окна и сидела Тереза Имер, позволяя наблюдать за своими прелестями, пока она упражнялась в пении. В свои семнадцать лет она была «красивая, своенравная и кокетливая» и любила командовать поклонниками. Малипьеро доверился Казанове, рассказав о своей любви, он знал, что слишком стар, чтобы его серьезно рассматривали в качестве возлюбленного Терезы, но был вне себя от профессионального кокетства ее самой и ее матери. Он пожаловался Казанове на поведение женщин семьи Имер и начал посвящать юношу в интриги профессиональных куртизанок.
Жизнь молодого аббата вертелась между посещением церкви на одном конце Калле-делла-Комедиа, театром, расположенном на другом конце, и палаццо, отделявшем улочку от Большого канала. Джакомо бегал по поручениям отца Тозелло и, все чаще, по делам Малипьеро. Он проникся духом палаццо, начал одеваться и вести себя в соответствии со своим новым окружением. Он красился помадой и завивал и без того волнистые от природы волосы. Малипьеро, отец Тозелло и Марция предупреждали, что его манеры и внешний вид уже заметили в окрестностях Сан-Марко и сочли совершенно неподобающим для священнослужителя. Малипьеро, в частности, ожидал благоразумного поведения подопечного. Когда Казанова принялся утверждать, что и другие аббаты появляются в окрестностях города в париках и благоухающими духами, Тозелло подговорил Марцию отдать ему на время ключи от дома на Калле-делла-Комедиа. Однажды ночью, когда Казанова и его брат Франческо спали, Тозелло пришел и отрезал кудри Казановы, после чего ему пришлось выдержать яростные нападки молодого человека, пришедшего в неописуемый гнев и плакавшего от горя. Джакомо даже угрожал подать судебный иск на священника и успокоился только, увидев искреннее раскаяние своей бабушки, к тому же сенатор Малипьеро в подарок устроил ему встречу с одним из самых известных венецианских парикмахеров, который несколько поправил дело щипцами для завивки волос, ласковыми словами и новой модной прической, смягчив разгневанного юношу.
Стрижка привела к конфликту с Тозелло. Возможно, чересчур эмоционально, но, уже будучи острижен и вынужденный – согласно венецианским законом о роскоши – надеть более скромную одежду, Казанова в сердцах поклялся Малипьеро, что больше никогда не ступит и ногой в церковь Сан-Самуэле. Малипьеро сказал ему, что он совершенно прав («Это был способ заставить меня делать то, что они хотели от меня», – позднее напишет Казанова), а затем подстроил провокацию, бросив юноше вызов. На следующий день после Рождества в подарок от Малипьеро, бывшего местным сенатором, Джакомо поступило предложение попробовать себя в качестве проповедника на кафедре Сан-Самуэле, куда был выдвинут кандидатом аббат Казанова. Малипьеро слышал, как Джакомо разглагольствовал в садах его палаццо среди старших, да и сам обсуждал с молодым человеком поведение женщин Имер. «Что вы на это скажете? Вам это нравится?» – задал он ему вопрос.
Казанова ответил, что готов. Он был полон решимости «говорить удивительные вещи». В качестве текста на праздник Святого Стефана он весьма смело выбрал не библейский стих, а одно из посланий Горация: «Ploravere suis non responderer favorem speratum meritus» («Они сетовали, что их достоинства не находят той благодарности, на которую они надеялись»). Название оказалось пророческим. Казанова прорепетировал речь на своей бабушке, которая выслушала ее, перебирая молитвенные четки, и объявила ее «прекрасной». Джакомо показал речь и Малипьеро, который заметил, что она не совсем христианская, но аплодировал отсутствию латинских цитат и отправил его к отцу Тозелло. Казанова направил копию своего предполагаемого текста Гоцци в Падую и немедленно получил письмо-ответ, гласившее, что он «сумасшедший», а отец Тозелло сказал, что никогда не допустит произнесения столь небиблейской проповеди в Сан-Самуэле. Тозелло предложил Казанове прочесть одну из его собственных речей, но тот, преисполненный юношеского максимализма, поклялся, что при необходимости дойдет до венецианских цензоров и патриарха, чтобы доказать отсутствие в проповеди крамолы, и, в конечном итоге, Тозелло сдался.
Казанова выступил с проповедью и получил некоторое признание, а также смог собрать пожертвований «почти пятьдесят цехинов… когда сильно нуждался в деньгах… вместе с восторженными записками, все вкупе заставило меня серьезно задуматься о том, чтобы стать проповедником».
Этот был его второй пьянящий успех, он заслужил общественное и интеллектуальное признание, способствовал – как и реплики английского поклонника его матери – развитию склонности к выступлениям и импровизации. Но удовольствие оказалось недолгим: отец Тозелло попросил его снова произнести проповедь в День Святого Иосифа, 19 марта 1741 года, и вторая проповедь Казановы в приходе Сан-Самуэле оказалась в итоге последней.
В назначенный день он принял приглашение отобедать у знакомых аристократов – графа Монтереальского и его родственников. Казанова чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы не заучить свою проповедь наизусть и вдобавок пить во время обеда. Как он впоследствии напишет, «от беспокойной аудитории исходил глухой шум», так как он не обратился к ней как положено обращаться к пастве. «Я видел, как люди уходят, мне казалось, я слышу смех…» «Смею заверить читателя, – продолжал он, – что не могу сказать, сделал ли я вид, что лишился сознания, или упал в обморок всерьез». Тем не менее он упал на пол амвона, разбил голову и был перенесен в ризницу. Униженный, он упаковал вещи и отправился обратно в Падую, чтобы завершить свое юридическое образование и «полностью отказаться» от профессии проповедника. Однако он оставался священником и спустя несколько месяцев вернулся в Венецию, надеясь, что его провальную проповедь позабыли.








