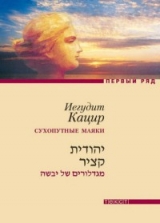
Текст книги "А облака плывут, плывут… Сухопутные маяки"
Автор книги: Иехудит Кацир
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Первый косяк Наоми выкурила так уверенно, словно занималась этим всю предыдущую жизнь – даже ни разу не закашлялась и не прослезилась, – однако после второго ее разобрало и на нее напал неудержимый приступ смеха.
– Карим и Джамиль, – хохотала она, не в силах остановиться, – это все равно как Азиз и Халиль, ха-ха-ха. Приходите к нам завтра в школу, ха-ха-ха, на урок литературы, ха-ха-ха, мы скажем учительнице, ха-ха-ха, что вы, ха-ха-ха, прочтете нам лекцию на тему «Близнецы Азиз и Халиль делятся впечатлениями о Хане Гонен» [14]. Ха-ха-ха…
Джамиль был у нее первый мужчина. Она говорила, что ей с ним хорошо и что они любят друг друга. Однако через две недели на улицу Олифанта заявился ее отец и крепко Джамиля побил. «Я не для того выжил в Освенциме, – орал он, махая своими ручищами, – чтобы моя дочь стала арабской подстилкой!» Джамиль сказал, что не понял, при чем здесь Освенцим, но пообещал больше с Наоми не видеться.
– Буду я еще связываться с сумасшедшими, – заметил он. – Я хочу закончить университет.
Несколько дней Наоми не вставала с матраса, служившего ей кроватью, ничего не ела, не ходила в школу, не играла на саксофоне и не рисовала.
– Ну и пусть я сдохну, пусть, – сказала она. – Не хочу больше жить.
И тогда я изобрела игру под названием «Хорошо жить в мире, где…». Я садилась возле нее на полу, смотрела на ее разметавшиеся по подушке влажные от пота волосы и бубнила:
– Хорошо жить в мире, где есть картины Пикассо. Хорошо жить в мире, где есть фильмы Вуди Аллена. Хорошо жить в мире, где есть Леонард Коэн [15], Джон Леннон, Арик Айнштейн [16], «Эмерсон, Лейк энд Палмер» [17]. Хорошо жить в мире, где есть поэзия Йоны Волах и Дальи Равикович [18], книги Германа Гессе и Пинхаса Саде, картины Ван Гога и Матисса. Хорошо жить в мире, где есть фильмы «Волосы» и «История любви». Хорошо жить в мире, где есть Париж…
И так по многу часов, день за днем. На уроках я вспоминала все новые и новые имена и придумывала все новые и новые причины жить, а после уроков шла к Наоми. И вот однажды вечером, когда я почувствовала, что исчерпалась, и, сказав: «Хорошо жить в мире, где…», запнулась, не зная даже, слушает она меня или спит, я вдруг услышала ее голос:
– …Луи Армстронг, Чарльз Паркер, Элла Фитцджеральд, Фрида Кало, Джозеф Хеллер, Сэлинджер.
Она помолчала и добавила:
– А знаешь, у тебя хороший вкус.
Я подошла к бару, налила себе водки, включила телевизор и отключила звук. «Пополитика» [19]. Крики, багровые лица, вздувшиеся жилы на шеях, глаза, вылезающие из орбит… Я переключилась на другой канал. Телесериал «Сайнфельд». Хорошо жить в мире, где есть «Сайнфельд»…
Я пошла в ванную, открыла кран, а затем, как одержимая бесом, снова подошла к зеркалу и еще раз осмотрела грудь. Спереди, сбоку, снизу. Потом я немного помяла ее и засунула палец во влагалище. Крови не было. Завтра пойдет двадцать девятый день. Последние дни – самые тяжелые. Весь день по телу словно бегут иголки, а по ночам, как дура, лежишь без сна и таращишь глаза в потолок.
Ванна наполнилась. Я добавила пены, улеглась и предоставила горячей воде утешать тело женщины из раздевалки. «А почему я решила, что хочу еще одного ребенка?» – подумала я и вспомнила первые месяцы после рождения Наамы. Я чувствовала себя тогда почти роботом: кормила ее, поднимала, чтобы срыгнула, вытирала ей попу влажными салфетками, пеленала, купала, целовала, снова кормила, снова давала срыгнуть, снова вытирала попу, улыбалась, качала коляску, ходила на молочную кухню, гуляла, пеленала, кормила, давала срыгнуть, улыбалась, целовала… Я была как заводная музыкальная шкатулка, которая снова и снова играет одну и ту же мелодию. Господи, как хочется спать… Только бы не сойти с ума… Ну за что мне все это, за что?.. И какая из меня, к черту, мать? Да мне самой, если хотите, нужна мать…
По вечерам, когда Яир возвращался с работы, я плакала, говорила, что больше так не могу и что я обязана снова начать рисовать. «Разумеется», – отвечал Яир, брал у меня Нааму и с посветлевшим лицом начинал петь ей песенку про слоника и зайчика, добавляя в нее слова из песенки про Йонатана. Наама смотрела на него как загипнотизированная, а я при виде этой идиллии с горечью думала: «Господи, ну как ему это удается, как? Вот так вот просто, любить ее – и всё. И почему она тоже так любит его, почему?»
Я шла в студию с твердым намерением работать, но, поднявшись на крышу, чувствовала, что у меня совершенно нет сил, садилась в кресло, сворачивалась калачиком и засыпала посреди своих недописанных холстов. Когда же Яир по ночам начинал гладить мои волосы, а его пальцы нежно касались моего лица, я резко отодвигалась, поворачивалась к нему спиной и отползала на край кровати. Я чувствовала себе пустой и ни на что не способной.
Однажды зимой, когда Нааме был уже год, у нее поднялась высокая температура. Она все время плакала, ее рвало, дыхание у нее было хриплым, и я страшно перепугалась. Я положила ей на лоб влажную салфетку, засунула ей со страху в попу сразу несколько свечей для сбивания температуры, позвонила Яиру на работу и попросила срочно прийти домой, но он сказал, что не может, потому что у него лекция. Когда он вернулся, я сорвалась и стала орать. Я кричала, что он мне совсем не помогает, что я больше в нем не нуждаюсь и что он вообще может убираться на все четыре стороны. Яир ничего не сказал, только сверкнул глазами, сложил вещи в дорожную сумку и пошел ночевать к товарищу. Через два дня он позвонил и сказал, что хочет вернуться.
– Давай сядем, поговорим и все спокойно обсудим.
Я сделала над собой усилие, чтобы не заплакать, и сказала, что хочу пожить одна. Яир помолчал и сказал:
– Ну что ж, тогда я сниму квартиру где-нибудь поблизости.
Мы договорились, что Наама будет жить у нас по очереди. Несколько дней в неделю у меня, несколько – у него. Когда наступал мой день, я забирала ее из яслей и приводила домой. Мы смотрели с ней «Бэмби», «Аладдина» и «Питера Пена», слушали кассету «Сто детских песен», гуляли во дворе и качались на качелях. Я кормила ее из ложечки, купала в ванной, декламировала ей «Мыло очень громко плачет» и заботилась о том, чтобы она была тепло одета и не болела. Однако на самом деле я все время ждала только одного – когда она наконец-то заснет и я смогу лечь в постель и уставиться в телевизор. Когда же наступала очередь Яира, я сидела дома одна и засыпала, глядя какой-нибудь телевизионный сериал.
Как-то раз Яир позвонил и сказал, что у него много работы и он не успеет заехать за Наамой в ясли.
– Ты не могла бы забрать ее сама и привезти ко мне? – попросил он.
…Держась за руки, мы с Наамой поднялись по плохо освещенной лестнице. Квартира Яира была обставлена по-стариковски, и, чтобы хоть как-то ее оживить, он повесил на стены картины, а на окна – шторы и поставил несколько горшков с цветами. В комнате Наамы стояла деревянная кроватка, накрытая разноцветным покрывалом, а рядом с ней – тумбочка. На полу лежал ковер, на котором валялись новые, незнакомые мне игрушки, а на стенах висели афиши фильмов «Книга джунглей» и «Кошки-аристократки». Сердце мое тоскливо сжалось. «Что вы здесь делаете, родные мои, в этой чужой квартире? – чуть было не крикнула я. – Возвращайтесь домой, приготовим ужин и будем жить как раньше…» Но подступившие слезы мешали мне говорить. Чмокнув Нааму в макушку, я выбежала на улицу и проплакала всю дорогу до дома.
В начале лета Яир вернулся. По субботам мы ходили на море, строили замки из мокрого песка и покупали Нааме наполненные газом летающие шарики в виде птички Твитти или русалочки. Мы называли их «шарики, живущие на потолке». Через несколько дней они сдувались, скукоживались, опускались ниже и начинали свободно летать по всей квартире. Каждый раз, когда передо мной, в комнате или в коридоре, неожиданно возникали их криво ухмыляющиеся сморщенные рожицы, я испуганно вздрагивала, как будто увидела в квартире незнакомца или привидение.
В конце лета мы решили родить еще одного ребенка. Целый год в дни, благоприятные для зачатия, мы отчаянно душили друг друга в объятьях, но у нас ничего не получалось. Как раз тогда мы и поехали в Париж…
Да, я уверена. Я хочу еще одного ребенка. Чтобы излечить душу. Чтобы выжать из тела все, что только можно, пока оно еще не состарилось. Чтобы хоть кто-нибудь еще стоял между мной и смертью. Да, кто-нибудь еще. Между мной и смертью…
Я залпом выпила водку и стала смотреть на мыльную пену. Местами она вздымалась, как горы, а местами образовывала плоские равнины, так что поверхность воды напоминала поверхность земли. Здесь были свои материки, моря, озера, острова, ледники, а кое-где виднелись фигурки людей и животных. Прямо на меня плыло похожее на торпедный катер чудовище с острыми зубами и черными дырами вместо глаз. Я вспомнила, как удивленно, словно на выступлении фокусника, распахнулись похожие на зеленые виноградины глаза Наамы, когда я рассказала ей, что такое беременность, и как безутешно рыдала она, уткнувшись в мой выпотрошенный живот, когда я вернулась из больницы. Перед глазами у меня вдруг все поплыло, кафельные плитки слились в одно большое белое пятно, и я подумала: «А может, все это произошло со мной из-за того, что когда-то в юности я хотела убить ребенка Йоэля Лева?»
Я вылезла из ванны, вытерлась, пошатываясь, доплелась до кровати и мгновенно уснула. Мне приснилось, что мы с Наамой идем в поликлинику на томографию, чтобы узнать, нет ли у нас рака. После проверки нам выдают результаты, нечто вроде рентгеновских снимков наших тел. Одно тело – большое, другое – маленькое. Снимки состояли из цветных кружочков, похожих на те аппликации, которые Наама делает в детском саду. На теле Наамы все кружочки – синие. Это означает, что ее организм совершенно чист. А на моем теле все кружочки разноцветные – желтые, оранжевые, красные, – в зависимости от размера и состояния опухолей, которые у меня обнаружили. Усатый врач с желтым карандашом за ухом, похожий на сына владельца скобяной лавки «Шнель и сыновья», говорит: «Метастазы там же, где и у вашей матери: в груди».
Я в ужасе проснулась. Во рту было горько и сухо. Я попила воды из-под крана и задернула штору. «Может быть, мне использовать такие же цветные кружочки в серии на тему ультразвука?» – подумала я, но тут же поняла, что больше никогда над этими картинами работать не буду. Сожгу их к чертовой матери – и дело с концом.
Я сидела в номере гостиницы, завтракала и любовалась пейзажем. За ночь ветер вымел с неба тучи, как выметают пыль из-под кровати, и над морем раскинулся голубой утренний шатер. Я надела пальто, вышла на улицу и пошла в сторону «Бейт-Ротшильд». Сегодня я иду к Йоэлю Леву, в его новый дом на улице Врачей.
Наш супермаркет…
Решетка, прикрывающая шахту, ведущую в метро «Кармелит». Старый детский страх провалиться в эту черную дыру. Я наступила на решетку ногой, и в ноздри мне ударил горячий сладковатый запах…
Китайский ресторан с аляповато раскрашенным деревянным драконом, изрыгающим огонь. Здесь мы отмечали семейные дни рождения…
Клиника доктора Миллера. Перед призывом в армию доктор вставил мне два выбитых зуба и сказал:
– Теперь сможешь спокойно улыбаться своему командиру, когда будешь подавать ему кофе.
Кинотеатр «Орли». Десять лет назад мы с мамой смотрели здесь «Другую женщину» Вуди Аллена. Это был последний фильм, который она видела…
Серый бетонный куб зала «Аудиториум». Позади него – старинное каменное здание, «Бейт-Ротшильд». Хорошо бы снова увидеть тот класс, где мы рисовали. Сноп пыльных солнечных лучей, проникавших в помещение сквозь высокие оконные арки, растекался по полу, выложенному цветными плитками, и образовывал на нем маленькие световые лужицы. Освещенное солнцем тело Норы… Солнечные зайчики, пляшущие в волосах Йоэля… Я толкнула дверь, но она была заперта.
Я пошла в парк и села на нашу с Наоми скамейку. Однажды мы договорились с ней здесь встретиться. Это было в пятницу, во второй половине дня. В то время мы уже обе служили в армии. Мы сидели на этой лавочке – я в форме военно-морского флота, а она – сухопутных войск, курили сигарету за сигаретой и, как ненормальные, орали друг на друга. Я кричала, что мать сумасшедшая лучше матери, больной раком, а она вопила, что всё как раз наоборот.
После армии мы с Наоми поехали на два месяца в Америку. Шлялись по музеям и джазовым клубам Нью-Йорка и Нового Орлеана, напропалую флиртовали с мужиками, каждый вечер напивались, а однажды пошли в бар «У Майкла» послушать, как Byди Аллен играет на кларнете. Правда, услышать его нам так и не удалось. Мы прождали целый вечер, но в конце концов один из музыкантов оркестра вышел и объявил, что Вуди упал с велосипеда в Центральном парке и сегодня у него нет настроения играть. Во время долгих автобусных переездов я клала Наоми голову на плечо и мы всю дорогу играли в игру «Хорошо жить в мире, где…». Все еще было впереди, все еще казалось возможным… Но, вернувшись домой, мы предали нашу детскую мечту о Париже. Я записалась в колледж искусств в Рамат-а-Шароне, а Наоми уехала в Иерусалим, сняла там однокомнатную квартиру с протекающей крышей в районе Нахлаот и поступила в художественный колледж «Бецалель». Время от времени мы встречались и показывали друг другу свои работы. Наоми решила написать серию автопортретов, напоминавших автопортреты Фриды Кало. На одном из них она изобразила мать, привязанную к кровати. К вискам у нее были присоединены электроды для шокотерапии, а в животе сидел ребенок с лицом Наоми. Под ее влиянием я тоже начала писать серию картин. Я посвятила ее прекрасной всемогущей фее своего детства Саманте. На одной из картин у нее была ампутирована грудь, на другой – наголо обрита голова, на третьей она лежала подключенная к системе жизнеобеспечения, на четвертой – блевала над унитазом, а на пятой – с отчаянием смотрела на себя в зеркало и печально морщила свой волшебный нос [20]. Серия называлась «Саманта в Первом онкологическом отделении».
В «Бецалеле» Наоми не прижилась. Ее не любили ни преподаватели, ни студенты. Слишком уж она была колючая. А когда ее отец умер, ей и вовсе пришлось бросить учебу и вернуться в Хайфу, чтобы ухаживать за матерью. Она начала пить.
– Она просто сводит меня с ума, – плакала Наоми в трубку. – Без алкоголя я не выживу.
– Так положи ее в психушку.
– Она не хочет.
– Тебе надо думать о самой себе.
– Почему именно о самой себе? Что плохого в том, чтобы думать о других?
– Ты хоть писать-то продолжаешь?
– Иногда, по ночам, когда она не видит. Она говорит, что мои картины – исчадье ада и что они ее убьют.
Однажды я приехала в Хайфу навестить маму. Она проходила тогда очередной сеанс химиотерапии, и все ее прекрасные волосы выпали.
– Тебе, по крайней мере, хотя бы есть на что надеяться, – сказала Наоми. – Твоя мать еще может выздороветь. А вот моя…
Постоянного партнера у нее в то время не было, только случайные мужики на одну ночь, с которыми она знакомилась в барах, а у меня тогда как раз начался роман с Шимшоном. Мы познакомились, когда он начал читать лекции у нас в колледже. Он был намного старше меня и своей стеснительностью, неуверенностью и очаровательной рассеянностью напоминал Вуди Аллена, так что мне все время хотелось обнять его и пожалеть.
Шимшон великолепно знал историю живописи, имел тонкий вкус и прекрасно разбирался в одежде, музыке, макияже, духах, еде и винах. Когда он читал лекции, его тоненькие ручки и ножки дергались, как у марионетки, очки сползали на кончик носа, а на лоб элегантно спадала седая прядь ухоженных волос. Имена и даты сыпались из него, как из рога изобилия, а его голос, как у оперного певца, то взлетал ввысь, то опускался до самых низов.
Он ухаживал за мной долго, как влюбленный подросток. Когда мы сидели в каком-нибудь дорогом ресторане, он робко брал меня за руку своей бледной, веснушчатой лапкой и молча смотрел мне в глаза. Так продолжалось несколько месяцев, пока наконец летом, перед началом последнего учебного года, он не набрался смелости и не пригласил меня поехать с ним в Лондон. По вечерам мы ходили на концерты в «Ройял-фестивал-холл», на оперы в Ковент-Гарден или в театр, а днем мне приходилось проводить с Шимшоном время в мужском отделе универмага «Харродз». Он покупал носки и трусы только там. Закупал их целыми партиями на год вперед и подбирал по цвету к одежде, обуви и галстукам. Ноги у него были безволосые, как у новорожденного. Когда мы лежали в постели, он жадно, как голодный младенец, прижимался к моей груди, а я зарывалась носом в его седую прядь и вдыхала запах дорогого лосьона, тоже, разумеется, купленного в «Харродзе». Когда мы вернулись из Лондона, наши отношения вступили в новую фазу. Каждый уик-энд я теперь проводила у него. По пятницам он закупал все газеты, какие только можно, и жадно прочитывал в них отделы искусства, чтобы узнать, кто обругал его на этот раз, а по субботам надевал махровый купальный халат и домашние туфли, уходил в свой кабинет и сочинял язвительные ответы. Его бледные ноги под столом время от времени поглаживали одна другую, а седая прядь на лбу воинственно раздваивалась, как бычьи рога.
Шимшон постоянно твердил, что я очень талантливая, и, когда я закончила последний курс, он сделал мне протекцию в одной художественной галерее. Там и состоялась моя первая выставка – «Саманта в Первом онкологическом отделении». Выставка открылась через месяц после смерти мамы. Мне было двадцать пять, и я искренне думала, что комплименты, потрепыванье по щечке, головокружение от вина и вспышки блицев будут длиться вечно.
Папа и Нуни пришли, несмотря на траур. Тетя Рут тоже. Она обняла меня со слезами на глазах и сказала:
– Ты знаешь, я ничего не понимаю в современной живописи, но я тобой горжусь.
Йоэль прижался щекой к моей щеке и шепнул:
– Это твой, что ли, тебе выставку сварганил, да? Я же говорил, что ты всегда падаешь на четыре лапы, как кошка.
Заместитель мэра поздравил присутствующих с открытием выставки и сказал, что ему нравится искусство молодых.
Затем с прочувствованной речью выступил Шимшон. Его седая прядь элегантно спадала на лоб, а речь изобиловала выражениями типа «конкретика и абстракция», «метафорическая стратегия тела», «крушение репрезентации» и «субъективный нарратив». Имена Лакана, Фуко и Деррида [21]кружились вокруг меня, как блестящие конфетти, а со стен на меня в упор смотрели страдальческие глаза Саманты.
Весь вечер я нервно поглядывала на дверь в надежде, что она вот-вот распахнется и войдет Наоми – долговязая, нескладная, в поношенном черном бархатном платье, купленном на блошином рынке, с неизменной сигаретой в руке. Но Наоми не пришла.
Когда речи закончились, я закрылась в кабинете директора галереи и набрала ее номер. Язык у нее заплетался. Я поняла, что она пьяна.
– В чем дело, где ты?
– Сегодня утром я положила маму в психушку. Она три дня подряд, не переставая, мыла полы, даже ночью, а потом выпила всю «экономику» [22]. У меня больше нет никаких сил.
– Я тебя весь вечер прождала.
– Прождала? Где?
Она забыла. Совершенно забыла.
– Как где? В галерее. На открытии моей первой выставки.
– Сыграй со мной в игру «Хорошо жить в мире, где…», – сказала она вдруг еле слышно.
– Ты что, рехнулась? Знаешь, сколько здесь людей?
– Ну пожалуйста. Назови три-четыре имени и всё.
Ни одно имя мне в голову не приходило. Кроме собственного.
– Я сейчас не могу. Позвоню тебе, когда все кончится. Держись.
Но когда все кончилось, мы с компанией друзей отправились праздновать в дорогой ресторан, а затем пошли домой, легли в постель и Шимшон, как младенец, прижался губами к моей груди.
Я позвонила ей только на следующий день. Она еще спала и сказала, что перезвонит позже. Но так и не перезвонила. Никогда.
На открытие выставки пришел и Яир. Его глаза светились в толпе, как два голубых огонька. Через несколько дней мы начали встречаться, потом стали вместе жить, а через три года я перестала принимать таблетки и сразу забеременела. Мы решили пожениться. Я послала Наоми приглашение на свадьбу, но она не пришла. Она исчезла. Вернее, я сама позволила ей исчезнуть.
Я вышла из парка на шоссе, остановила такси и попросила отвезти меня на улицу Врачей. Двадцать лет назад в такие же холодные зимние дни я сбегала по утрам с уроков, приходила к Йоэлю, утыкалась лицом в его пахнущую стиральным порошком фланелевую рубашку, и его влажные пальцы расстегивали пуговицы на моей голубой школьной блузке. Когда я видела его в последний раз? Два года назад? Нет, это было еще до выкидыша. Значит, два с половиной. Это было в Тель-Авиве, в кафе на берегу моря. Мы сидели, пили кофе, и он спросил, счастлива ли я в браке. Сам он себя счастливым никогда не считал.
Несколько месяцев назад он оставил мне на автоответчике сообщение: «Сегодня я развелся». Сообщил новый номер телефона и новый адрес. Но перед приходом я ему так и не позвонила. Я была уверена, что он сидит дома и ждет.
Когда мы подъехали к площади Сефер, я неожиданно для себя самой попросила пожилого водителя в такой же бейсболке, как и у деда Йехиэля, свернуть направо в сторону Кармелии, остановиться и подождать. Он посмотрел на меня в зеркальце заднего обзора и сказал:
– Без проблем. Только не забывайте – счетчик тикает.
Я толкнула облупившуюся белую калитку и вошла во двор в надежде на то, что днем новые жильцы дома находятся на работе. Калитка заскрипела. Прямо у входа рос куст «райских птичек». Он был голый. Все его «птички» с оранжевыми хохолками разлетелись [23]. Я подошла к нему, наклонилась и слизнула несколько капель с длинных влажных от дождя листьев. Потом обогнула дом и прошла на задний двор. Возле сосен цвели дикие цикламены, увенчанные зелеными сердечками листьев, и нарциссы, источавшие горько-сладкий, как в комнате больного, запах. В центре по-прежнему стояли дерево-жених и дерево-невеста, но ни листьев, ни гавайских цветов на них не было. Их голые серые ветви, словно руки, молитвенно возносились в небо. Я поднялась на веранду и села на бело-зеленые обшарпанные качели, мокрые от дождя. Сиденье подо мной заскрипело и перекосилось. У стены стоял стол, покрытый полиэтиленовой скатертью, а возле него – две горки белых металлических стульев со следами ржавчины. Я мысленно расставила стулья вокруг стола и рассадила на них всю свою семью.
Дед Йехиель – в бейсболке таксиста. Далья – в короткой юбке колоколом и с прической в форме ракушки. Загорелый и улыбающийся Ури в военной форме. Дядя Мони в шортах, как на фотографии, стоящей на этажерке тети Рут. Мама, золотоволосая и прекрасная, как фея, положила ногу на ногу. Папа прикрыл рот ладонью, чтобы скрыть улыбку. Своего брата Нуни я поместила рядом с собой, на качелях – он сидел и болтал пухленькими ножками, – а тетю Рут усадила во главу стола. Она рассказывала нам о своих приключениях эпохи Британского мандата. Ее голос то гремел, как голос актрисы, произносящей трагический монолог, то вдруг стихал до шепота и начинал звучать интригующе, а не знающие покоя руки с вечной черной каймой под ногтями чистили мандарины. и манго. Потом она взяла серебряные щипцы, расколола несколько орехов и разложила ядрышки по нашим тарелкам.
Половина сидящих на веранде, как говорится, уже далече, да и те, кто еще жив, разлетелись кто куда. Так что я вполне могу понять, почему тетя Рут так хочет воссоединиться с мужем, сыном, братом и племянницей. Человек, чье прошлое умерло, может жить, только если у него есть настоящее. Но если настоящее у него отобрали и собственное тело ему больше не подчиняется, то его уже ничто с этим миром не связывает и нет ему никакого утешения.
– Счетчик тикает, – пробормотала я. – Да, счетчик тикает.
Я спрыгнула с качелей, вышла за калитку и пошла к такси. Надеюсь, тете Рут никогда не захочется сюда прийти.
На улице Врачей такси остановилось. Непослушными руками я достала из кошелька деньги и расплатилась. Я вошла в подъезд и поднялась на второй этаж. Сердце у меня в груди виляло хвостом, как собака Павлова. На стене возле звонка черным фломастером было небрежно написано: «Лев». Мой палец по старой привычке автоматически нажал комбинацию «2-1-2». Кашель. «Одну минутку». Снова кашель. Шаги. Дверь открылась.
Улыбающиеся скобки губ. Блеск за стеклами очков. Поредевшие, поседевшие волосы. Клетчатая фланелевая рубашка. Явно ему мала и не может скрыть отросшего брюшка. Я подставила щеку под его седую щетину. Запах пота, алкоголя и еще чего-то незнакомого. Наверное, старости.
– Какими судьбами? Что привело тебя к нам в провинцию?
– Сама не знаю. Надеюсь, до отъезда пойму.
Он сделал жест рукой, приглашая меня войти.
Голые стены. Диван с выцветшей обивкой неопределенного цвета. Поцарапанный деревянный стол. Телевизор. Деревянные полки. Несколько книг. Квартира бедного студента.
– Я тут живу всего несколько месяцев, – сказал он виновато. – Все оставил ей.
– А почему вы с ней… Что случилось?
– Да ничего особенного. Застала с ученицей…
Ясно. Холодная ванна, рекомендательное письмо без слов…
– Ну, я думаю, переспать с тысячью и погореть на одной – это совсем неплохой результат.
– Издеваешься… Да было-то всего три-четыре, не больше.
– Включая меня? Ладно, не важно. Как твой ребенок?
Я вспомнила огромные глаза, которые следили за мной, не желая закрываться. Он засмеялся.
– Ребенок? Ребенок в Ливане, служит в «Голани» [24]. Мне из-за этого снова стали кошмары сниться, как после войны Судного дня. Совсем перестал спать от страха. Только на «бондормине» и «вабене» еще и держусь.
– А как дочь?
– Заканчивает пятый курс в университете «Бар-Илан». На психологическом.
– Ну а ты-то сам как?
– Если честно, хреново. Никакой радости в жизни.
Он протянул руку и поправил мне прядь, упавшую на лоб.
– Я рад, что ты пришла. Пойдем посидим на балконе.
С балкона был виден зеленый склон горы и большой кусок неба. Над морем снова собирались тучи, похожие на серое армейское одеяло. Йоэль принес с кухни бутылку белого вина и два стакана.
– За тебя, – сказал он.
– За то, что от меня осталось.
– Не преувеличивай.
Мы чокнулись.
– Время летит все быстрее, – сказала я, – и невозможно крикнуть ему, как в детстве: «Замри!» Еще пять-шесть лет тому назад мне казалось, что всё у меня еще впереди, а теперь вот кажется, что всё уже позади. Что могло произойти, уже произошло. Знаешь, я ведь уже почти в том возрасте, в котором заболела моя мама.
– Это ничего не значит, – попытался он меня подбодрить. – Ты проживешь до восьмидесяти, а то и до девяноста.
– Да-да, конечно, – сказала я с горечью. – Когда ты маленький, тебе все врут. Говорят, вот вырастешь, у тебя родятся дети, потом внуки, и только потом, когда ты уже будешь старым-престарым, только тогда ты умрешь. Но сколько людей на самом деле доживают до восьмидесяти – девяноста? Скольким людям удается не умереть от болезней, не погибнуть на войне, в теракте, в аварии, от рук собственного мужа, наконец? Единицам.
– Одна из них – моя мама, – улыбнулся Йоэль. – Ей девяносто три, и она уже несколько лет пребывает в старческом маразме. Вчера, например, я пошел проведать ее в дом престарелых, а она мне говорит: «Ты мужчина?» Да, говорю, мужчина. А она: «Тогда иди ко мне, я хочу тебя». На идише, разумеется. Схватила меня за рубашку и давай тащить к себе. Я ей говорю: «Я тебя очень люблю, но сегодня я устал».
Я засмеялась. Тетя Рут, бывший начальник пожарной охраны, делающий шапочки из лекарственных упаковок, мама Йоэля… Можно сказать, что им повезло. Хорошо жить в мире, в котором есть «красивые и смелые».
– Ну а как там твои? – спросил он. – Муж, дочь? – И, не дожидаясь ответа, сказал: – А знаешь, я был уверен, что ты выйдешь за этого, как его… Ну, за преподавателя твоего.
– Он уже женат, – ответила я. – На самом себе. Я была нужна ему, как собаке пятая нога.
Йоэль засмеялся.
– Над чем сейчас работаешь?
– Пишу серию картин на тему УЗИ. Изображаю младенцев в утробе. С увечьями или похожих на животных. На кур, лягушек, кошек.
Я не стала говорить ему, что собираюсь их сжечь.
Йоэль наморщил лоб. Видимо, не понял. Как рассказать ему об этом диком страхе, когда ты лежишь с раздвинутыми ногами в гинекологическом кресле, твой живот намазан какой-то холодной липкой дрянью, а на мониторе пляшут белые пятна?
– Это как пятна Роршаха, – попыталась я объяснить, – каждый видит в них свое. Каждое такое пятно – как карта нашей души, понимаешь? Своего рода диаграмма наших страхов. Когда я носила Нааму, меня преследовал страх, что я рожу курицу. Во время второй беременности мои страхи сбылись.
– Брось ты эти пятна, – сказал Йоэль. – Кошмар какой-то. Хочешь изобразить душу, говоришь? Тогда нарисуй облака.
И показал рукой на небо.
Нарисовать облака… Как на картине Эль Греко «Вид на Толедо»…
Я выпила вина. Оно обожгло меня изнутри, и мое зрение словно прояснилось. Из-за туч показалось солнце и прорубило в них яркие световые тоннели. Я сделала глубокий вдох, чтобы впустить эту неожиданную вспышку света в себя. Мне хотелось удержать ее внутри как можно дольше. Когда-то этот свет вызывал у меня острое желание рисовать, но в последние годы, за исключением одного парижского утра, такого желания у меня больше не возникает. Солнце вдохновения скрыло от меня свое лицо…
Сколько себя помню, я всегда была в кого-то влюблена. Во всяком случае, раньше мое сердце очень легко воспламенялось. Теперь же оно покрылось толстой коркой, стало, как и тело, тяжелым на подъем; его трудно сдвинуть с места, расшевелить. Похоже, чем старше становишься, тем слабее твое шестое чувство – способность удивляться и восторгаться.
– A y тебя нет желания раздеться? – сказал вдруг Йоэль. – Мне захотелось тебя нарисовать.
– Чего-чего тебе захотелось?
Он засмеялся.
– Ну, этого, конечно, тоже… Но в последнее время у меня, как бы это тебе сказать… в общем, проблемы с эрекцией, понимаешь? Из-за таблеток, наверное. Но если хочешь, мы можем попробовать. Обнимемся?
Передо мной сидел мужчина, которого когда-то я хотела так сильно, что в душе моей не оставалось места больше ни для чего другого. И в принципе, конечно, я могла бы сейчас поцеловать его губы, ставшие похожими на перезревший виноград и скрывавшие гнилые зубы, его красные, опухшие от бессонницы глаза и седой волосок на шее, торчавший из-под воротника фланелевой рубашки, а он, в свою очередь, мог бы обнять тело женщины из раздевалки. Одним словом, мы вполне могли бы с ним сейчас утешить друг друга…
– Видишь ли, Йоэль, – сказала я, – конечно, я могла бы сейчас с тобой переспать. Но дело в том, что в последнее время я, как бы это поточнее сформулировать… стараюсь обуздать свою натуру, что ли, понимаешь? Подчинить, так сказать, страсти долгу…







