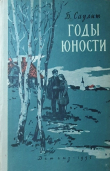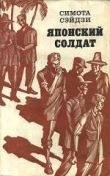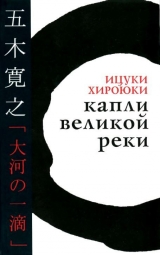
Текст книги "Капли великой реки"
Автор книги: Ицуки Хироюки
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
НЕМНОГОСЛОВНЫЕ КАЖУТСЯ БЕСПЕЧАЛЬНЫМИ
Люди западных стран и китайцы дорожат словом, они натренированы, чтобы свободно и живо, искусно прибегая к разнообразным оборотам, выражать проносящиеся в собственной голове мысли и смешанные чувства.
Я считаю, что было бы очень хорошо, если бы и мы научились щедро и свободно использовать дар слова. Однако, каким бы красноречивым человек ни был, это ещё не значит, что он сможет полностью выразить в слове всё то, что у него в мыслях. Разве я буду не прав, утверждая, что всегда есть невысказанные думы и что-то такое, что теряет аромат, как только облекается в слова?
Был такой писатель, Кавагути Мацутаро,[46]46
Кавагути Мацутаро (1899–1985) – драматург, прозаик, автор множества популярных произведений исторического и любовного жанра.
[Закрыть] он уже умер. Это именно он первым из литераторов получил премию Наоки.[47]47
Премия Наоки – престижная литературная премия Японии, присуждаемая произведениям популярных жанров. Премия основана издательством «Бунгэй сюнсю» в 1935 г. и носит имя писателя Наоки Сандзюго (1891–1934).
[Закрыть] В связи с постановкой в труппе симпа[48]48
Симпа – новая волна в традиционном театре кабуки, использование приёмов западного театра XIX-XX вв.
[Закрыть] пьесы «Могила ибиса» я был всячески обласкан Кавагути, в то время уже стариком, и я чувствую себя очень ему обязанным.
Кавагути Мацутаро был, можно сказать, истинным сыном города Эдо и, хоть невелик выдался ростом, обладал очень громким и звучным голосом, в выражениях не стеснялся. Вокруг господина Кавагути никогда не смолкал смех. Даже с такими незрелыми писателями-новичками, как я, с молодыми авторами он разговаривал откровенно и запросто, не отгораживался, и на каком-нибудь банкете, стоило появиться Кавагути, – тут же вокруг толпился народ и звучал весёлый хохот. Завидная черта характера – всегда быть ярким, словно высвеченным лучами прожектора. Кавагути Мацутаро был такой популярной личностью, что даже писатели старшего поколения на сборищах всякого рода, бывало, говорили: «Ох, жаль, не пришёл сегодня Кавама-тян,[49]49
Кавама – прозвище Кавагути Мацутаро, составленное из первых слогов фамилии и имени.
[Закрыть] без него совсем не то веселье…»
Вот бы, как Кавагути, всегда быть жизнерадостным, великодушным и беззаботным, дружить с молодыми писателями и до преклонных лет оставаться всеобщим любимцем… Так порой я втихомолку думаю, но при этом понимаю, что у Кавагути это было свойство души и стать, как он, невозможно, даже если очень постараться.
Потом Кавагути умер, прошло много лет, и в одном еженедельном журнале Ямамото Нацухико,[50]50
Ямамото Нацухико (1915–2002) – эссеист и редактор, критик, сотрудничал с различными еженедельными и ежемесячными журналами, был сторонником реформ в школьном преподавании истории и участвовал в ратующих за это общественных движениях.
[Закрыть] талантливейший колумнист, какие уже редко встречаются в наше время, поместил серию материалов с продолжением, где отчасти затронул и личность Кавагути, воспользовавшись воспоминаниями его друзей. Там были вещи поразительные, которые я прочёл с большим удивлением.
Однажды Кавагути Мацутаро якобы обратился к ближайшему собеседнику и проронил одну фразу. Текста у меня сейчас под рукой нет, так что за точность не ручаюсь и приведу эту фразу в моей собственной интерпретации: «Если и в самом деле возможно после смерти вновь переродиться в этом мире, то неужто опять человеком? Ни за что!»
Говорят, что Кавагути обронил эти слова, точно выплюнул. Это по поводу буддийского круговорота перерождений он заявил, что, даже если бы родился заново, ни за что не захотел бы стать человеком. Причём тон у Кавагути был очень откровенный и взволнованный, так что невольно услышавший эти слова не нашёлся с ответом – это чувство очень хорошо передано в журнальной публикации.
Стиль колумниста Ямамото – это лапидарные зарисовки, я же передаю всё расцвеченным моей собственной фантазией, поэтому возможно, что на самом деле всё было не совсем так, но когда я прочёл этот журнал, то был сильно удивлён.
Неужели существовала и такая сторона личности Кавагути? Я-то думал, что это славный старик, яркий и жизнерадостный, как истинный сын города Эдо, с лёгким нравом, беззаботный… Оказывается, я видел его лишь с одного бока, а глубоко в душе у него прятались тревоги и противоречия! Да, этот случай заставил меня не раз пожалеть о том, как поверхностно я сужу о людях.
Когда-то давно были сложены такие строки: «Ты посмотри в глаза – лишь кажется безбедным молчаливый». Здесь говорится, что смотреть нужно в глаза человека: «Погляди ему в глаза, ведь он всегда скромно улыбается и не скажет напрямик, что ему больно и тяжело, что он попал в беду. Чем больше человек накопил в своём сердце горестей, тоски и печали, тем острее отзовётся его боль в твоей душе» – так, мне кажется, можно перефразировать эти стихи, если прибавить многое от себя.
«Ты посмотри в глаза – лишь кажется безбедным молчаливый».
«Молчаливый» – сердце так и сжимается от этого слова.
Если у нас что-то стряслось, мы взываем к другим людям, вынуждая их слушать наши истории и наши жалобы, однако истинное горе или болезненное воспоминание въедается до мозга костей, и несущие это бремя не болтают о нём так вот, запросто. Нет, они скромно улыбаются и, даже когда их допекают расспросами, проронят лишь что-то вроде: «Да, всякое было…» – а много говорить не станут. Эта сдержанность в горе, эта тихая улыбка – не через них ли мы можем прочувствовать всю глубину и силу того, о чём молчат немногословные люди?
Одно время у меня была мысль создать нечто вроде архива репатриантов, записав на плёнку рассказы тех, кто пережил возвращение из бывших колоний в послевоенную Японию, пока память очевидцев ещё крепка. Я обошёл множество людей, выслушивая их истории.
Я ведь и сам «репатриант», но слышал, что в бывшей Маньчжурии (северо-восточные районы Китая), в колониях японских поселенцев на границе с СССР действительно творилось что-то страшное. Это и групповые самоубийства, и десятки случаев, когда школьники гибли под гусеницами советских танков, – много всего было. Я и сам всякого наслушался, пока добирался в Японию из Северной Кореи.
Намереваясь узнать обо всём этом подробнее, я разыскал людей, которые вернулись из таких мест, где, по рассказам, события развивались наиболее трагично, и с микрофоном в руках я стал их опрашивать. Я задавал наводящие вопросы: «Наверное, всякое пришлось пережить, как это было?» – и как раз те люди, которые, по моим предположениям, перенесли тяжкие лишения, никаких подробностей об этом не рассказали.
«Ну что говорить, всякое было… Да ведь теперь-то, слава богу, живу, ничего…» – вот и весь ответ да ещё застенчивая улыбка. Другие, наоборот, описывают и то, и это, повествуют о трагедии репатриантов гладко, без запинки, точно лекцию читают. Но в рассказах их есть несоответствия, собственные воспоминания перемешаны с чужими, или же их истории от частого повторения превращаются в легенды, становятся чересчур «художественными» и теряют документальную ценность. Таким образом, я в конце концов решил, что задача чересчур сложна, и бросил на полпути то начинание, которому отдал несколько лет.
Подумать обо всём этом – так выходит, что молчаливые люди несут свою печаль, у каждого человека есть в душе только его горе, только его боль, которые невозможно разделить с другими, и каждый должен сам нести это бремя.
Пожалуй, не найдётся такого таланта, который выразил бы словами эту скрытую печаль, про такое и говорится: «невыразимое», «неназываемое». Мне кажется, мы не должны забывать о том, что в душе человека есть потаённые мысли, для которых не подобрать слов.
Прекрасно, если вы умеете высказываться свободно, не жалея слов. Но мне хотелось бы, чтобы люди всегда ощущали, что у слов есть свой предел.
САМА ДУША ПЕРЕДАЁТСЯ ПРИ ОБЩЕНИИ ЛИЦОМ К ЛИЦУ
По моему мнению, есть два сорта слов: те, что доносит живой человеческий голос, и те, что передаются при помощи письменных знаков.
Люди склонны думать, что слова, выражающие глубокие мысли и содержание, передаются через письменность, но у меня несколько иное мнение. Содержание – это, конечно, тоже важно, но мне кажется, что именно звуки человеческого голоса одушевляют слова.
Есть такое старинное понятие: «воспринять, находясь лицом к лицу», по-японски мэндзю. Если термин мэндзю истолковать в ныне модных выражениях, то это что-то вроде интерфейса, однако важно здесь то, что лицом к лицу находятся два человека, расстояние между которыми таково, что они слышат дыхание друг друга, и при этом осуществляется взаимный обмен сообщениями или передача знаний. Вот это и есть «восприятие лицом к лицу».
Таким образом, издавна существовал взгляд, что различные знания: философские, научные, религиозные или, скажем, эстетические – доходят по-настоящему тогда, когда они переданы живой звучащей речью с расстояния не дальше вытянутой руки.
Монах Кукай побывал в Китае и привёз оттуда новое учение, называемое миккё,[51]51
Миккё – ответвление буддийского вероучения.
[Закрыть] однако, ещё до того как он отправился в Китай, знания его о буддизме были обширны, и в особенности глубоко он постиг учение миккё. Если задаться вопросом, зачем нужно было путешествие в Китай, то я, будучи писателем, предполагаю, что Кукай, скорее всего, ездил не за теориями, а чтобы получить наставления лицом к лицу, воспринять то, что передаётся непосредственно от учителя к ученику. По-моему, можно говорить о том, что Кукай воспринял учение миккё в общении с наставником, а после этого вернулся в Японию проповедовать.
Вероятно, при непосредственном восприятии лицом к лицу, наряду с тем содержанием, которое несут слова, человеком усваивается нечто, передаваемое выражением лица говорящего, голосом, ритмом дыхания, паузами – всем этим вместе.
В селенье Икаруга есть храм Хорюдзи. А ещё есть книга карманного формата «Новые повести о храме Хорюдзи», автор её Ота Синрю, и вот что он рассказывает (я передаю лишь общее содержание, поскольку читал книгу давно и могу допустить неточности).
С самого начала храм Хорюдзи был семинарией для монахов. Одной из основополагающих задач этого храма было совершенствовать и углублять научное знание и понимание буддийской философии. Традиции храма Хорюдзи как учебного заведения были продолжены такой выдающейся личностью, как Саэки Дзёин,[52]52
Саэки Дзёин (1867–1952) – религиозный деятель, долгое время был настоятелем храма Хорюдзи в Нара.
[Закрыть] который проделал огромную работу на рубеже Средних веков и Нового времени. Среди знаменитых монахов города Киото и города Нара было очень много таких, кто воспринял учение от преподобного Саэки. Вероучитель Саэки очень долго читал лекции в храме Хорюдзи.
Говорят, что господин Саэки родился недалеко от храма Хорюдзи и что в детстве его звали Гакудзиро – «усердный в учении». В соответствии с именем он был любознательным ребёнком, но и большим шалуном: о нём передают один эпизод, когда он мальчишкой перелез через храмовую ограду, чтобы похитить плоды хурмы. Приняв монашеский постриг, он много сделал для того, чтобы продолжить учёную традицию храма Хорюдзи.
Этот самый Саэки Дзёин устраивал в храме Хорюдзи беседы, что-то вроде семинаров. Эти лекции слушали и честолюбивые молодые монахи, и монахини из близлежащего храма Тюгудзи,[53]53
Храм Тюгудзи – расположен восточнее храма Хорюдзи, служил обителью для принявших постриг женщин из императорской семьи. Согласно легенде, храм был заложен принцем Сётоку для его матери в начале VII в.
[Закрыть] сидевшие за ширмами. Вероятно, это были действительно глубокие и содержательные беседы. Семинар Саэки Дзёина проводился и в дождь, и в непогоду.
Среди тех, кто приходил слушать эти лекции, был один молодой монах, который специально явился из провинции, чтобы воспринять учение из уст преподобного Саэки. Он был очень прилежен, ни разу не пропустил лекции и внимал Саэки, всецело обратившись в слух. К занятиям он готовился, повторял пройденное, старался учиться изо всех сил, но ведь есть же люди, не расположенные к учению, – вот и он никак не мог уяснить себе в полной мере суть буддийской философии, о которой толковал на этих занятиях Саэки.
Речь даже не шла о том, чтобы уяснить всё в полной мере, – он совсем ничего не понимал.
Ведь господин Саэки рассказывал об очень сложных вещах. Он говорил про относительность всего сущего виджнапти-матрата и толковал книгу «Абхидхармакоша-бхашья», а это даже среди буддистов считается философией высшего уровня. Есть даже такая шутка: «Три года на виджнапти-матрата, восемь лет на Абхидхармакоша-бхашья» – так высок уровень сложности этих предметов. Это всё равно что в наши дни вникнуть в тщательный анализ сферы бессознательного у Юнга и Фрейда, не так уж много найдётся людей, способных это понять.
Наш молодой монах был, видимо, очень бесхитростным юношей. Однажды он явился перед преподобным Саэки и объявил: «По правде говоря, я пришёл попрощаться. Каждый день я с горячим желанием приходил слушать ваши лекции, учитель, и на свой лад я был очень усерден, но похоже, что мне недостаёт таланта, и я не смог постичь тех важных вещей, о которых вы, учитель, говорили. Думаю, что я не гожусь для этой науки, – пойду назад в свою провинцию, буду возделывать поле, со временем ко мне перейдёт место настоятеля в храме, так и проживу. Благодарю вас, что так долго пеклись обо мне». Такова была его прощальная речь. Её внимательно выслушал Саэки Дзёин, а потом обронил лишь одну фразу: «Тысячу дней слушай и пропускай мимо ушей».
Тысяча дней – это три года за вычетом выходных. Значит, отныне ещё три года слушать и пропускать мимо ушей. Понимаешь или нет – не важно, сиди возле и внимательно слушай. Мол, нечего горячиться и шуметь, что бросишь учение, вернёшься в провинцию, – не посидеть ли тебе здесь ещё три года? Мол, просто сиди три года на камне, можешь даже не вслушиваться особенно, просто будь возле меня, а что говорю – пропускай мимо ушей.
Я воображаю, что нашему молодому монаху было сказано что-то в этом роде. Буддийское учение – это не знания. Это передаётся от человека к человеку, а самое главное впитывается через поры. Потому и было сказано, что понимать не обязательно, достаточно просто спокойно послушать. Ободрённый преподобным Саэки, молодой монах наверняка собрался с духом и вновь стал ходить на лекции. По крайней мере, три года он уж точно просто молча слушал голос преподобного Саэки – но это моё собственное предположение.
ОДИН МАЛЕНЬКИЙ ДИАЛОГ ИЗ ПЬЕСЫ «ОТШЕЛЬНИК И УЧЕНИК»
О чём говорит нам эпизод, описанный в предыдущей главе? Может быть, вот о чём: будь то буддизм, какое-либо философское учение или наука, самое важное – это не обязательно теория. Например, настрой души, сердечный жар, искренность – очень важно, чтобы это передавалось людям, ведь мы вовсе не обязательно понимаем умом изощрённые доводы, выраженные в словах. Наставник хотел сказать, что вот он собирает людей в храме Хорюдзи и ведёт с ними беседы – это оттого, что он искренен в своём стремлении передать слушателям закон Будды, буддийское учение. Даже если какие-то тонкости трудны для понимания, просидев три года возле наставника, слушая его речи, глядя в его лицо, непременно всем телом впитаешь рвущееся наружу страстное желание проповедовать. Важно именно это.
«Уж не это ли хотел сказать преподобный Саэки?» – размышляю я уже как писатель. И ещё я думаю, что именно в этом и состоит мэндзю, «восприятие лицом к лицу».
Если бы речь шла только о теории, тогда достаточно и книг. Но есть кое-что, чего письменный текст не передаёт. Иначе говоря, важные вещи, о которых не сообщает теория, содержатся в тембре голоса. Они есть и в выражении лица, и в голосе. Это надо почувствовать. Не только понимать, но и ощущать. О том, как это важно для человека, вновь заставляет нас задуматься эпизод с Саэки Дзёином.
Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы очень дорожили тем ценным даром, который передаётся от человека к человеку напрямую: в звуках голоса, касанье рук, соприкосновении кожи.
Но это с одной стороны, а с другой, конечно же, бывают ситуации, когда такое же впечатление, как и от прямой передачи знаний мэндзю, можно получить из письменного текста.
Несколько лет назад мне вдруг вздумалось прочесть книгу «Отшельник и ученик», автор которой Курата Хякудзо.[54]54
Курата Хякудзо (1891–1943) – литературный критик и драматург, в юные годы заинтересовавшийся трудами японского мыслителя Нисида Китаро, соединявшего идеи дзэн-буддизма с немецкой философией, а также примкнувший на некоторое время к религиозной общине Иттоэн, основатель которой Нисида Тэнко испытал влияние толстовского учения. Главная пьеса Кураты «Отшельник и ученик» была написана под непосредственным впечатлением от жизни в колонии Иттоэн и от общения с её харизматичным лидером.
[Закрыть] Мне и самому доводилось сочинять для театра, а такую знаменитую вещь, как пьеса «Отшельник и ученик», я не читал – даже неловко. Я принял решение непременно это прочесть.
Однако имя Кураты Хякудзо сегодня не принадлежит к тем именам, что у всех на слуху. И название «Отшельник и ученик» тоже когда-то, может быть, и произвело сенсацию, но теперешние литературные критики обходят эту пьесу своим вниманием, оценивая её довольно-таки упрощённо: «сентиментальная литература религиозного содержания». А в прошлом, когда в 1917 году молодой Курата Хякудзо написал эту пьесу, а издательство «Иванами» опубликовало, она произвела фурор среди молодёжи и стала настоящим бестселлером.
Однако теперь эта книга почти забыта, и я даже думал, что её не сразу отыщешь у книготорговцев. Предполагал, что, уж если пойти в Парламентскую библиотеку, там она будет, но на всякий случай решил сперва поискать в книжных магазинах. К моему большому удивлению, книгу я нашёл сразу. Я был поражён, так как смог приобрести маленькие книжки карманной серии как издательства «Иванами», так и издательства «Синтё».
В книгах всегда есть так называемые выходные данные, и на самой последней странице указано, когда вышло первое издание, когда были переиздания, когда напечатан данный тираж, кто его выпустил и прочие подробности. Заглянув туда, я узнал, что в 1927 году книга вошла в карманную серию «Библиотечка Иванами», многократно перепечатывалась и совсем недавно вышло, кажется, 88-е издание или что-то в этом роде, словом, там фигурировала огромная цифра. Получается, что с 1927 года книгу непрерывно кто-то читал и даже теперь почти ежегодно выпускаются её перепечатки.
Ну, а к изданию в карманной серии «Синтё» было написано предисловие, его автор Камэи Кацуитиро.[55]55
Камэи Кацуитиро (1907–1966) – литературный критик, поначалу близкий к движению пролетарской литературы и искусства, но затем заинтересовавшийся японской историей и буддизмом в интерпретации Синрана.
[Закрыть] Я узнал, что в эту серию книга была включена в 1950 году. Затем она многократно перепечатывалась и к 1997 году выдержала 79 изданий. Это меня тоже поразило.
Оказывается, игнорируемая литературными критиками пьеса «Отшельник и ученик» начиная с 1917 года и вплоть до наших дней многократно издавалась в карманных сериях «Иванами» и «Синтё», находя всё это время своих читателей! Меня очень растрогало то, что по всему Японскому архипелагу, точно подземная водяная жила, кроется в недрах целый слой людей, которые всё это время читали книгу «Отшельник и ученик».
Я ознакомился с её содержанием и был весьма заинтересован, однако подумал, что из-за большого объёма, вероятно, нелегко ставить это на сцене. Один эпизод произвёл на меня особенно сильное впечатление, и я хочу о нём здесь рассказать.
ОДНАЖДЫ ПРИДЁТ НАСТОЯЩАЯ ГРУСТЬ
То место в книге, которое тронуло мою душу, представляет собой разговор между отшельником, то есть героем пьесы монахом Синраном, и его юным учеником по имени Юйэн.[56]56
Юйэн – буддийский монах, ученик Синрана, годы жизни неизвестны.
[Закрыть] Говорят, что это Юйэн собрал записки Синрана и подготовил широко известный сборник «Таннисё». В пьесе есть небольшая сцена, где Синран и Юйэн любуются пейзажем и между ними разворачивается короткий диалог. Когда я прочитал это место, в моей душе, словно сцена из кинофильма, выплыл из памяти тот самый пейзаж. Юйэн, любуясь видом, вдруг обронил, обращаясь к Синрану;
– Учитель, временами меня неудержимо охватывает чувство печали. Иногда я сам себя не помню. Вот так, как сейчас, смотрю на дорогу, по которой идут люди, и отчего-то сердце щемит, а на глазах выступают слёзы. Возможно ли такое?
Я здесь, конечно, несколько исказил оригинал, но именно в таком духе он обратился к учителю. Он спросил это, желая знать, допустимы ли такие чувства на пути духовного служения. И Синран на это ответил:
– Это хорошо, да будет так.
Это очень тёплый разговор, словно беседа друзей. Мне кажется, здесь очень хорошо показано человеческое обаяние Синрана.
– Пусть будет так, Юйэн. Это ведь хорошо. Когда чувствуешь печаль, следует печалиться. Другого ничего не остаётся.
Когда Синран так ответил, Юйэн задал ему ещё один вопрос:
– Но тогда, может быть, и у такого человека, как вы, учитель, выпадают минуты, когда подступает печаль?
Он хотел знать, неужели и такой незаурядный человек, как укрепившийся в вере учитель Синран, порой пребывает в печали? На это Синран ответил приблизительно следующим образом (здесь только смысл, а слова я передаю неточно, позволяю себе кое-что добавить, чтобы стало понятнее):
– Мне тоже грустно. Кажется, всю мою жизнь я был грустен. Поэтому твоя печаль, Юйэн, не совсем схожа с той, бремя которой всю жизнь несу я. То, что ощущаешь как печаль ты, Юйэн, со временем пройдёт, такую печаль могут излечить обстоятельства. Но то, что гнетёт меня, словно до мозга костей пропитало моё тело, – это тяжкая глубокая скорбь. К тому же, мне кажется, я пронёс это чувство через всю мою жизнь.
Вот так приблизительно ответил Синран на вопрос Юйэна, и говорил он не как учитель с учеником, а беседовал, словно с младшим другом. И ещё он сказал:
– Когда-нибудь и ты поймёшь, что такое истинная печаль, потому что настанет время и ты тоже её почувствуешь. И когда это время придёт, Юйэн, не пытайся бежать от этой печали и не пытайся её обмануть. Не отворачивайся от себя самого, смотри печали в лицо и верно следуй своему сердцу. Ведь истинную печаль, или скорбь, судьба посылает ради твоего духовного становления.
Может быть, слова я передаю здесь неточно, но смысл наставления Синрана его юному ученику Юйэну был такой.
Когда-нибудь придёт время, и ты тоже испытаешь истинную скорбь. И тогда не беги от неё. Не хитри и не обманывай. Не пережидай, пока скорбь уйдёт. Встречай скорбь лицом к лицу, смотри на неё смело и прямо, потому что это судьба тебя воспитывает. Так ответил Синран, и разговор ученика Юйэна с его наставником даёт нам почувствовать, как глубоко было душевное взаимопонимание между этими двумя людьми.
Мне кажется, что автор пьесы, Курата Хякудзо, устами Синрана хочет сказать, что истинную веру можно обрести через строгое соблюдение религиозных ограничений и суровое самоистязание, через пребывание в неких экстремальных условиях, но это не обязательно. Когда человек подавлен скорбью и тоской, из этого тоже может прорасти истинная вера. Всё человеческое может привести к вратам, за которыми осуществляются человеческие чаяния, поэтому следует бесстрашно и открыто принять всё, что бы ни случилось. Я думаю, что именно об этом поведал Синран.
Мы читаем эту сцену так, как изобразил её литератор Курата Хякудзо, но чувствуем себя подобно Юйэну, получившему прямое наставление мэндзю из уст учителя. У нас может родиться ощущение, что это к нам дружески обращается Синран. Я думаю, что именно здесь кроется причина того, почему появившаяся в 1917 году пьеса свела с ума тогдашнюю молодёжь и имела огромный успех.
Несмотря на то что слова переданы письменными знаками, у нас возникает иллюзия, что откуда-то доносится к нам живой голос Синрана. По-моему, это одна из самых загадочных и в то же время чудесных возможностей слова, книги, печатного текста.
Несмотря на то что это письменные знаки, слова в них живут, просто форма сообщения самого сокровенного изменилась. И всё-таки у слов есть свой предел. Ведь прямое общение мэндзю – это не только слова, потому что и дыхание, и глянец кожи, и выражение глаз могут о чём-то рассказать. Мне не раз приходилось почувствовать, как всё это важно.
В процессе мышления одновременно выдвигаются два противоположных тезиса, и быть может, мы способны познать истину, совершая попеременное движение от одного полюса к другому, то туда, то обратно, – в английском языке это называют словом «свинг». Нельзя застывать на одном полюсе. Вот такое ощущение живёт в глубине моего сердца.
Если говорить о мечтах, то противоположностью им будут разочарования, то есть мечта – это лучик света, прорезывающий глубокую тьму разочарования. Право, трудно даже говорить о том, чтобы там, где есть один лишь яркий свет, возникали мечты. Ну конечно же, в отчаянии, в тоске, в сомнении, в страдании человек судорожно пытается за что-то ухватиться, тянется щупальцами своей души и туда, и сюда. И так, качаясь между двумя полюсами, мы что-то постигаем. Толчком для этого может стать слово, письменный текст или же общение лицом к лицу – мэндзю.
В последнее время один за другим случаются всевозможные инциденты, вызывающие много разговоров о школьном образовании. Некоторые даже прибегают к крайностям и заявляют, что уж лучше бы совсем не было такого школьного образования, как теперь. Однако я считаю, что школа очень нужна.
Неважно, большая школа или маленькая, но ведь дети там, по крайней мере, учатся все вместе, в тесном соприкосновении и физическом контакте. Они могут что-то воспринять, находясь лицом к лицу с учителем и слыша вживую его голос. Разве уже это не важно?
Сейчас стали проводиться занятия через Интернет, появилось обучение при помощи компьютера – я не собираюсь всё это огульно отрицать. Ведь буквы, письменность, книги, по которым учились мы, тоже являются продуктом великой революции в средствах массовой коммуникации.
Новейшая революция информационных технологий лишь продолжает этот процесс. Я ничего не имею против компьютеров, только вот, когда везде одни компьютеры, не утратим ли мы что-то очень важное, если не станем больше ценить такое человеческое общение, при котором можно услышать живой голос собеседника, – то, что называют мэндзю?
Где слова – там и голос, где голос – там и ритм. Ритм неразрывно связан с дыханием. У каждого это по-своему, все мы разные. Печатное слово, в общем-то, унифицировано. А вот человеческий голос, манера говорить – это уникально.
Посредством унифицированных печатных знаков, через такого абстрактного посредника, как человеческий язык, мы тоже можем прикоснуться к истине и вере, а то, что таким путём воспринять не удастся, нам передаст живой человеческий голос, полный теплоты взгляд или вздох – я уверен, что важны оба пути.
Слова очень важны, и при этом слова – ещё не всё. Мне бы хотелось не склоняться ни к одной из этих двух крайностей, пусть для нас будет ценно и то и другое. Правильный и красивый язык имеет большое значение. Но очень много значит и звучание голоса – речь может показаться шероховатой, но от этого она ещё выразительнее. Необходимо прилагать усилия, чтобы научиться говорить на стандартном японском языке правильно и красиво, и в то же время нужно стремиться к тому, чтобы связанный с вашими собственными корнями местный диалект не стал предметом насмешек и презрения, чтобы его не использовали как дешёвый аттракцион.
Чем больше я размышляю о том, что наш век – это век, когда слова лишь скользят по поверхности и не имеют силы, тем больше я стремлюсь хоть как-то вернуть реальный смысл своим собственным словам. Вернуть своим словам весомость и значимость – вот чего бы я действительно желал.