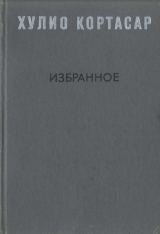
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)
Вздохнув, Арт допил свое пиво и скорбно уставился на меня. Я спросил, что было с Джонни потом. Арт сказал, что после того, как Джонни прожужжал им все уши своими историями о листьях и полях, покрытых урнами, он отказался дальше играть и, шатаясь, ушел из студии. Марсель отобрал у него саксофон, чтобы он его опять не потерял или не разбил, и вместе с одним из ребят-французов отвел в отель.
Что мне остается делать? Надо тут же идти навещать его. Но все-таки я откладываю это на завтра. А завтра встречаю имя Джонни в полицейской хронике «Фигаро», потому что ночью Джонни якобы поджег номер и бегал нагишом по коридорам отеля. Ни он, ни Дэдэ не пострадали, но Джонни находится в клинике под врачебным надзором. Я показываю газетное сообщение своей выздоравливающей жене, чтобы успокоить ее, и немедля отправляюсь в клинику, где мое журналистское удостоверение не производит ни малейшего впечатления. Мне удается лишь узнать, что Джонни галлюцинирует и совершенно отравлен марихуаной, – такой лошадиной дозы хватило бы, чтобы свести с ума десять человек. Бедняга Дэдэ не смогла устоять, убедить его бросить наркотики; все женщины Джонни в конце концов превращаются в его сообщниц, и я дал бы руку на отсечение, что марихуану ему раздобыла маркиза.
В конечном итоге я решил тотчас пойти к Делоне и попросить его дать мне как можно скорее послушать «Amour’s». Кто знает, может быть, «Amour’s» – это завещание бедного Джонни. А в таком случае моим профессиональным долгом было бы…
Однако нет. Пока еще нет. Через пять дней мне позвонила Дэдэ и сказала, что Джонни чувствует себя намного лучше и хочет видеть меня. Я не стал упрекать ее: во-первых, потому, что это, на мой взгляд, пустая трата времени, и, во-вторых, потому, что голос бедняжки Дэдэ, казалось, выдавливался из расплющенного чайника. Я обещаю сейчас же прийти и говорю ей, что, когда Джонни совсем поправится, надо бы устроить ему турне по городам внутренних провинций. Дэдэ начала всхлипывать, и я повесил трубку.
Джонни сидит в кровати. Двое других больных, к счастью, спят. Прежде чем я успел что-нибудь сказать, он схватил мою голову своими ручищами и стал чмокать меня в лоб и в щеки. Он страшно худой, хотя сказал мне, что кормят хорошо и аппетит нормальный. Больше всего его волнует, не ругают ли его ребята, не навредил ли кому его кризис, и т. д. и т. п. Отвечать ему, в общем, незачем, потому что он прекрасно знает, что концерты отменены и это сильно ударило по Арту, Марселю и остальным. Но он спрашивает меня, словно надеясь услышать что-то хорошее, ободряющее. И все же ему меня не обмануть: где-то глубоко за этой тревогой кроется великое безразличие ко всему на свете. Ни струнка не дрогнула бы в душе Джонни, если бы все полетело к чертовой матери, – я знаю его слишком хорошо, чтобы ошибиться.
– О чем теперь толковать, Джонни. Все могло бы сойти лучше, но у тебя талант губить всякое дело.
– Да, спорить не стану, – устало говорит Джонни. – Но все-таки виноваты урны.
Мне вспоминаются слова Арта, и я не отрываясь гляжу на него.
– Поля, покрытые урнами, Бруно. Сплошь одни невидимые урны, зарытые на огромном поле. Я там шел и все время обо что-то спотыкался. Ты скажешь, мне приснилось, конечно. А было так, слушай: я все спотыкался об урны и наконец понял, что поле сплошь забито урнами, которых там сотни, тысячи, и в каждой пепел умершего. Тогда, помню, я нагнулся и стал отгребать землю ногтями, пока одна урна не показалась из земли. Да, хорошо помню, я помню, мне подумалось: «Эта наверняка пустая, потому что она для меня». Глядишь – нет, полным-полна серого пепла, такого, какой, я уверен, был и в других, хотя я их не открывал. Тогда… тогда, мне кажется, мы и начали записывать «Amourʼs».
Украдкой гляжу на табличку с кривой температуры. Вполне нормальная, не придерешься. Молодой врач просунул голову в дверь, приветственно кивнул мне и ободряюще салютовал Джонни, почти по спортивному. Хороший малый. Но Джонни ему не ответил, и, когда врач скрылся за дверью, я заметил, как Джонни сжал кулаки.
– Этого им никогда не понять, – сказал он мне. – Они все равно как обезьяны, которым дали метлы в лапы, или как девчонки из консерватории Канзас-Сити, которые думают, что играют Шопена, ей-богу, Бруно. В Камарильо меня положили в палату с тремя другими, а утром является практикант, такой чистенький, розовенький – загляденье. Ни дать ни взять сын Клинекса и Темпекса, честное слово. И этот ублюдок садится рядом и принимается утешать меня, когда я только и желал, что помереть, и уже не думал ни о Лэн, ни о ком. А этот тип еще обиделся, когда я от него отмахнулся. Он, видать, ждал, что я встану, завороженный его белым личиком, прилизанными волосенками и полированными ноготками, и исцелюсь, как эти хромоногие, которые приползают в Лурд, швыряют костыли и начинают скакать козами…
Бруно, этот тип и те другие типы из Камарильо какие-то убежденные. Спросишь в чем? Сам не знаю, клянусь, но в чем-то очень убежденные. Наверно, в том, что они очень правильные, что они ох как много стоят со своими дипломами. Нет, не то. Некоторые из них скромники и не считают себя непогрешимыми. Но даже самый скромный чувствует себя уверенно. Вот это и бесит меня, Бруно, что они чувствуют себя уверенно. В чем их уверенность, скажи мне, пожалуйста, когда даже у меня, подонка с тысячей болячек, хватает ума, чтобы разглядеть, что все кругом на соплях, на фу-фу держится. Надо только оглядеться немного, почувствовать немного, помолчать немного – и везде увидишь дыры. В двери, в кровати – дыры. Руки, газеты, время, воздух – все сплошь в пробоинах; все как губка, как решето, само себя дырявящее… Но они – это американская наука собственной персоной, понимаешь, Бруно? Своими халатами они защищаются от дыр. Ничего не видят, верят тому, что скажут другие, а воображают, что видели сами. И конечно, они не могут видеть вокруг себя дыры и очень уверены в себе, абсолютно убеждены в необходимости своих рецептов, своих клизм, своего проклятого психоанализа, своих «не пей», «не кури»… Ох, дождаться бы дня, когда я смогу сорваться с места, сесть в поезд, смотреть в окошко и видеть, как все остается позади, разбивается на куски… Не знаю, заметил ли ты, как бьется на куски все, что мелькает мимо…
Закуриваем «Голуаз». Джонни разрешили немного коньяка и не более восьми-десяти сигарет в день. Но видно, что курит, если можно так сказать, его телесная оболочка, что сам он вовсе не здесь, – будто не желает вылезать из глубокого колодца. Я спрашиваю себя, что он увидел, перечувствовал за последние дни. Мне не хочется волновать его, но если бы вдруг ему самому вздумалось рассказать… Мы курим, молчим, иногда Джонни протягивает руку и водит пальцами по моему лицу, словно убеждаясь, что это я. Потом постукивает по своим наручным часам, глядит на них с нежностью.
– Дело в том, что они считают себя мудрецами, – говорит он вдруг. – Они считают себя мудрецами, потому что замусолили кучу книг и проглотили их. Меня просто смех разбирает: ведь, в общем, они неплохие ребята, а уверены в том, что все, чему они учатся и что делают, очень трудно и очень умно. В цирке тоже так, Бруно, и среди нас тоже. Люди думают, что некоторые вещи сделать трудно, и потому аплодируют циркачам или мне. Я не знаю, что им при этом кажется. Что человек на части разрывается, когда хорошо играет? Или что акробат руки-ноги ломает, когда прыгает? В жизни настоящие трудности совсем иные, они вокруг нас – это все то, что людям представляется самым простым да обычным. Смотреть и видеть, например, или понимать собаку или кошку. Все это трудно, чертовски трудно. Вчера вечером я почему-то стал глядеть на себя в зеркало, и, поверь, это было страшно трудно, я чуть не скатился с кровати. Представь себе, что ты со стороны увидел себя, – одного этого хватит, чтоб остолбенеть на полчаса. Ведь в действительности этот тип в зеркале не я; мне сразу стало ясно – не я. Еще раз глянул, еще, так и сяк – нет, не я, Душой почувствовал, а уж если почувствуешь… Но получается, как в Палм-Бич, где на одну волну накатывает другая, за ней еще… Только успеешь что-то почувствовать, уже накатывает другое, приходят слова… Нет, не слова, а то, что в словах, какая-то липкая ерунда, тягучие слюни. И слюни душат тебя, текут, и тут начинаешь верить, что тот, в зеркале, – ты. Ясное дело, как не понять. Как не признать себя – мои волосы, мой шрам. Но люди-то не понимают, что узнают себя только по слюням. Потому им так легко глядеться в зеркало. Или резать хлеб ножом. Ты режешь хлеб ножом?
– Случается, – говорю я шутливо.
– И тебе хоть бы что. А я не могу. Один раз за ужином как швырну все к черту – чуть глаз не вышиб ножом японцу за соседним столиком. Было это в Лос-Анджелесе, скандал получился жуткий… Я им объяснял, но они меня схватили. А мне казалось, понять так просто. В тот раз я познакомился с доктором Кристи. Хороший парень, а что я про врачей…
Он машет рукой, рассекая воздух с разных сторон, и словно остаются там невидимые взрезы. Улыбается. Мне же чудится, что он один, совершенно один. Я просто пустое место рядом с ним. Если бы Джонни случилось ткнуть меня рукой, она прошла бы сквозь меня, как сквозь дым. Потому-то, наверно, он так осторожно гладит пальцами мое лицо.
– Вот хлеб на скатерти, – говорит Джонни, глядя куда-то вдаль. – Вещь хорошая, ничего не скажешь. Цвет чудесный, аромат. В общем, я – одно, а это – совсем другое, ко мне никак не относится. Но если я к нему прикасаюсь, протягиваю руку и беру его, тогда ведь что-то меняется… Тебе не кажется? Хлеб не часть меня, но вот я беру его в руку, ощущаю и чувствую, что он тоже существует в мире. Если же я могу взять и почувствовать его, тогда, значит, и вправду нельзя сказать, что эта вещь сама по себе, а я сам по себе? Или, ты думаешь, можно?
– Дорогой мой, тысячелетиями великое множество длиннобородых умников ломали себе головы, решая эту проблему.
– В хлебе своя суть, – бормочет Джонни, закрывая лицо руками. – А я осмеливаюсь брать его, резать, совать себе в рот. И ничего не происходит, я вижу. Вот это-то самое страшное. Ты понимаешь, как это страшно, что ничего не происходит? Режешь хлеб, вонзаешь в него нож, а вокруг все по-старому. Нет, это немыслимо, Бруно.
Меня стало беспокоить выражение лица Джонни, его возбуждение. Все труднее и труднее было возвращать его к разговору о джазе, о его прошлом, о его планах, возвращать к действительности. (К действительности. Я написал это слово, и самому стало муторно. Джонни прав, это не может быть действительностью. Если действительно, что ты – джазовый критик, значит, действительно и то, что существует некто, могущий оставить тебя в дураках. Но с другой стороны, нельзя плыть по течению за Джонни – так все мы в конце концов сойдем с ума.)
Затем он заснул или по крайней мере притворился спящим, сомкнув веки. И уже в который раз приходит на ум, как трудно определить, что он делает в данный момент и что есть Джонни. Спит ли, прикидывается спящим, полагает ли, что спит. Неизмеримо труднее уловить сущность Джонни, чем любого другого моего приятеля. И при этом он самый что ни на есть вульгарный, самый обыкновенный, привыкший к перипетиям самой жалкой жизни человек, которого можно подбить на всё, – так кажется. Отнюдь не оригинальная личность – так кажется. Всякий может легко уподобиться Джонни, если согласится стать таким бедолагой, больным, порочным, безвольным, – всякий, если только имеешь поэтический дар и талант. Так кажется. Я, привыкший в своей жизни восхищаться всевозможными гениями – Эйнштейнами, Пикассо, всеми этими именами из святцев, которые каждый может составить для себя в одну минуту (Ганди, Чаплин, Стравинский и т. п.), готов, как и любой другой человек, допустить, что подобные уникумы ходят по небу, как по земле, и не удивлюсь ничему, что бы они ни делали. Они во всем отличны от нас, и говорить тут не о чем. Но отличие Джонни загадочно и раздражает своей необъяснимостью, потому что это отличие в самом деле трудно объяснить. Джонни не гений, он ничего не открыл, играет в джазе, как тысячи других негров и белых, и, хотя играет лучше их всех, надо признать, что слава в какой-то степени зависит от вкусов публики, от моды, от эпохи, в конце концов. Панасье, например, находит, что Джонни просто никуда не годится, хотя мы полагаем, что никуда не годится сам Панасье, во всяком случае, об этом можно спорить. И все это доказывает, что в Джонни вовсе нет ничего сверхъестественного, но стоит мне так подумать, как я тут же снова спрашиваю себя, а точно ли в Джонни нет ничего сверхъестественного? (О чем сам он, конечно, и не догадывается.) Он, наверно, хохотал бы до упаду, если ему об этом сказать. В общем-то, я хорошо знаю, о чем он думает, чем живет. Я говорю «чем живет», потому что Джонни… Впрочем, не буду в это вдаваться, мне только хотелось уяснить для себя самого, что расстояние, отделяющее Джонни от нас, не имеет объяснений, оно создается необъяснимыми различиями. И мне кажется, он первый страдает от последствий этого и мучается так же, как и мы. Тут как бы напрашивается определение, что Джонни – это ангел среди людей, но элементарная честность заставляет прикусить язык, добросовестно перефразировать эти слова и признать, что, может быть, именно Джонни – человек среди ангелов, реальность среди ирреальностей, то есть среди всех нас. Иначе зачем Джонни трогает мое лицо пальцами и заставляет меня чувствовать себя таким несчастным, таким призрачным, таким ничтожным со всем моим прекрасным здоровьем, моим домом, моей женой, моим престижем? Да, моим престижем – вот что самое главное. Самое главное – моим престижем в обществе.
Но, как всегда, едва я выхожу из больницы и окунаюсь в шум улицы, в водоворот времени, во все свои хлопоты, блин, плавно перевернувшись в воздухе, шлепается на сковородку другой стороной. Бедный Джонни, как далек он от реальности. (Да-да, именно так. Мне гораздо легче так думать теперь, в кафе, спустя два часа после посещения больницы, думать, что все сказанное мною выше – это словно вынужденное признание человека, приговоренного хотя бы иногда быть честным с самим собой.)
К счастью, дело с пожаром уладилось, ибо, как я и предполагал заранее, маркиза постаралась, чтобы дело с пожаром уладилось. Дэдэ и Арт Букайя зашли за мной в редакцию газеты, и мы втроем пошли в «Викс» послушать уже прославленную – хотя еще и не размноженную – запись «Amour’s». В такси Дэдэ без особого энтузиазма рассказала мне, как маркиза вызволила Джонни, хотя, в общем-то, был только прожжен матрац да страшно перепуганы алжирцы, жившие в гостинице на улице Лагранж. Штраф (уже уплаченный), другой отель (уже найденный Тикой) – и выздоравливающий Джонни лежит в огромной роскошной кровати, пьет молоко ведрами и читает «Пари-матч» и «Нью-Йоркер», заглядывая в свой знаменитый (весьма потрепанный) томик поэм Дилана Томаса, весь испещренный карандашными пометками.
После этих новостей и коньяка в кафе на углу мы располагаемся в зале для прослушивания и ждем, когда пустят «Amour’s» и «Стрептомицин». Арт просит погасить свет и растягивается на полу – так удобнее слушать. И вот врывается Джонни и швыряет нам свою музыку в лицо, – врывается, хотя и лежит в это время в отеле на кровати, и четверть часа крутит нас своей музыкой. Я понимаю, почему он яростно противится выпуску «Amour’s», – можно уловить фальшивые ноты, дыхание, особенно слышное при концовке некоторых фраз, и, конечно же, дикий обрыв в финале, острый короткий скрежет: мне почудилось, что разорвалось сердце, что нож вонзился в хлеб (он ведь говорил недавно о хлебе). Но Джонни как раз и не ухватывает того, что нам кажется ужасающе прекрасным, – страстное томление, ищущее выхода в этой импровизации, где звуки мечутся, вопрошают, отчаянно стучатся в закрытую дверь. Джонни вовек не понять (ибо то, что он считает своим поражением, для нас – откровение или по крайней мере проблеск нового), что его «Amour’s» – одно из величайших джазовых творений. Художник, живущий в нем, всегда задыхался бы от ярости, слыша эту пародию на желанное самовыражение, на все то, что ему хотелось сказать, когда он боролся, раскачиваясь, как безумный, исходя слюной и музыкой, наедине, совсем наедине с тем, что он преследует, что ускользает от него, и тем быстрее, чем настойчивее он преследует. Да, интересно, это надо было услышать, ибо «Amour’s» – это синтез его творчества, и я наконец понял, что Джонни не жертва, не преследуемый, как все думают, как я сам изобразил его в своей книге о нем (кстати сказать, недавно появилось английское издание, идущее нарасхват, как кока-кола), понял, что Джонни – сам преследователь, а не преследуемый, что все его срывы – это неудачи охотника, а не броски затравленного зверя. Никому не дано знать, за чем гонится Джонни, но преследование безудержно, оно во всем: в «Amour’s», в дыму марихуаны, в его загадочных речах о всякой всячине, в болезненных срывах, в книжке Дилана Томаса; оно целиком захватило беднягу, который зовется Джонни, и возвеличивает его и делает живым воплощением абсурда, охотником без рук и ног, зайцем, стремглав летящим вслед за дремлющим тигром. И если говорить откровенно, при звуках, «Amour’s» у меня к горлу подкатывает тошнота, будто она помогает мне освободиться от Джонни, от всего того, что в нем бушует против меня и других, от этой черной бесформенной лавины, этого безумного шимпанзе, который водит своими пальцами по моему лицу и умиленно мне улыбается.
Арт и Дэдэ не увидели (я думаю, не хотели видеть) ничего, кроме формальной красоты «Amour’s». Дэдэ даже больше понравился «Стрептомицин», где Джонни импровизирует со своей обычной легкостью, которую публика считает верхом исполнительского искусства, а я воспринимаю, скорее, как его презрение к форме, желание дать волю музыке, унестись в неизведанное…
Позже, на улице, я спрашиваю Дэдэ, каковы планы Джонни. Она мне говорит, что, как только он выйдет из отеля (полиция его пока задерживала), будет выпущена новая серия пластинок с записью вещей по его выбору, и это даст большие деньги. Арт подтверждает, что у Джонни тьма великолепных идей и что, пригласив Марселя Гавоти, они «изобразят» что-нибудь новенькое вместе с Джонни. Однако последние недели показали, что сам Арт не очень-то верит в это, я знаю о его переговорах с одним антрепренером насчет возвращения в Нью-Йорк. И прекрасно понимаю бедного парня.
– Тика просто прелесть, – с горечью говорит Дэдэ. – Конечно, для нее это легче легкого. Явиться под занавес, раскрыть кошелечек – и все улажено. А вот мне…
Мы с Артом переглянулись. Что можно ей ответить? Женщины всю свою жизнь крутятся вокруг Джонни и вокруг таких, как Джонни. И это не удивительно, и вовсе не обязательно быть женщиной, чтобы чувствовать обаяние Джонни. Самое трудное – вращаться вокруг него, не сбиваясь с определенной орбиты, как хороший спутник, как хороший критик. Арт не был тогда в Балтиморе, но я помню времена, когда познакомился с Джонни, – он жил с Лэн и детьми. На Лэн жалко было смотреть. Впрочем, когда поближе узнаешь Джонни, послушаешь его бред наяву, его россказни о том, чего никогда и не случалось, испытаешь его внезапные приливы нежности, тогда нетрудно понять, почему у Лэн было такое лицо и почему у нее не могло быть другого выражения лица, когда она жила с Джонни. Тика – иное дело; ее спасает круговорот новых впечатлений, светская жизнь, а кроме того, ей удалось «ухватить доллар за хвост, а это поважнее, чем иметь в руках пулемет», – по крайней мере так говорит Арт Букайя, когда злится на Тику или страдает от головной боли.
– Приходите почаще, – просит меня Дэдэ. – Ему нравится болтать с вами.
Я с удовольствием отчитал бы ее за пожар (причина которого, безусловно, и на ее совести), но знаю – это пустой номер, все равно что уговаривать самого Джонни превратиться в нормального, полезного человека. Пока все наладилось. Любопытно, как только у Джонни дела налаживаются, я испытываю огромное удовлетворение (но и тревогу тоже). Я не так наивен, чтобы относить это лишь за счет дружеских чувств. Скорее, это для меня отсрочка, своего рода передышка. Но к чему искать объяснения, если я ощущаю это так же естественно, как, скажем, ощущаю нос на собственной физиономии. Меня бесит, что я один чувствую это и страдаю от этого. Меня бесит, что Арту Букайя, Тике и Дэдэ в голову не приходит одна простая мысль: когда Джонни мучается, сидит в тюрьмах, пытается покончить с собой, поджигает матрацы или бегает нагишом по коридорам отеля, он ведь как-то расплачивается и за них, гибнет за них, причем не зная об этом, – не в пример тем, кто произносит громкие слова на эшафоте или пишет книги, обличая людские пороки, или играет на фортепьяно с таким пафосом, будто очищает мир от всех грехов. Да, не зная об этом, будучи всего-навсего беднягой саксофонистом – хотя такое определение и может показаться смешным, – одним из множества бедняг саксофонистов.
Все правильно, но, если я буду продолжать в том же духе, я расскажу, пожалуй, больше о себе, чем о Джонни. Я начинаю казаться себе евангелистом, а это не доставляет мне никакого удовольствия. По пути домой я подумал, с цинизмом, необходимым для обретения веры, что правильно сделал, упомянув в книге о Джонни лишь походя, весьма осторожно о его патологических странностях. Абсолютно незачем сообщать публике, что Джонни верит в свои блуждания по полям с закрытыми урнами или что картины оживают, когда он на них смотрит, – словом, о его наркотических галлюцинациях, исчезающих, когда он выздоравливает. Но я не могу отделаться от чувства, что Джонни дает мне на храпение свои призрачные образы, рассовывая их по моим карманам, как носовые платки, чтобы востребовать в нужное время. И мне думается, я единственный, кто их хранит, копит и боится; и никто этого не знает, даже сам Джонни. В этом невозможно признаться Джонни, как вы признались бы действительно великому человеку, перед которым мы унижаемся, в надежде получить мудрый совет. И зачем только жизнь взвалила на меня такую ношу? Какой я, к черту, евангелист? В Джонни нет ни грана величия, я раскусил его с первого дня, как только начал восхищаться им. Сейчас меня уже не удивляет это отсутствие величия, хотя вначале и сбивало с толку, вероятно, потому, что с такой меркой можно подходить далеко не ко всякому человеку, тем более к джазисту. Не знаю почему (не знаю почему), но одно время я верил, что в Джонни есть величие, которое он день за днем разоблачает (или мы сами разоблачаем, а это не одно и то же, потому что – будем честны с собой – в Джонни словно таится призрак другого Джонни, каким он мог бы быть, и тот, другой Джонни велик; к нему как к призраку вроде бы неприменимы такие мерки, как величие, но тем не менее оно в нем странным образом чувствуется и проявляется).
Хочу добавить, что попытки, которые предпринимал Джонни, чтобы вырваться из тисков жизни – от неудачного покушения на самоубийство до курения марихуаны, – именно таковы, каких и следовало бы ожидать от человека, лишенного величия. Но мне кажется, поэтому я восхищаюсь им еще больше – ведь, по сути дела, он просто шимпанзе, который желает научиться читать; бедняга, который бьется головой об стену, ничего не достигает и все равно продолжает биться.
Да, но, если однажды шимпанзе научится читать, это будет катастрофа, всемирный потоп и – спасайся, кто может, – я первый. Страшно, когда человек, отнюдь не великий, с таким упорством долбит лбом стену. Он обвиняет нас хрустом своих костей, повергает в прах своей музыкой. (Святые мученики или герои – ладно, от них знаешь, чего ждать. Но Джонни!)
Наваждение. Не знаю, как лучше выразиться, по иногда на человека накатывает какое-то жуткое или дурацкое наваждение, подвластное непостижимому закону, который распоряжается, чтобы после внезапного телефонного звонка, например, как снег на голову на вас свалилась сестра из далекой Оверни, или вдруг сбежало молоко, которое вы поставили на плиту, или, выйдя на балкон, вы увидели мальчишку под колесами автомобиля. И кажется, судьба, как в футбольных командах или правительственных органах, сама находит заместителя, если выбывает основная фигура. Так и этим утром, когда я еще наслаждался сознанием того, что Джонни Картер поправляется и утихомиривается, мне вдруг звонят в редакцию. Срочный звонок от Тики, а новость такова: в Чикаго только что умерла Би, младшая дочь Лэн и Джонни, и он, конечно, сходит с ума, и было бы хорошо, если бы я протянул друзьям руку помощи.
Я снова поднимаюсь по лестнице отеля – сколько лестниц я излазил за время своей дружбы с Джонни! – и вижу Тику, пьющую чай; Дэдэ, окунающую полотенце в таз; Арта, Делоне и Пепе Рамиреса, шепотом обменивающихся свежими впечатлениями о Лестере Янге, и Джонни, тихо лежащего в постели, мокрое полотенце на лбу и абсолютно спокойное, даже чуть презрительное выражение лица. Я тут же подальше прячу сострадательную мину, крепко жму руку Джонни, зажигаю сигарету и жду.
– Бруно, у меня вот здесь болит, – произносит через некоторое время Джонни, дотронувшись до того места на груди, где полагается быть сердцу. – Бруно, она белым камешком лежала у меня на руке. А я всего только бедная черная кляча, и никому, никому не осушить моих слез.
Он говорит торжественно, почти речитативом, Тика глядит на Арта, и оба понимающе кивают друг другу, благо на глазах Джонни мокрое полотенце и он не может их видеть. Мне всегда претит дешевое красноречие, но слова Джонни, если не говорить о том, что подобное и где-то уже читал, кажутся мне маской, которой он прикрывается, – так напыщенно и банально они звучат. Подходит Дэдэ с другим мокрым полотенцем и меняет ему компресс. На какой-то миг я вижу лицо Джонни – пепельно-серого цвета, с искаженным ртом и плотно, до морщин, сомкнутыми веками. И как всегда бывает с Джонни, случилось то, чего никто не ожидал, – Пепе Рамирес, который его очень мало знал, до сих пор не может опомниться от неожиданности или, я бы сказал, от скандальности происшедшего: Джонни вдруг садится в кровати и начинает браниться, медленно, смакуя каждое слово и влепляя его, как пощечину; он ругает тех, кто посмел записать на пластинку «Amour’s», он ни на кого не глядит, но пригвождает нас, как жуков к картону, отборными ругательствами. Так поносит он минуты две всех причастных к записи «Amour’s», начиная с Арта и Делоне, потом меня (хотя я…) и кончая Дэдэ, поминает и всемогущего господа бога и… мать, которая, оказывается, родила всех без исключения.
А в сущности, эта тирада и та, про белый камешек, не более как заупокойная молитва по его Би, умершей в Чикаго от воспаления легких.
Прошли две безалаберные недели: масса работы, газетные статьи, беготня – в общем, все то, без чего немыслима жизнь критика, человека, который может жить только тем, что перепадет: новостями и чужими делами.
Беседуя об этом, сидим мы тихо-мирно как-то вечером – Тика, Малышка Леннокс и я – в кафе «Флор», напеваем «Далеко, далеко, не здесь» и обсуждаем соло на фортепьяно Билли Тейлора, который всем нам троим нравится, особенно Малышке Леннокс, которая, кроме всего прочего, одета по моде Сен-Жермен-де-Прэ и выглядит очаровательно. Малышка с понятным восхищением – ей ведь всего двадцать лет – взглянет затем на входящего Джонни, а Джонни будет смотреть на нее, не видя, и побредет дальше, вдребезги пьяный или словно во сне, пока не сядет за соседний пустой столик. Рука Тики ложится мне на колено.
– Смотри, опять накурился вчера вечером. Или сегодня днем. Эта женщина…
Я без особой охоты отвечаю, что Дэдэ не более виновата, чем любая другая, начиная с нее, с Тики, которая десятки раз курила вместе с Джонни и готова закурить снова хоть завтра, будь на то ее святая воля. Мне нестерпимо захотелось уйти и остаться одному, как всегда, когда нельзя подступиться к Джонни, побыть с ним, около него. Я вижу, как он рисует что-то пальцем на столе, потом долго глядит на официанта, спрашивающего, что он будет пить. Наконец Джонни изображает в воздухе нечто вроде стрелы и как бы с трудом поддерживает ее обеими руками, будто она весит черт знает сколько. Люди за другими столиками начинают похихикивать, не скупясь на остроты, как это принято в кафе «Флор». Тогда Тика говорит: «Подонок», идет к столику Джонни и, отослав официанта шепчет что-то на ухо Джонни. Понятно, Малышка тут же выкладывает мне свои самые сокровенные мечты, но я деликатно даю ей понять, что сегодня вечером Джонни надо оставить в покое и что хорошие девочки должны рано идти бай-бай, желательно в сопровождении джазового критика. Малышка мило смеется, ее рука нежно гладит мои волосы, и мы спокойно разглядываем идущую мимо девицу, у которой лицо покрыто плотным слоем белил, а глаза и даже рот густо накрашены зеленым. Малышка говорит, что это, в общем, неплохо смотрится, а я прошу ее тихонько напеть мне один из блюзов, которые принесли ей славу в Лондоне и Стокгольме. Потом мы снова возвращаемся к мелодии «Далеко, далеко, не здесь», которая этим вечером привязалась к нам, как собака с мордой в белилах и с зелеными кругами около глаз.
Входят двое парней из нового квинтета Джонни, и я пользуюсь случаем, чтобы спросить их, как прошло вечернее выступление. И узнаю, что Джонни едва мог играть, но то, что он сыграл, стоило всех импровизаций некоего Джона Льюиса, если предположить, что он вообще способен импровизировать, ибо, как поясняет один из ребят, «у него всегда под рукой ноты, чтобы заполнить пустоту», а это уже не импровизация. Я меж тем спрашиваю себя, до каких пор продержится Джонни и, главное, публика, верящая в Джонни. Ребята от пива отказываются, мы с Малышкой остаемся одни, и мне не удается увильнуть от ее расспросов, и приходится втолковывать Малышке, которая действительно заслуживает свое прозвище, что Джонни большой и конченый человек, что парни из квинтета скоро по горло будут сыты такой жизнью, что все со дня на день может лопнуть, как это уже не раз бывало в Сан-Франциско, в Балтиморе и в Нью-Йорке.
Входят другие музыканты, играющие в этом квартале. Некоторые направляются к столику Джонни и здороваются с ним, но он глядит на них словно откуда-то издалека, с совершенно идиотским выражением – глаза влажные, жалкие, по отвисшей губе текут слюни. Забавно в это время наблюдать за поведением Тики и Малышки: Тика, пользуясь своим влиянием на мужчин, с улыбкой и без лишних слов заставляет их отойти от Джонни; Малышка, выдыхая мне в ухо слова восхищения Джонни, шепчет, как хорошо было бы отвезти его в санаторий и, вылечить, – и, в общем, только потому, что она ревнует и хочет сегодня же переспать с Джонни, но на сей раз это, судя по всему, невозможно, к моей немалой радости. Как нередко бывает во время наших встреч, я начинаю думать о том, что, наверно, очень приятно гладить бедра Малышки, и едва удерживаюсь, чтобы не предложить ей пойти вдвоем выпить глоточек в более укромном месте (она не захочет, и, по правде говоря, я тоже, потому что мысли об этом соседнем столике отравили бы все удовольствие). И вдруг, когда никто не подозревал, что такое может случиться, мы видим, как Джонни медленно встает, смотрит на нас, узнает и направляется прямо к нам, точнее, ко мне, так как Малышка в счет не идет. Подойдя к столику, он слегка, без всякой рисовки, наклоняется, словно желая взять жареную картофелину с тарелки, и начинает опускаться передо мною на колени. И вот он уже, без всякой рисовки, стоит на коленях и смотрит мне в глаза, и я вижу, что он плачет, и без слов понимаю, что Джонни плачет по маленькой Би.








